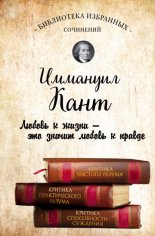Женщины Цезаря Маккалоу Колин
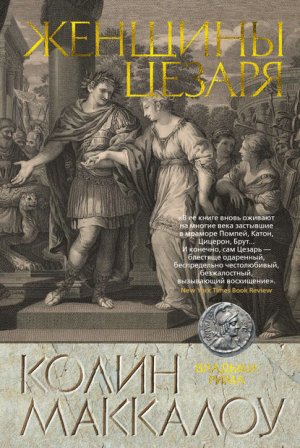
– Согласен. Год предстоит неудачный. Но по крайней мере, когда придет срок баллотироваться на более высокий пост, выборщики вспомнят тебя. Даже я мог бы за тебя проголосовать.
Братья Метеллы направлялись на Палатин, но прошли немного по Священной дороге к Государственному дому, чтобы проводить Цезаря.
– Я так понимаю, что ты возвращаешься в Этрурию? – спросил Цезарь Целера.
– Завтра на рассвете. Я бы хотел, чтобы у меня был шанс сразиться с Катилиной, но наш полководец Гибрида хочет, чтобы я был на границах Пицена. Катилине слишком далеко идти до Пицена, он обязательно споткнется о кого-нибудь. – Целер с любовью сжал запястье брата. – Твоя реплика об утреннем тумане в верховьях Тибра была замечательна, Непот.
– Ты не шутил насчет отзыва Помпея домой? – поинтересовался Цезарь.
– В этом мало смысла, – серьезно ответил Непот. – Готов признаться: я сказал это скорее просто для того, чтобы посмотреть, как отреагируют люди. Однако, если бы Помпей оставил свою армию и вернулся домой один, на дорогу ему потребовалось бы не больше пары месяцев – в зависимости от того, как быстро он получит требование возвратиться.
– Через два месяца даже Гибрида заставит Катилину дать бой, – сказал Цезарь.
– Конечно, ты прав. Но, послушав сегодня Катона, я уже не уверен, что хочу провести целый год в Риме с его вечным вето. Ты понял это, когда сказал, что у меня будет неудачный год. – Непот вздохнул. – Урезонить Катона невозможно! Его не заставишь выслушать чужое мнение, сколько бы здравого смысла оно в себе ни заключало! И запугать его нельзя!
– Говорят, – сказал Целер, – что он даже тренировался. Заранее готовился к тому дню, когда доведет своих коллег – плебейских трибунов до белого каления и они сбросят его с Тарпейской скалы. Когда Катону было два года, вождь марсов Силон держал его над обрывом и показывал на острые камни, угрожая кинуть туда. Но маленькое чудовище просто висело у него в руках и отказывалось подчиниться.
– Да, Катон таков, – усмехнулся Цезарь. – Так оно все и было, мне Сервилия рассказывала. Возвращаясь к твоему трибунату, Непот. Я тебя правильно понял? Ты думаешь об отставке?
– Скорее о том, как довести сенат до того, чтобы он применил ко мне senatus consultum ultimum.
– Ты все время будешь твердить, что надо вернуть Помпея домой.
– Вряд ли, это выведет сторонников Катула из себя.
– Именно.
– Однако, – сдержанно сказал Непот, – если бы я предложил народу отстранить Гибриду за некомпетентность и вернуть домой нашего Магна с теми же полномочиями и боевыми порядками, какие были у него на Востоке, это вызвало бы большое недовольство. Затем, если бы я добавил к первоначальному законопроекту еще немного – скажем, разрешить Магну сохранить свои полномочия и армии в Этрурии и выдвинуться на должность консула на следующий год in absentia, – как ты думаешь, этого было бы достаточно, чтобы вызвать мощное извержение?
Цезарь засмеялся:
– Вся Италия покроется горячим пеплом!
– Ты известен как большой знаток законов, великий понтифик. Ты не откажешься помочь мне разработать детали?
– Не откажусь.
– Будем помнить об этом. Просто на случай, если к следующему январю Гибрида все еще не сможет покончить с Катилиной. Я бы хотел, чтобы в конце срока меня отстранили от должности!
– От тебя будет вонять хуже, чем от солдатского шлема, Непот, но только для таких, как Катул и Метелл Сципион.
– Запомни также, Цезарь, что понадобится весь народ, а это значит, я не могу созвать собрание. Для этого мне нужен будет хотя бы претор.
– Интересно, – обратился Цезарь к Целеру, – о ком из преторов может думать твой брат?
– Не имею понятия, – серьезно ответил Целер.
– И после того как тебя заставят уйти из трибуната, Непот, ты отправишься на Восток, к Помпею Магну.
– На Восток, к Помпею Магну, – подтвердил Непот. – Так они не посмеют преследовать меня, когда я вернусь домой – с тем же самым Помпеем Магном.
Братья Метеллы тепло попрощались с Цезарем и пошли своей дорогой. Цезарь смотрел им вслед. Отличные союзники! «Но беда в том, – подумал он, вздохнув и входя в дом, – что никогда не знаешь, как все может измениться. Союзники нынешнего месяца могут обернуться противниками в следующем. Никогда не знаешь».
С Юлией было легко. Когда Цезарь послал за ней, она бросилась к нему, крепко обняла:
– Tata, я все понимаю! Даже то, почему ты не мог видеть меня целых пять дней! Какой ты умный! Ты навсегда поставил Цицерона на место!
– Ты так думаешь? Я нахожу, что большинство людей не знают своего места и потому противятся, когда кто-то, например я, вынужден ставить их туда.
– О-о, – с сомнением протянула Юлия.
– А что насчет Сервилии?
Она села ему на колени и стала целовать белые ниточки морщинок у глаз.
– А что сказать, tata? Я свое место знаю. С этого места я не могу судить тебя. Брут такого же мнения. Мы решили считать, что ничего не изменилось. – Она пожала плечами. – И правда, ничего не изменилось.
– Какая умная птичка сидит в моем гнезде! – Цезарь прижал к себе дочь и стиснул ее так крепко, что она чуть не задохнулась. – Юлия, ни один отец не смел и мечтать о такой дочери! Я счастлив. Я не променял бы тебя на Минерву и Венеру в одном лице!
За всю свою жизнь Юлия не была так счастлива, как в этот момент, но она была достаточно мудрой птичкой, чтобы не расплакаться. Мужчинам не нравятся женщины, которые плачут. Мужчинам нравятся женщины, которые смеются сами и заставляют смеяться их. Быть мужчиной так трудно: вся эта общественная борьба, необходимость зубами и когтями добиваться своего, когда кругом таятся враги. Женщину, которая приносит больше радости, чем огорчений, всегда будут любить. И Юлия теперь знала, ее будут любить всегда. Недаром она была дочерью Цезаря. Некоторым вещам Аврелия не могла ее научить, и этим вещам она научилась сама.
– В таком случае, насколько я понял, – сказал Цезарь, прижавшись щекой к ее волосам, – наш Брут не даст мне в глаз при следующей встрече?
– Конечно нет! Если Брут будет думать о тебе из-за этого хуже, ему придется дурно думать и о своей матери.
– Очень правильно.
– Ты видел Сервилию в эти пять дней, tata?
– Нет.
Небольшая пауза. Юлия шевельнулась, собралась с силами, чтобы продолжить разговор:
– Юния Терция – твоя дочь.
– Думаю, да.
– Я хочу познакомиться с ней.
– Это невозможно, Юлия. Даже я не видел ее.
– Брут говорит, что по характеру она похожа на мать.
– Если это так, – сказал Цезарь, сняв Юлию с коленей и поднимаясь, – лучше, чтобы ты ее не знала.
– Как ты можешь быть вместе с кем-то, кто тебе не нравится?
– С Сервилией?
– Да.
Расцвела его чудесная улыбка, глаза сощурились, скрыв белые веера в уголках.
– Если бы я знал это, птичка, я был бы достойным отцом своей хорошей дочери. Но я не знаю. Иногда я думаю, что даже боги этого не понимают. Может быть, все мы ищем в другом человеке нечто вроде эмоционального завершения, хотя так никогда и не находим. Во всяком случае, мне так кажется. А наши тела выдвигают требования, которые противоречат нашему разуму, и все запутывается еще больше. Что касается Сервилии, – Цезарь дернул плечом, – она – моя болезнь.
И он ушел. Юлия тихо постояла, сердце ее готово было выпрыгнуть из груди. Сегодня она перешла мост. Детство закончилось. Она стала взрослой. Цезарь протянул ей руку и помог перейти на его сторону. Он открыл ей душу, и она почему-то знала, что раньше он не пускал туда никого, даже мать. И Юлия стала танцевать. И так, танцуя, она оказалась возле комнат Аврелии.
– Юлия! Танцы – это вульгарно!
«И это, – подумала Юлия, – моя avia!» Вдруг ей стало так жаль свою бабушку, что она обняла ее и чмокнула в обе щеки. Бедная, бедная avia! Сколько в жизни она, наверное, упустила! Неудивительно, что она и tata то и дело ссорятся!
– Мне было бы удобнее, если бы в будущем ты приходил в мой дом, – сказала Сервилия, входя в комнаты Цезаря на улице Патрициев.
– Это не твой дом, Сервилия, это дом Силана. Бедняга и так уже терпит достаточно, чтобы еще видеть, как я прихожу в его дом совокупляться с его женой! – резко возразил Цезарь. – Мне нравилось поступать так с Катоном, но Силана я таким образом не оскорблю. Странно, что тебя, патрицианку, порой посещают мысли, достойные шлюхи из субурских трущоб!
– Как хочешь, – смирилась она и села.
Цезарю подобная реакция сказала немало. Сервилия могла бы ему даже нравиться, но к этому времени он уже достаточно хорошо ее знал. И тот факт, что она сидела одетая, а не стояла, привычно раздеваясь, сообщил ему, что она чувствует себя далеко не так уверенно, как хочет представить. Поэтому он тоже сел в кресло, из которого мог наблюдать за ней и в котором она видела его целиком – с головы до ног. Его поза была величественной: правая нога чуть выдвинута вперед, левая рука на спинке кресла, правая на коленях, голова высоко поднята.
– Мне стоило бы задушить тебя, – сказал он после некоторого молчания.
– Силан тоже думал, что ты изрубишь меня на куски и скормишь волкам.
– Действительно? Это интересно!
– О, он был целиком на твоей стороне! Как вы, мужчины, защищаете друг друга! Он имел безрассудство сердиться на меня, потому что – хотя я не понимаю почему! – моя записка заставила его голосовать за казнь заговорщиков. Подобной ерунды мне не приходилось слышать!
– Ты считаешь себя знатоком в политике, моя дорогая, но на самом деле ты – невежда. Ты никогда не сможешь наблюдать за тем, как сенаторы делают политику. Существует большая разница между сенатом и комициями. Я думаю, что мужчины, вращающиеся в обществе, хорошо знают, что рано или поздно у них вырастут рога, но ни один мужчина не ожидает, что рога у него покажутся во время заседания сената. И тем более – в самый важный момент дискуссии, – жестко произнес Цезарь. – Разумеется, ты заставила его голосовать за казнь! Если бы он проголосовал вместе со мной, весь сенат сделал бы вывод, что он – сводник. У Силана нет здоровья, но у него есть гордость. Почему же еще, ты думаешь, он молчал, когда узнал о нашей связи? Записку прочитала половина сената. Ты фактически ткнула Силана носом в свои делишки, ведь так?
– Я вижу, что ты на его стороне, как он – на твоей.
Цезарь шумно вздохнул, возведя глаза к потолку:
– Сервилия, единственная сторона, на которой я пребываю, – это моя собственная.
– Да уж, конечно!
Последовавшее молчание прервал Цезарь:
– Наши дети намного мудрее, чем мы. Они восприняли случившееся очень хорошо и здраво.
– Да? – равнодушно переспросила она.
– Ты не говорила с Брутом об этом?
– Нет. С тех пор как это произошло и Катон пришел, чтобы сообщить Бруту, что его мать – шлюха. На самом деле он сказал «проститутка». – Она улыбнулась. – Я сделала фарш из его лица.
– А-а, так вот в чем дело! В следующий раз, когда я увижу Катона, я скажу ему, что понимаю его чувства. Я тоже испытал на себе твои когти.
– Только в таком месте, где не видно.
– Вероятно, я должен быть благодарен тебе за такую милость.
Сервилия подалась вперед:
– У него страшный вид? Я очень его располосовала?
– Ужасно. Он выглядит так, словно на него напала гарпия. – Цезарь усмехнулся. – Если подумать, «гарпия» подходит тебе лучше, чем «шлюха» или «проститутка». Однако не слишком зазнавайся. У Катона хорошая кожа, так что со временем шрамы исчезнут.
– На тебе тоже шрамы исчезают.
– Это потому, что у меня и Катона одинаковый тип кожи. Боевой опыт учит мужчину, какие рубцы останутся, а какие пройдут. – Еще один шумный вздох. – Что же мне с тобой делать, Сервилия?
– Задать такой вопрос – все равно что левый сапог надеть на правую ногу, Цезарь. Инициатива должна исходить от меня, а не от тебя.
Цезарь хихикнул.
– Чушь, – тихо сказал он.
Она побледнела:
– Ты хочешь сказать, что я люблю тебя больше, чем ты меня.
– Я вообще тебя не люблю.
– Тогда почему же мы вместе?
– Ты хороша в постели. Это редкость для женщины твоего класса. Мне нравится такая комбинация. И у тебя между ушей значительно больше, чем у большинства женщин. Даже если ты и гарпия.
– Значит, ты считаешь, что именно там он находится? – спросила она, отчаянно желая отвлечь его от ее ошибок.
– Что?
– Наш мыслительный аппарат.
– Спроси любого армейского хирурга или солдата, и он тебе ответит. Травмы головы приводят к нарушениям в нашем мыслительном аппарате. Cerebrum, мозг. То, о чем спорят философы, – не cerebrum, это animus, разумное начало, мысль. Одушевленный ум, душа. Та часть человеческого духа, в которой могут зарождаться сверхрациональные идеи, от музыки до геометрии. Та часть личности, которая умеет парить. Она находится в том месте, которого мы не знаем. Голова, грудь, живот… – Он улыбнулся. – Она может прятаться даже в больших пальцах наших ног. Логично, если вспомнить, как подагра вывела из строя Гортензия.
– Я считаю, что ты ответил на мой вопрос. Теперь я знаю, почему мы вместе.
– Почему?
– Я – твой оселок. Ты оттачиваешь на мне свой ум, Цезарь.
Сервилия встала с кресла и стала раздеваться. Вдруг Цезарь страстно захотел ее. Не ласкать, нет. Гарпию нежностью не укротить. Гарпия – это гротеск, ее надо брать на полу, заломить ее когти за спину, вонзить зубы ей в шею – и брать, брать, брать.
Грубость всегда укрощала Сервилию. Когда он перенес ее с пола на кровать, она стала податливой, мягкой, похожей на котенка.
– Любил ли ты хоть одну женщину? – спросила она.
– Цинниллу, – вдруг ответил он и закрыл глаза, чтобы скрыть слезы.
– Почему? – спросила гарпия. – В ней ведь не было ничего особенного. Она не была ни остроумна, ни умна. Хотя и патрицианка.
Вместо ответа Цезарь отвернулся от нее и сделал вид, что уснул. Говорить с Сервилией о Циннилле? Никогда!
«Почему же я так любил ее – если то, что я чувствовал к ней, можно назвать любовью? Циннилла была моя с того самого времени, как я взял ее за руку и увел в свой дом из дома Гая Мария. В те дни Марий стал уже слабоумной тенью себя. Сколько мне было лет тогда? Тринадцать? А ей – всего семь, обожаемой малышке. Такая смуглая, пухлая, нежная… Как мило она поднимала верхнюю губу, когда улыбалась… А она много улыбалась. Олицетворенная кротость. Для нее ничего не существовало, только я. Любил ли я ее так сильно просто потому, что мы были вместе еще детьми? Или потому, что, приковав меня к жречеству и женив на незнакомой девочке, старый Гай Марий подарил мне нечто такое драгоценное, чего я уже никогда не встречу?»
Цезарь вдруг сел и шлепнул Сервилию по заднице так крепко, что до конца дня у нее не сходило красное пятно.
– Время уходить, – сказал он. – Давай, Сервилия, уходи. Уходи быстро!
Она торопливо ушла, не сказав ни слова. Что-то в его лице наполнило ее таким же ужасом, какой она сама вызывала у Брута. Как только она ушла, Цезарь уткнулся в подушку и заплакал – так, как не плакал с тех пор, как умерла Циннилла.
В том году сенат больше ни разу не собирался. Ничего необычного в этом не было, поскольку официального расписания заседаний не существовало: они созывались магистратом, и обычно это делал консул, у которого были фасции на данный месяц. В декабре настала очередь Антония Гибриды, но Цицерон его заменил и в полной мере удовлетворил свою жажду власти. К тому же из Этрурии не поступало известий, стящих того, чтобы выманивать сенаторов из их нор. Трусы! Кроме того, старший консул не был уверен, что Цезарь не выкинет еще что-нибудь, если дать ему хоть полшанса. На каждом собрании Метелл Непот пытался лишить Гибриду должности, а Катон все налагал вето. Аттик и другие всадники, сторонники Цицерона из восемнадцати старших центурий, приложили массу усилий, чтобы перетянуть народ на сторону сената. И все же оставалось много мрачных лиц. И очень мрачных взглядов – взглядов со всех сторон.
И еще один фактор, который не учел Цицерон, – некоторые молодые люди. Лишившись любимого отчима, Антонии записались в члены «Клуба Клодия». При обычных обстоятельствах никто в возрасте и положении Цицерона не заметил бы их. Но заговор Катилины и его последствия вывели их из тени. И какое огромное влияние приобрели эти юнцы! О нет, не среди первого класса, а на всех уровнях ниже его.
Яркий пример – молодой Курион. Совершенно неуправляемый, он даже побывал под домашним арестом, когда старший Курион, уже не знавший, как справиться с пьянством, играми и сексуальными подвигами сына, запер его в комнате. Но это, естественно, не помогло. Марк Антоний вызволил молодого Куриона, и их обоих видели в грязной таверне, где они пьянствовали, проигрывали большие деньги и целовали всех шлюх подряд. А теперь у молодого Куриона появилось дело, и внезапно он открылся со стороны, не имеющей ничего общего с пороком. Молодой Курион был намного умнее отца. Каждый день он блестяще выступал на Форуме, будоража людей.
И еще Децим Юний Брут Альбин, сын и наследник семьи, традиционно выступавшей против всякой популистской инициативы. Например, Децим Брут Галлецийский, принадлежавший к не Гракховой ветви Семпрониев с родовым именем Тудитаны, был одним из самых ожесточенных противников братьев Гракхов. Симпатии традиционно переходили из поколения в поколение, и это означало, что молодой Децим Брут должен поддерживать таких людей, как Катул, а не разрушителей устоев вроде Гая Цезаря. А вместо этого Децим Брут торчал на Форуме, подстрекая Метелла Непота, приветствуя появление Цезаря и стараясь понравиться всем, от вольноотпущенников до граждан четвертого класса. Еще один умный и способный молодой человек, который явно не соблюдал принципов, поддерживаемых boni, и общался с плохими людьми.
Что касается Публия Клодия, ну… Со времени суда над весталками прошло десять лет. Все знали, что Клодий – самый яростный враг Катилины. И вот он с огромным количеством клиентов (как ему удалось набрать клиентов больше, чем было у его старшего брата Аппия Клавдия?) создает неприятности для врагов Катилины! Вечно таскается под руку со своей несносной женой – это уже колоссальное публичное оскорбление! Женщины не ходят на Форум. Женщины не слушают с какого-нибудь возвышения, о чем говорят в комиции. Женщины не поднимают голоса, приветствуя или, наоборот, непристойно оскорбляя кого-нибудь. Фульвия все это проделывала – и публике это явно нравилось. Хотя бы потому, что она была внучкой Гая Гракха, который не оставил потомства по мужской линии.
Никто всерьез не воспринимал Антониев до казни их отчима. Возможно, люди просто не видели дальше скандалов, которые неизменно сопровождали братьев? Ни один из троих не блистал ни способностями, ни умом – в этом им не сравниться с молодым Курионом, Децимом Брутом или Клодием, – но было в них нечто, что нравилось толпе больше ума и способностей. Они притягивали к себе людей так же, как выдающиеся гладиаторы или колесничие. Людей восхищала их физическая форма, их превосходство над обычными гражданами благодаря простой мускульной мощи. Марк Антоний имел привычку появляться одетым только в тунику, что позволяло людям любоваться массивными бицепсами, икрами, широкими плечами, плоским животом. Его грудь была как свод храма, а предплечья – как дубовые стволы. Тунику он носил узкую, откровенно демонстрируя очертания своего пениса, чтобы все знали: им не показывают фальшивку, искусственную прокладку. Женщины вздыхали и падали в обморок. Мужчины чувствовали себя несчастными, готовыми провалиться сквозь землю. Он был очень некрасив, Марк Антоний: большой нос крючком, нависающий над огромным, агрессивным подбородком; рот маленький, с толстыми губами, глаза слишком близко поставлены, щеки толстые, рыжеватые волосы – густые, жесткие, вьющиеся. Женщины шутили, что трудно найти его рот для поцелуя: оказываешься зажатой между носом и подбородком. Короче, Марку Антонию (да и его братьям тоже, хотя и в меньшей степени) не обязательно было быть великим оратором или ловким судебным угрем. Он просто расхаживал, покачиваясь, как внушающее всем ужас чудовище.
Вот несколько очень веских причин, по которым Цицерон не созывал сенат в последние дни своего консульского срока, – как будто мало ему было одного Цезаря, чтобы затаиться.
Но в последний день декабря, когда солнце уже уходило на отдых, старший консул явился в трибутное собрание, чтобы сложить с себя полномочия. Он долго и упорно работал над своей прощальной речью, желая покинуть сцену со словами, подобных которым Рим до сих пор не слышал. Его честь требовала этого. Даже если бы Антоний Гибрида был в Риме, он не составил бы конкуренции. Но вышло так, что Цицерон солировал. Замечательно!
– Квириты, – начал он сладкозвучным голосом, – этот год был знаменательным для нашего Рима…
– Вето, вето! – выкрикнул Метелл Непот из колодца комиция. – Я налагаю вето на любые твои речи, Цицерон! Ни одному из тех, кто без суда казнил римских граждан, нельзя давать возможности оправдать содеянное! Закрой свой рот, Цицерон! Принеси клятву и сойди с ростры!
Наступила абсолютная тишина. Конечно, старший консул надеялся, что собрание будет многочисленным и это оправдает перенос места сбора из колодца комиция к ростре храма Кастора, но народу пришло мало. Аттику кое-чего удалось добиться: присутствовали все всадники, сторонники Цицерона, и, похоже, числом они превосходили оппозицию. Но то, что Метелл Непот наложит вето на нечто столь традиционное, как право уходящего консула на речь, – об этом Цицерон не подумал. И с этим ничего нельзя было поделать. И не важно, сколько сторонников Цицерона собралось, много или мало. Второй раз за короткий период Цицерон всем сердцем пожалел об отмене закона Суллы, запрещавшего трибунам накладывать вето. Но этот закон больше не действовал. И Цицерон уже ничего не мог сказать. Ни одного слова!
И он начал приносить клятву по древней формуле, закончив ее словами:
– Я также клянусь, что я один, без чьей-либо помощи, спас отчизну, что я, Марк Туллий Цицерон, консул сената и народа Рима, сохранил законное правление и защитил Рим от врагов!
После этих слов Аттик позаботился об оглушительных аплодисментах. Не было молодежи, которая лаяла бы или свистела. В канун нового года у сопляков нашлись дела поинтереснее, чем наблюдать, как Цицерон складывает с себя полномочия. «В некотором роде это победа», – думал Марк Туллий Цицерон, спускаясь с ростральных ступеней и протягивая руки к Аттику. В следующий момент на его голове уже красовался лавровый венок. И толпа на руках пронесла его весь путь до лестницы Кольчужников. Жаль, что не было Цезаря, чтобы увидеть это. Но, как все вновь избранные магистраты, Цезарь не мог приутствовать. Завтра он и новые магистраты вступят в должность, принеся присягу в храме Юпитера Всеблагого Всесильного, и начнется то, чего Цицерон очень боялся. Особенно в той части, которая касалась Цезаря. Для boni наступающий год будет несчастливым.
Следующий день подтвердил его предчувствия. Как только закончилась официальная церемония принесения присяги и был выправлен календарь, новый городской претор Гай Юлий Цезарь покинул первое собрание сената и поспешил в колодец комиция, чтобы созвать трибутное собрание. Очевидно, что все было организовано заранее. Цезаря ожидали только те, кто придерживался популистских взглядов, от молодежи до его сторонников-сенаторов и обязательной толпы людей, стоящих по своему положению чуть выше неимущих, реликты долгих лет, прожитых Цезарем в Субуре, – все эти евреи в своих шапочках, римские граждане, кому с молчаливого согласия Цезаря удалось зачислить себя в списки сельской трибы, вольноотпущенники, мелкие торговцы, также входящие в сельские трибы. По краям комиция толпились их жены и сестры, дочери и тети.
Обычный низкий голос Цезаря сменился новым, ораторским. Городской претор заговорил высоким чистым тенором, который был очень хорошо слышен повсюду, сколько бы народа ни собралось.
– Народ Рима, я собрал вас здесь сегодня, чтобы вы были свидетелями моего протеста против нанесенного Риму оскорбления, такого чудовищного, что плачут даже боги! Более двадцати лет назад храм Юпитера Всеблагого Всесильного сгорел. В юности я был flamen Dialis, специальным жрецом Юпитера Всеблагого Всесильного, а теперь, в зрелые лета, я стал великим понтификом и опять служу Великому Богу. Сегодня, вступая в должность, я должен был принести присягу в новом храме, который надлежало построить Квинту Лутацию Катулу по поручению Луция Корнелия Суллы Феликса. Поручение было дано восемнадцать лет назад. Народ Рима, я испытал стыд! Стыд! Я унизился перед Великим Богом, я плакал, прикрываясь своей toga praetexta. Я не мог взглянуть в лицо новой великолепной статуи Великого Бога, заказанной и оплаченной моим дядей Луцием Аврелием Коттой и его коллегой-консулом Луцием Манлием Торкватом! Да, всего лишь несколько дней назад в храме Юпитера Всеблагого Всесильного не было статуи Великого Бога!
Всегда выделявшийся даже среди самого большого скопления народа, Цезарь, став городским претором, казался еще выше и величественнее. Сила, которая таилась в нем, изливалась наружу, она овладела в толпе каждым, покорила, поработила.
– Как такое возможно? – спросил он толпу. – Почему Юпитер, этот верховный дух Рима, забыт, оскорблен, очернен? Почему стены храма не расписаны лучшими художниками нашего времени? Почему Минерва и Юнона существуют как numina, как ничто? Ни одной их статуи, даже выполненной в дешевой обожженной глине? Где позолота? Где колесницы? Где великолепная лепнина, где удивительной красоты полы?
Цезарь помолчал, глубоко вдохнул, грозно посмотрел на собравшихся:
– Я могу сказать вам это, квириты! Деньги, предназначенные для всего этого, остались в кошельке Катула! Все эти миллионы сестерциев, которые казна Рима выделила Квинту Лутацию Катулу, остались на банковском счете самого Катула! Я был в казначействе и попросил записи расходов. Но их нет! Нет записей, свидетельствующих о судьбе множества сумм, выплаченных Катулу за все минувшие годы! Кощунство! Вот каким словом это следует охарактеризовать! Человек, которому доверили воссоздать дом Юпитера Всеблагого Всесильного в еще большей красе и великолепии, чем прежний, позорно дезертировал, прибрав деньги!
Резкая обличительная речь продолжалась. Толпа возмущалась все больше и больше. То, что говорил Цезарь, было правдой. Ведь все это видели.
С Капитолия прибежал Квинт Лутаций Катул в сопровождении Катона, Бибула и остальных boni.
– Вот он! – крикнул Цезарь, указывая на Катула. – Посмотрите на него! О-о, какая наглость! Какая опрометчивость с его стороны! Однако, квириты, следует признать его смелость, не правда ли? Посмотрите, как бежит этот мошенник! Как он может столь быстро двигаться под таким тяжелым грузом государственных денег? Квинт Лутаций Расхититель! Растратчик, растратчик!
– Что все это значит, praetor urbanus? – грозно спросил запыхавшийся Катул. – Сегодня feriae, праздничный день, сегодня ты не можешь созывать собрание!
– Как великий понтифик, я имею право созывать народ, чтобы обсудить религиозную тему, в любое время, в любой день! А это определенно религиозная тема. Я объясняю народу, почему дом Юпитера Всеблагого Всесильного не соответствует его статусу, Катул.
Катул слышал крики «Растратчик!», и ему не требовалась дополнительная информация, чтобы сделать правильные выводы.
– Цезарь, за это я сдеру с тебя шкуру! – крикнул он, потрясая кулаком.
– О-о! – воскликнул Цезарь, отпрянув в показном страхе. – Вы слышите его, квириты? Я объявляю Катула святотатцем, пожирающим общественные деньги, а он грозится освежевать меня! Но, Катул, почему не признать то, что ясно каждому в Риме? Доказательство налицо. У меня намного больше свидетельств, чем мог представить ты, когда в сенате обвинял меня в измене! Достаточно посмотреть на стены храма, на его полы, пустые постаменты и на отсутствие даров, чтобы увидеть, как унизил ты Великого Бога!
Катул стоял, не находя слов. Сказать по правде, он попросту не знал, как объяснить рассерженной толпе ужасное положение, в которое поставил его Сулла! Народ никогда не поймет, насколько дорого обошлось строительство такого огромного и вечного сооружения, как храм Юпитера Всеблагого Всесильного. Что бы он ни пытался сказать в свое оправдание, все это прозвучит как паутина смехотворной, жалкой лжи.
– Народ Рима, – обратился Цезарь к сердитой толпе, – я предлагаю рассмотреть на contio два закона. Один – обвиняющий Квинта Лутация Катула в расхищении государственных фондов и другой – призывающий осудить его за святотатство.
– А я налагаю вето на любое обсуждение данного вопроса! – взревел Катон.
На это Цезарь пожал плечами и простер руки в умоляющем жесте, словно спрашивая: что можно сделать, если Катон опять прибегает к вето? Затем он громко сказал:
– Я распускаю собрание! Идите домой, квириты, и принесите жертву Великому Богу! Молите его, чтобы он позволил Риму устоять, когда граждане разворовывают его фонды и нарушают священные контракты!
Цезарь легко сошел с ростры, весело улыбнулся boni и зашагал по Священной дороге, окруженный сотнями возмущенных римлян, умоляющих его не оставлять этой проблемы и обвинить Катула.
Бибул заметил, что Катул задыхается, и подошел, чтобы поддержать его.
– Быстро! – крикнул он Катону и Агенобарбу, скидывая с себя тогу.
Они сделали из нее носилки, уложили на них сопротивлявшегося Катула и с Метеллом Сципионом в качестве четвертого помощника отнесли Катула домой. Лицо его посерело. Они почувствовали облегчение, когда принесли предводителя boni домой и уложили в постель под причитания его всполошившейся жены Гортензии. На этот раз все вроде бы обошлось.
– Сколько же еще сможет вынести бедный Квинт Катул? – воскликнул Бибул, когда они вышли на спуск Виктории.
– Каким-то образом, – сквозь зубы сказал Агенобарб, – мы должны заткнуть навсегда этого irrumator Цезаря! Если нет другого способа, пусть это будет убийство!
– Ты хотел сказать – fellator? – спросил Гай Пизон.
Выражение лица Агенобарба так испугало его, что он решил разрядить атмосферу. Не отличавшийся благоразумием, сейчас он чувствовал приближение катастрофы и думал о собственной судьбе.
– Цезарь – fellator? – презрительно переспросил Бибул. – Только не он! Некоронованные цари не пассивны, они активны. Они не дают, они берут!
– Ну вот опять, – вздохнул Метелл Сципион. – Остановить Цезаря здесь, остановить Цезаря там. И никогда мы его не останавливаем.
– Мы можем остановить его и сделаем это, – отчетливо произнес тщедушный Бибул. – Одна птичка чирикнула мне, что очень скоро Метелл Непот внесет предложение – вернуть Помпея с Востока, чтобы заняться Катилиной, и опять предоставить ему imperium maius. Вообразите это, если сможете! Полководец на территории Италии с империем, равным достоинством империю диктатора!
– А как это поможет нам в случае с Цезарем? – спросил Метелл Сципион.
– Непот не может предложить такой законопроект одним только плебеям. Он должен будет обратиться ко всему народу. Ты можешь хоть на миг допустить, что Силан или Мурена согласятся созвать собрание, чтобы предоставить Помпею imperium maius на территории Италии? Нет, это будет Цезарь.
– Ну и что?
– И мы постараемся, чтобы собрание прошло бурно. Затем, когда Цезарь будет отвечать по закону за любое насилие, мы обвиним его согласно lex Plautia de vi. Если ты забыл, Сципион, я – претор, председательствующий в суде по делам о насилии! И чтобы свалить Цезаря, я готов не только совершить любые незаконные действия, какие смогу, но даже отправиться к многоголовому псу Церберу и погладить каждую из его голов!
– Бибул, это блестяще! – воскликнул Гай Пизон.
– И на этот раз, – сказал Катон, – я не буду протестовать против несправедливости. Если Цезаря осудят, это будет справедливо!
– Катул умирает, – вдруг сказал Цицерон.
Он не принимал участия в разговоре, с горечью сознавая, что никто из собравшихся не считает нужным поинтересоваться его мнением. Его, выходца из Арпина, спасителя отечества, забыли на следующий же день, едва он перестал быть консулом.
Все испуганно повернулись к Цицерону.
– Чушь! – рявкнул Катон. – Он поправится!
– Конечно, на этот раз он поправится. Но он умирает, – упрямо продолжал Цицерон. – Недавно он сказал мне, что Цезарь перетирает его жизненную нить, как жесткая веревка тонкую ниточку.
– Тогда мы тем более должны отделаться от Цезаря! – крикнул Агенобарб. – Чем выше он поднимается, тем невыносимее становится.
– Чем выше он поднимается, тем дольше он будет падать, – отозвался Катон. – Ибо пока мы с ним оба живы, я буду нажимать на свой рычаг, чтобы ускорить его падение, и в этом я клянусь всеми нашими богами.
Не обращая внимания на окружавшую со всех сторон враждебность, Цезарь отправился домой на торжественный обед. Лициния завершила свое служение, и теперь старшей весталкой стала Фабия. Передача полномочий была отмечена соответствующими церемониями и официальным пиршеством для всех коллег-жрецов. В этот первый день нового года великий понтифик устраивал обед намного скромнее. Присутствовали только пять весталок, Аврелия, Юлия и сводная сестра Фабии, жена Цицерона Теренция. Цицерон тоже был приглашен, но он отклонил приглашение. Отклонила приглашение и Помпея Сулла. Как и Цицерон, она сослалась на то, что уже приглашена в другое место. Праздновал «Клуб Клодия». Однако Цезарь прекрасно знал, что доброму имени Помпеи ничто не угрожает. Поликсена и Кардикса прилипли к ней крепче, чем репей к волу.
«Мой маленький гарем», – весело подумал Цезарь, но мысленно дрогнул, когда его взгляд остановился на кислом, отталкивающем лице Теренции. Думать о Теренции в этом смысле – невозможно. Ни наяву, ни даже во сне!
Прошло много времени, и весталки перестали быть застенчивыми. Особенно это относилось к двум девочкам, Квинтилии и Юнии, которые откровенно боготворили великого понтифика. Цезарь поддразнивал их, смеялся, шутил с ними. Он держался с ними очень просто и, казалось, отлично понимал, что творится в их девичьих головках. Даже две угрюмые весталки, Попиллия и Аррунция, теперь знали, что с Гаем Цезарем, занимающим вторую половину Государственного дома, не будет никаких судебных преследований и обвинений в непристойном поведении.
«Поразительно, – думала Теренция, – что человек с репутацией такого отчаянного волокиты столь искусно справляется с выводком очень уязвимых женщин! С одной стороны, он общительный, даже ласковый, а с другой – не дает им ни малейшей надежды. Нет сомнения, всю оставшуюся жизнь они будут влюблены в него, но это не станет для них пыткой. Да, он не давал им абсолютно никакой надежды. Интересно, что даже Бибул не пустил ложного слуха о Цезаре и его выводке весталок. За сто лет еще не было великого понтифика, настолько соблюдавшего формальности, так преданного своему делу. И года не прошло, как он занял эту должность, но уже завоевал себе в этом качестве безупречную репутацию. Это касалось и его отношения к самому драгоценному достоянию Рима, его освященным весталкам».
Естественно, Теренция была глубоко предана Цицерону. В связи с этим заговором Катилины никто не переживал за него больше, чем его жена. С той самой ночи пятого дня декабря она просыпалась, слушая его бормотание во сне, когда мужу снились кошмары. Тогда Цицерон все время повторял имя Цезаря – и всегда с болью и гневом.
Это Цезарь, и только Цезарь, лишил Цицерона триумфа. Это Цезарь раздул тлеющее возмущение народа. Метелл Непот – это гнус, отрастивший жало благодаря Цезарю. И все же Фабия держалась о Цезаре другого мнения, а Теренция была слишком разумной женщиной, чтобы не оценить справедливость сестры и достоверность ее сведений. Цицерон, конечно, намного лучше, намного достойнее. Горячий и искренний, он вносит энергию и безудержный энтузиазм во все, что делает, и никто не может оспорить его честность. Но, вздохнув, Теренция решила, что даже такой выдающийся ум, как ее муж, не в силах одержать верх над Цезарем. Почему все эти невероятно древние семьи до сих пор дают миру людей, подобных Сулле или Цезарю? Они должны были бы уже выродиться столетия назад.
Теренция очнулась от своих мыслей, когда Цезарь велел двум девочкам идти спать.
– Завтра вставать с воробьями, больше никаких праздников. – Он кивнул топтавшемуся на месте Евтиху. – Отведи их домой и обязательно передай с рук на руки слугам у дверей атрия Весты.
И они ушли, проворная Юния впереди ковылявшей Квинтилии. Аврелия смотрела им вслед, мысленно вздыхая: «Этого ребенка надо посадить на диету!» Но когда несколько месяцев назад она дала соответствующие инструкции, Цезарь рассердился и запретил всякие диеты.
– Оставь ее, мама. Ты – не Квинтилия, а Квинтилия – не ты. Если бедной девочке нравится есть, пусть ест. Потому что она получает удовольствие! Мужей им не видать, и я хочу, чтобы ей продолжало нравиться быть весталкой.
– Она же погибнет от переедания!
– Что же делать! Я одобрю твое решение только тогда, когда Квинтилия сама надумает поголодать.
Что можно сделать с таким человеком? Аврелия закрыла рот и прекратила всякие разговоры на эту тему.
– Без сомнения, – сказала она, теперь немного едко, – ты собираешься на место Лицинии выбрать Минуцию.
Красивые брови Цезаря взлетели.
– Почему ты так думаешь?
– Ты, кажется, неравнодушен к жирным детям.
К желаемому эффекту это не привело. Цезарь рассмеялся:
– Я вообще неравнодушен к детям, мама. Высокие, низкие, тонкие, толстые – мне все равно. Однако, поскольку ты затронула эту тему, рад сообщить тебе, что положение с весталками улучшилось. Я получил пять предложений – очень приличные девочки: все хорошего происхождения и все с отличным приданым.
– Пять? – удивилась Аврелия. – Я думала, что будут только три.
– Можно нам узнать их имена? – спросила Фабия.
– А почему бы и нет? Выбор за мной, но я не вращаюсь в женском мире и определенно не претендую на знание ситуаций в семьях. Однако двух из них я серьезно не рассматриваю. Кстати, одна из них Минуция, – сказал Цезарь, с усмешкой глядя на мать.
– Тогда кто же заслужил твое внимание?
– Некая Октавия из той ветви Октавиев, которые носят преномен Гней.
– Тогда это внучка консула, который умер в крепости на Яникуле, когда Марий и Цинна осаждали Рим.
– Да. Есть у кого-нибудь еще информация?
Ни у кого. Цезарь назвал следующее имя – некая Постумия.
Аврелия нахмурилась. Нахмурились и Фабия с Теренцией.
– А что с Постумией?
– Патрицианская семья, – сказала Теренция, – но, кажется, эта девочка из ветви Альбина, который был консулом лет сорок назад.
– Да.
– И ей восемь лет?
– Да.
– Тогда не бери ее. В этой семье крепко пьют. Там слишком много детей! И всем детям разрешают пить неразбавленное вино, как только их отнимают от груди. Не понимаю, о чем только думает мать. Эта девочка уже несколько раз напивалась до беспамятства.
– О боги!