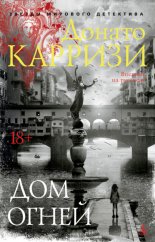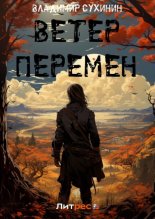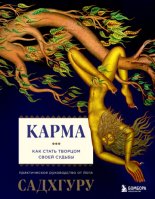Наследие Сорокин Владимир

– Штрафную, штрафную непременно! – Телепнёв наполнил квасом бокал.
– Ролан, ты видел восседающего на облацех?
– Лида, ты спрашиваешь это каждый раз! – засмеялся Киршгартен, обнажая крепкие белые зубы. – Полетели вместе, посмотришь.
– Не отпускаю! – Лурье приобнял жену.
Глеб подбежал к аэропилю, присел на корточки:
– Пётр Петрович, вы приблуду не сменили?
– Нет ещё. – Он потрепал Глеба по вихрастой голове. – Привет, стрелок.
– Всего три тысячи метров?
– Мне хватает.
Стянув с себя серебристый комбинезон, Киршгартен убрал его в багажник аэропиля и с бутылкой в руке пошёл на террасу. На нём остались белые брюки и тонкая палевая помятая водолазка.
– Все в сборе, – констатировал он, поднимаясь по деревянному крыльцу.
– Давно! – Телепнёв протянул ему бокал, другой рукой шлёпнув по его ладони. – Привет, воздухоплаватель!
Поставив бутылку, Киршенгартен расцеловался с женщинами. Он был невысокого роста, помоложе Телепнёва, крепкого телосложения, с умным лицом, тонкими усиками и внимательными глазами. Немецкую кровь в нём выдавал только нос с горбинкой.
– За что пили? – спросил он, беря с тарелки маленькую гренку с форшмаком.
– За солнце! – сообщил Телепнёв.
– Можно повторить?
– Unbedingt!
– Давайте лучше за встречу! – предложила Вера.
– Да, со свиданьицем! – подхватил Лурье.
– Со свиданьицем! Со свиданьицем!
Все сдвинули бокалы, чокнулись и выпили.
– Ну вот! И сразу выпил! – произнёс Телепнёв, схватил гренку, бросил в рот и зажевал, задвигал своими брылями.
Все стали закусывать, столпившись вокруг столика.
– Пётр, ты часто его так цитируешь, – заметил Протопопов. – Так нравится поэма?
– Отдельные выражения. Сама поэма… ну… хорошие начало и конец. В середине рыхловато.
– Рыхлая вата, – согласился Лурье. – Как только они садятся в электричку.
– Лакуны. Как и у многих советских встоло-писателей. – Протопопов сунул в тонкогубый властный рот дольку маринованного чеснока и захрустел. – В “Мастере и Маргарите” рядом с блистательными главами – как, например, “Слава петуху!” – рыхлые, многословные куски. Я уж умолчу о конце…
– Он был сильно болен тогда, – вставила Вера.
– Верочка, гению болезнь не помеха, вспомни Ницше, – сказала Лидия Андреевна.
– Или Боланьо, – откликнулась Вера.
– Или Хэнсгена. Гений наш болен, но пластает классно!
– А вот у Платонова в двух его главных романах нет никаких рыхлостей, – заметил Лурье. – А он тоже писал в стол.
– Это два куска бетона. – Киршгартен взял маслину.
– Скорее – уральского гранита. Железобетонная проза – это “Цемент”.
– Платонов самый цельный из всех советских. Он и Хармс.
– Почему так? – спросила Таис.
– Почему так? – ненадолго задумался Телепнёв. – Большинство из них, в том числе и Булгаков, втуне надеялись, что рано или поздно цензура сменится и пропустит эти тексты. Поэтому и допускали рыхлые, смягчающие острые углы лакуны, реверансы в сторону официоза. Помните, о Сталине: “Он хорошо делает своё дело”. А Платонов и Хармс не надеялись, что их вещи будут опубликованы.
– Логично, – кивнул Протопопов. – Хотя… “хорошо делает своё дело”… может, он имел в виду – адское дело? Помнишь, у Маяковского: “Товарищ Ленин, работа адовая будет сделана и делается уже”. Воланд одобряет это?
– Не уверен. – Телепнёв стал наполнять бокалы. – Это реверанс, а не скрытая инвектива. Вообще, Воланд у Булгакова скорее Дон Кихот, чем Вельзевул. На крыше дома Пашкова он опирается на шпагу с широким лезвием. Это меч Дон Кихота.
– Воланд у Булгакова – защитник униженных и оскорблённых, – заметил Киршгартен. – Он Вильгельм Телль. Серой от него потягивает весьма слабо.
– От него пахнет мазью Вишневского! – громко сообщила Лидия, и все рассмеялись.
– Да, когда Гелла мажет ему колено.
– Это запах моей прабабушки! – воскликнул Телепнёв. – У неё перед смертью на ноге открылась незаживающая рана. Помню бинты, мазь, гной…
– Хватит о болезнях. – Таис подняла рюмку. – За Веру и Петю!
– За вас, дорогие! За Верочку и Петю! Спасибо вам!
– Собрали старую гвардию, несмотря на грозу!
Все чокнулись, выпили и стали закусывать.
– Ну вот! И сразу – выпил! – пробасил Телепнёв, ополовинивая бокал. – Ух! Хорош квасок!
– Интересно, Петя, ты не любишь совлит, но часто их цитируешь, – заметил Лурье.
– Часто? Нет! Вовсе нет!
– “Я достаю из широких штанин”, – напомнила Вера.
– Я часто это говорю?
– Ну… – нарочито-задумчиво протянула Вера, полузакатывая глаза, – довольно!
Все рассмеялись.
– Пётр, ты совлит не любишь феноменологически или стилистически? – спросила Лидия.
– Скорее – онтологически. Для меня они все – добровольные инвалиды, положившие свои конечности под пилу цензуры. У них отпилены ноги или руки. Советская литература – балет инвалидов на ВДНХ. Их литература – как забег одноногих или заплыв безруких. Этому можно по-человечески посочувствовать, но любоваться этим невозможно.
– Да и безнравственно любоваться, – вставила Вера.
– И безнравственно, – серьёзно добавил Телепнёв. – А главное, что результаты их забегов и заплывов не стали мировыми рекордами. Лит-человечество в те годы и бегало быстрее, и прыгало дальше.
– Да! – кивнула Таис. – И это главный аргумент. Литература должна быть физиологически здоровой. Это суровый закон.
– К инвалидам в нашем деле снисхождения быть не может.
– Ну а сумасшествие? – спросила Лидия. – Поэтическое безумие?
– Я говорю о здоровых членах. Душа – не член тела. Душа – просто душа. Где она живёт – непонятно. Её цензура ампутировать не может.
– О да! – Протопопов презрительно усмехнулся. – Душа – отдельно, тело – отдельно. “Душу, душу трите, паразиты!”
– Мамлеев! – с удовлетворением кивнул Лурье. – А вот у него все члены были целы.
– Юрий Витальич под пилу не лёг. Поэтому он – не совлит… – Телепнёв пошарил по закусочному столу глазами. – Постойте! А где же грузди?! Дашенька!
Хлопочущая в столовой у большого стола Даша заглянула на террасу.
– Ну вот! Грузди! Грузди! Грузди! – Телепнёв сморщился болезненно, как от удара, схватился руками за свою массивную грудь.
– Так они ж на большом столе, Пётр Олегович.
– Сюда, сюда немедленно!
Глазурованная чаша с солёными груздями была тотчас принесена и поставлена в центр стола. Маленькие закусочные вилки потянулись к ней.
– Ммм… смерть, смерть! – застонал Телепнёв, закусывая груздем.
– А это Чехов, – констатировала Лидия. – Но там была горчица.
– Мы все всё цитируем, – вздохнула Таис. – Это уже Fatum.
– Обречены. Витгенштейн прав.
– Великолепные грузди, – жевал Киршгартен. – И это не цитата!
Все рассмеялись. На мгновенье все стихли и жевали.
– Вера, тебе очень идут эти бусы, – сказала Таис.
– Спасибо!
– В Иерусалиме, на Via de la Rosa. Увидел и купил за минуту! – Телепнёв насаживал на вилку очередной груздь.
– Так и надо, – кивнула Таис. – Приглянувшуюся вещь надо покупать сразу.
– А я хожу днями вокруг, – вздохнула Лидия.
– Пока её не купят другие! – с тоской проговорил Лурье, и все снова рассмеялись.
На террасу из столовой в голубо-салатовом летнем платье вошла Ольга:
– Приветствую всех.
С ней ответно поздоровались, но поцеловались с ней только Таис и Киршгартен.
– Красивое платье, – сказал он.
– Спасибо. Как дела?
– Дела идут, конTORа пишет. Ты надолго?
– Как вытерпят.
– Слетаем куда-нибудь?
– Ой, с удовольствием. Вообще, нам всем сегодня невероятно повезло с погодой. – Ольга упёрлась руками в стройную талию. – Когда прорвались хляби небесные, я вспомнила: боже мой, ведь к нам сегодня гости едут! Ка-ки-е гости?! Тут лило так, гремело так!
– Погода переменчива, – произнёс Протопопов, глядя в чёрные как смоль глаза Таис.
– Это намёк? – спросила она.
– Оля, кваску, морсику? – предложил Телепнёв.
– Не откажусь.
Он наполнил её бокал морсом и принялся наполнять другие.
– Коли о русской бумаге вспомнили, я вот искренне жалею, что Хармс не дожил до времён milklit. Он бы пахтал, плёл и вязал божественно, – сказал Лурье.
– Петя, Хармс дискретен, – возразил Телепнёв. – Он гений малой прозы. И стихов, стихов, конечно. Он бы лепил сырники.
– И что в них плохого?
– Ничего, но сырники — это не творог.
– Кто любит творог, а кто сырники.
– Я не об этом. Milklit порождён крупной формой. И держится на ней.
– И прекрасно! Вокруг творожного престола полно места для сырников.
– Полным-полно, конечно! Но сырники — дискретный жанр. В нём нет метафизики. В бумаге у великого Даниила она была, да и ещё какая! Но milklit – это milklit, дорогие мои! Здесь свои законы, своя гравитация и архитектоника. Масштаб Хармса в milklit был бы в разы меньше Хармса бумажного.
– Пётр прав, – кивнул лысоватой головой Протопопов. – Конвертировать в milklit всех гениев прошлого без потерь невозможно.
– Это не конвертация, Ваня, а рождение в новом пространстве!
– Это был бы уже не Хармс.
– Новый Хармс! Сливочный!
– Но не творожный.
– Не творожный! – Телепнёв стал передавать всем наполненные бокалы. – А мощь творога говорит сама за себя! Milklit опирается на неё. Творог должен быть густым и плотным, не рыхлым.
– Пётр, у тебя слишком ортодоксальный взгляд на milklit.
– Петя, я за чистоту формы. Крупной! Твой любимый Хармс говорил, что для него в тексте важна чистота внутреннего строя. В твороге — то же самое! Ты в своих вещах так же блюдёшь её. Твой “Мавританец” – торжество чистоты внутреннего строя! Стол Зелёных Доходов, субсидиарная ответственность, старая трубка Петруччо, босоногая Анна! Это всё – мощно и стройно!
– А какая Розмари! – повела плечом Ольга.
– Огненноволосая Розмари, да. Это крутое плетение. – Киршгартен подмигнул Лурье. – “Тёмное большинство разрушительных несоответствий опустилось на её худые ирландские плечи в эту гнилую осень подобно полярной сове и тут же запустило когти.”
Тот отрицательно замотал головой:
– И всё-таки, друзья, в ландшафте milklit полно места для сырников!
– Ну вот! Конечно, полно! До фига! Кто спорит? – Телепнёв взял малосольный огурчик и держал его двумя пальцами, оттопырив остальные. – Но, дорогой мой, не надо делать из Хармса Джерома Джерома! Или Зощенко! Пусть он продолжает грозно сиять в бумаге!
– За Хармса! – подняла бокал Лидия. – Или за творог?
– За Хармса! За Хармса!
Все чокнулись и выпили.
– Я тоже теперь квасу хочу, – сказал Глеб.
– Кваску, сынок, кваску! – Хрустя огурцом, отец наполнил его бокал.
– Глеб, ты любишь cheese или творог? – спросил Киршгартен.
– Сырники, – ответил Глеб, пригубливая свой напиток.
Все рассмеялись.
– И какао. – Ольга насмешливо глянула на Глеба.
– Он уже пробовал пахтать и лепить. – Телепнёв положил сыну руку на плечо.
– Ну и?
– Сложно, – ответил Глеб. – Сливки я сбил. Кусочек масла. Просто пахтать я могу, но плести пластовой сложно. И milksaw – оч-ч-чень сложная штука.
– Вот и я это всегда говорю сам себе! – кивнул Протопопов, скорбно-обречённо скривив рот.
Новый взрыв смеха заполнил террасу.
– А масло пахтать – это вообще круто! Наш папа – супер! – Глеб обхватил отца сзади и обнял за живот.
– Твой папа – супер, это правда, – подтвердила Лидия.
– A propos, о конвертации. – Киршгартен подцепил на вилку маленький груздь и, не жуя, проглотил. – “Infinite Jest”[29] благополучно переплели, а “Gravity’s Rainbow”[30] неистовый Арик слепил… и?
– И! – тряхнул прядями и щеками Телепнёв.
– И, – зло скривил губы Протопопов.
– И… – с сожалением причмокнул Лурье.
– А почему, я вас спрошу? – грозно пророкотал Телепнёв. – Ну вот! Да очень просто: litmoloko весьма глубоко! То, что не становится маслом, – тонет! Белая метафизика! “Rainbow” потонула в сыворотке!
– И погасла! – добавила Лидия.
– Но творог, Пётр, состоит не только из масла, но и из сметаны, – заметил Лурье.
– Кто спорит, Петя?! – вскинул руки Телепнёв. – Но от “Gravity’s Rainbow” безумного Арика до сметаны — как от нашего Алтая до Уральских гор! А вот Ролан переплёл “Der Mann ohne Eigenschaften”[31]ве-ли-ко-лепно! Там и масло супер-флю и сметана, и творог поэтому – отменный, пластовой!
– Великолепно! – подтвердил Лурье. – Значит, многое, очень многое зависит не только от текста, а от переплётчика!
– Кусок жизни пришлось отрезать для этого пластового творога, – улыбался Киршгартен.
– Не знаю… – Вера откусила от стебелька черемши. – Я сейчас читаю бумагу, “Les Bienveillantes”[32]. И не представляю, как можно было бы это переплести.
– Никто и не взялся до сих пор, – сказал Протопопов.
– И не возьмётся! Читайте бумагу! – поднял палец Телепнёв. – А по поводу пластового творога у меня, дорогие мои, вызрел тост.
– Ну вот, снова о прозе, – покачала головой Лидия.
– Ты против? – Лурье нежно взял жену за мя систую мочку уха с вкраплёнными мормолоновыми кристаллами.
– Проза, проза, milklit… Всегда у Телепнёвых говорим о ней. А о поэзии? Никогда!
– Никогда! – согласилась Вера.
– Никогда, – кивнула Ольга.
– И впрямь – никогда! – рассмеялся Протопопов.
– Да, не помню такого. – Киршгартен взглянул на Телепнёва. – Принцип?
– Ролан, какой, к чёрту, принцип?! – негодующе усмехнулся тот. – Что я – враг поэзии? Да я обожаю её! Мы, прозаики, – битюги, а поэты – арабские скакуны! Как ими не восхищаться?
– Да, мы тянем, пыхтим, а они скачут, – с лёгким самодовольством заметил Лурье. – Ролан, ты же раньше много писал о поэтах.
– И как лихо писал! – Телепнёв увесисто хлопнул Киршгартена по спине.
– Я помню текст Ролана о Пастернаке, что его поздние стихи отдают старческим простатитом, – улыбнулась Лидия.
– Да, да! Помню! – оживился Телепнёв. – Гениальная статья! “Я дал разъехаться домашним!” Это – чистый простатит! А “быть знаменитым некрасиво” – ревматизм! Да! Поэзия! Она хороша, только когда ей быстро скачется. Состарившиеся поэты – нонсенс. “Холстомер”! На живодёрню!
– А как же китайцы? – спросила Ольга.
– Ну… китайцы – это… китайцы!
Все заулыбались.
– Китайские поэты созерцают, а русские – поют, – проговорила Лидия.
– Старость созерцательности не помеха.
– А наши в старости переходят на хрип.
– Вообще, дорогие мои, что толковать о поэзии? – Телепнёв негодующе изогнул густые брови. – Её надобно читать!
– Вот и начни! – Вера чокнулась с его бокалом.
– Извольте!
Телепнёв продекламировал:
- Ничего не забываю,
- Ничего не предаю…
- Тень несозданных созданий
- По наследию храню.
– Что-то из “Серебра”, – заключил Лурье.
– Конечно! Мой любимый поэтический металл! Адамович.
– Не бог весть какой поэт.
– Ну, хао. Тогда вот это:
- В шалэ берёзовом, совсем игрушечном
- и комфортабельном,
- У зеркалозера, в лесу одебренном, в июне севера,
- Убила девушка, в смущеньи ревности,
- ударом сабельным
- Слепого юношу, в чьё ослепление
- так слепо верила.
- Травой олуненной придя из ельника
- с охапкой хвороста,
- В шалэ берёзовом над Белолилией
- застала юного,
- Лицо склонившего к цветку молочному
- в порыве горести,
- Тепло шептавшего слова признания
- в тоске июневой…
- У лесоозера, в шалэ берёзовом, —
- берёзозебренном, —
- Над мёртвой лилией, над трупом юноши,
- самоуверенно,
- Плескалась девушка рыданья хохотом
- тёмно-серебряным…
- И было гибельно. И было тундрово.
- И было северно.
– Северянин, – улыбнулась Лидия.
– Кстати, в молоке он довольно хорошо стоит, – заметил Протопопов.
– Весьма хорошо, – добавил Киршгартен. – Много поклонников.
– Потому что – гений! Жаль, Петь, что у меня память на стихи – весьма швах. Ну а ты, Иван?
Протопопов, ни на секунду не задумываясь, прочитал:
- Зная, что обои любят тень,
- Что клопы вплетаются в узоры —
- Койки оттолкнём от тёплых стен,
- Перекрутим бархатные шторы.
– Rokso! – узнала Вера.
– А, протей этот! – усмехнулся Телепнёв. – Густо! А ты, моя любовь, чем нас порадуешь?
Вера задумалась, переведя взгляд на белый, местами облупившийся переплёт веранды:
- Be silent in the solitude,
- Which is not loneliness – for then
- The spirits of the dead who stood
- In life before thee are again
- In death around thee – and their will
- Shall overshadow thee: be still.
Все притихли.
Телепнёв качнул головой, тряхнув брылями:
– Ну вот! Жена моя умеет вовремя подпустить потустороннего!
Все рассмеялись.
– Лида?
– Я?
– Да, ты. Просим!
Она сделала несколько шагов по веранде, с выжидательным вздохом обняла себя за пышные предплечья:
- Люди рожают людей more,
- Зомби хоронят more зомби,
- Сон порождает more сон,
- Смерть порождает more смерть,
- Снег покрывает more снег,
- Воду глотает вода more,
- Дуб прорастёт сквозь more дуб,
- Речка вольётся в more пруд,
- Змеи глотают more змей,
- Лев разрывает more львёнка,
- Дым наползёт на more дым,
- Вспыхнет в огне more огонь,
- Ветер несёт облака,
- Звёзды приветствуют звёзды,
- Свет, разгоняющий тьму,
- В доме ещё не погас.
На веранде повисла тишина.
– Кто это? – спросила Ольга.
– RMR.
– Resting Metabolic Rate, – подсказал Киршгартен.
– Знаем, пробировали. – Протопопов взял оливку, сунул в рот.
Телепнёв шумно вздохнул, налил себе квасу:
– После метаболической метафизики сразу хочется выпить.
Лурье перевёл взгляд на Глеба.
– А ты, mon cher, любишь стихи?
– Не очень, – ответил тот.
– Глеб любит стрелять по пустым банкам, – сказала Ольга.
– И не ври, я по мишеням стреляю! – подросток бросил на Ольгу злобный взгляд.