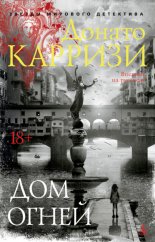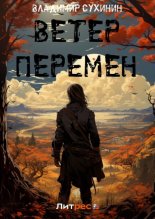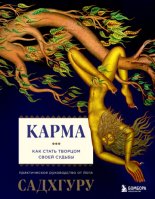Наследие Сорокин Владимир

– Ад ноупле на неё торфэ, как хрипонь санки корморош.
Инвалид, побыв в неподвижности, глаза открыл.
Близнецы помогли ему залезть на сушняк, он в ветви вцепился. Оле и Аля схватились за ствол и поволокли инвалида по снегу. Он стал помогать им, отталкиваясь руками.
Пристрелив оставшуюся обслугу и забрав из укрывища побеждённых всё, что хотелось, заёбанцы сели на стальных лошадей своих и поехали от замёрзшей реки по своим следам, ведущим к Мухену.
Их походная песня наполнила редколесье, по которому двигались они.
Снег падал хлопьями крупными.
Пройдя мелколесье, в лес вошли. Когда песни походные пропеты были, запевала затянул частушки, и все подхватили:
- Разнесу всю избу хуем
- До последнего венца!
- Ты не пой военных песен,
- Не расстраивай отца!
- Под горой лежит больной —
- Сам стеклянный, хуй стальной.
- Захотела ему дать,
- Да не хочет он ебать!
Небо тёмно-серое нависло, снег гуще повалил. Но частушки петь не перестали – звучали они одна за другой в лесу хвойном между стволов тёмных.
Стало смеркаться.
Едущие попарно заёбанцы всё пели и пели частушки похабные, словно снегу и сумеркам наперекор. Когда сумерки февральские опустились на лес бесповоротно, в шею ехавшего в последней паре Артёма Браза впилась стрела со стальным наконечником. Не допев слово, он с коня свалился. Едущий рядом и успевший подремать в седле Ясык Хамаж повернулся сонно, глянуть на соседа, но такая же стрела пронзила его шею. Он повалился с лошади. И сразу же в освободившиеся сёдла лошадей железных вскочили ловкие Хррато и Плабюх. Леопардовые шкуры плотно обтягивали быстрые тела их. Из трпу заспинных выхватили они оружие – серпообразные стальные ножи, наточенные о камни речные. Острее бритвы кривые ножи Хррато и Плабюх. Со своих сёдел с ножами в руках прыгнули они на спины двух последних всадников. Два движения молниеносных – и полетели головы с плеч всадников. Удар, другой – и вывалились трупы безголовые из сёдел. А Хррато и Плабюх – дальше, к другой паре – прыг! И снова – молниеносная работа ножей – головы вниз катятся, трупы – из сёдел вон.
А отряд всё своё поёт:
- Из-за леса, из-за гор
- Показал мужик топор,
- Но не просто показал —
- Его к хую привязал!
- Приглашаем мы людей —
- Офицеров и блядей.
- Бляди станут воевать,
- Офицеров – нам ебать!
Песня, сумерки и снег густой – быстрым белым близнецам помощники. Мелькают руки их, леопардовой шерстью обтянутые, свистят ножи беспощадные. Летят головы с плеч заёбанских.
- Не за дело парни любят,
- Не за белое лицо —
- А за длинный хуй горбатый
- И за левое яйцо!
- Слышишь, вся изба трещит
- С черепичной кровлею?
- Это милый мой стучит
- Хуем, как оглоблею!
Легко, ловко и бесшумно Хррато и Плабюх делают своё дело смертельное. Режут головы ножи их, словно коса – одуванчики. Прыгают близнецы из очередного седла опустевшего на спину впереди едущего партизана. Кони стальные, потерявши всадника, через несколько шагов останавливаются. Движется отряд поющий в сумеречном лесу, оставляя после себя на снегу головы, трупы и лошадей обездвиженных.
Командир Хван, едущий впереди отряда в паре с начальником контрразведки Лю Цзе Хьяном, щурясь от снега густого, стал замечать, что пение отряда как-то ослабевает, силу свою теряет.
“Подустали герои…” – ему подумалось.
– Наеблись парни, а? – с усмешкой глянул он на Лю.
Тот дремал, бросив поводья на луку седла живородящего и голову на грудь свесив.
“Заебли мы всё-таки этих выскочек уссурийских… – приятно и устало Хвану думалось. – Два года нам кровь портили, метались по сопкам, как лисы бешеные, норовили кусок урвать у нас из-под носа. И урывали, паскуды. В Синде полдеревни заебли, потом – Литовко. Ограбили. Кто-то стукнул им, так и не нашли кто. Экспресс заебли и ограбили. А ведь мы тоже его хотели, планировали, вешали сопли. А они опередили, суки рваные. Путались, барсуки вонючие, под ногами. Путали, лисы драные, планы наши. Но теперь – нет их больше. Нет!”
Он рассмеялся, вперёд глядя, где в лучах голубоватых, изливающихся из глаз его лошади и лошади Лю, клубились крупные, мягкие снежинки.
“Скоро до берлоги доедем, а там – тепло, парни тайваньские ласковые, заботливые. И еды приготовили, и баню истопили. А лисиц уёбанских больше нет!”
– Нет! – довольный Хван произнёс.
И прищурился, вслушиваясь: частушки подтягивал всего десяток голосов.
- У папаши хуй мохнатый,
- А у брата – хуй стальной.
- Снова буду я брюхатой,
- Не рыдайте надо мной!
- Как у Ваньки-гармониста
- Из села Мезинова
- Раньше хуй стоял железно,
- А теперь – резиново!
– Бойцы, подгяги-вай! – Хван прикрикнул.
Лю, в седле дремлющий, встрепенулся, поднял голову.
Но бойцы на призыв командира не отозвались – всё так же тянули частушку голоса отдельные. И голоса эти прорежаться стали.
“Спят они все, что ли?”
Командир оглянулся. И различил в полумраке позади себя… только шесть всадников!
И позади двух последних мелькнули… лапы звериные, пятнистые с кривыми страшными когтями.
– Дзяолю!![24] – Хван закричал, из кобуры пистолет рвя.
И жуткое узрел он: лапы пятнистые когтями этими отсекли головы бойцов так легко и страшно, словно это кочаны капусты были, а не головы героев ЗАЁ. И полетели эти головы геройские вниз, вниз, вниз.
Бойцы от крика командира опомнились, за оружие хватаясь.
Но – поздно.
Звериные тела, проворные.
Прыгали и резали, прыгали и резали.
Полетели пули по ним – да где уж! От пуль увернулись черти пятнистые. И вот уже двое ближайших – есаулы Джан и Храмцов – головы свои теряют. Хван с Ли, отстреливаясь наугад, – лошадям шпоры. Прянули кони стальные – в лес, в лес. Рванули по снегу плотному, настовому.
Но —
Ромм!
Стрела Лю меж лопаток вошла, наконечником вышла. Полетел Лю из седла с криком смертельным. Хван за деревья коня направил, зигзагом, зигзагом, зигзагом.
Ромм!
В плечо левое вошла стрела. Конь вправо рванул. И не удержался Хван в седле – слетел в снег, ледяную корку наста проламывая.
Сел, пистолет в правой руке сжимая. А конь стальной после прыжка, седока потеряв, встал покорно среди елей вековых, глазами-фарами их осветив: словно луч лунный сквозь небо мутное пробился. Отполз Хван к ели, оперся спиной, стал во тьму страшную, смерть несущую, вглядываться.
Мелькнуло.
Выстрелил.
Снова мелькнуло.
Выстрелил.
Снова мелькнуло пёстрое, жуткое.
Но не успел на спусковой крючок нажать.
Ромм!
Впилась стрела проклятая в правое плечо – больно, сильно, к ели пригвождая. Разжались пальцы, вывалился пистолет в снег.
И вышли из темноты двое двуногих. С лицами человечьими. Все обтянутые мехом леопардовым, кровью парной забрызганным. С ножами страшными в руках.
– Жив? – спросил один по-китайски.
– Жив, – Хван ответил.
– Он твой, Плабюх, – сказал Хррато на родном языке.
Сестра приблизилась к Хвану, присела на корточки. Заглянула ему в глаза.
Хван увидел перед собой лицо девушки; её голову, уши и шею покрывали мелко-курчавые белые волосы. Фиолетовый цвет глаз её был различим даже в полумраке.
Эти глаза в Хвана вперились.
Он замер, перестав дышать.
Девушка рукой взмахнула молниеносно.
Срезанная голова командира в снег упала.
Последнее, что Хван увидел: два пятна голубоватого снега, высвеченные фарами глаз его коня.
Плабюх выпрямилась.
– Хорошая охота! – громко произнесла она на языке родном.
– Хорошая охота! – Хррато ответил.
Обтерев снегом ножи свои, они убрали их в трпу. Сбросили трпу с плеч. Хррато засвистел в свисток умный. И стал стягивать с себя одежду плотную, леопардовую. Плабюх последовала примеру его. Сбросив одежду, они остались голыми. И стали топтать шкуры леопардовые в снегу, от крови их очищая.
– Они не только жестокие, но и сонные, брат, – Плабюх произнесла.
– Быстрых жестоких нам давно не попадалось, сестра.
– Похоже, род их вымирает.
– Всё смешалось в их мире.
– Но они не перестали убивать друг друга.
– И никогда не перестанут.
– Даже когда полностью заснут.
– Спящие, они схватят друг друга за горло!
Они рассмеялись.
Послышался наста снегового хруст. И зову свистка послушны, показались меж стволов кони Хррато и Плабюх. Вороные, они сливались с тёмными стволами. Когда они приблизились к хозяевам, глаза их загорелись белым светом.
– Поляна! – Хррато приказал.
Кони остановились рядом, наклонили головы свои, высветив глазами на снегу круг ровный. Близнецы вступили в круг этот. И начался их танец победный. Свет яркий засеребрил их тела шерстяные. И закружились, изогнулись тела эти, танцу отдаваясь. Взбитый ими наст снежный летел в стороны, свет играл на выгибах тел быстрых, сильных. Вскрики их победные будили тишину леса ночного.
Но мелькнули последние движения. И замерли близнецы. Встали, словно друг друга впервые увидали. И шагнула Плабюх к брату. И обняла его. И он сестру обнял.
Упали они в снег. И слились в акте любовном, страстном. Тела их серебристые отдались друг другу, ноги и руки переплелись, губы к губам прижались.
И долго в кругу света раздавались страстные стоны их.
Когда стемнело и снег повалил густо, бредущие по следу санному Аля, Оле и инвалид остановились. Следы саней заметало снегом крупным, мокрым. Весенний ветер с океана бора этот снег принёс. Лип он на всё, слепил глаза. Да и волочь старика инвалида на берёзе по насту тяжело близнецам стало – из сил выбились.
– Надобно ночь пережить, – заговорил инвалид. – Во тьме морогу… дорогу не сыщем. Заблудимся.
Во время пути Оле своей умницей подсвечивал иногда, но вскоре помощница совсем иссякла и погасла.
– Костёр бы развести, – инвалид предложил. – У меня поражалка есть. Поджигалка.
Из кармана зажигалку вынул.
Оле и Аля пошли сушняк ломать.
С трудом костёр разожгли, вокруг него на обломки берёзы уселись. Снег валил. Костёр дымил, ел сушняк нехотя. Грели руки на огне, морщились от дыма.
Ночь кругом стояла глухая, лесная.
Оле и Аля жгли костёр, сушняк подтаскивая.
Первым заснул инвалид. Обнявшись и прижавшись к инвалиду грузному, заснули и брат с сестрой усталые.
Солнечный луч на корке ледяной сверкнул. Холмик белый, за ночь выросший из снега мокрого, липкого, а к утру подмёрзший, – весь на солнце заблестел.
От ночных туч на небе и следа не осталось – чистое, высокое.
Стоят пихты и сосны, льдом словно глазурью облитые. Сверкают на солнце. У одной из пихт – заснеженный труп безглавый, стрелой к стволу пригвождённый. Рядом кулич глазированный – голова командира Хвана. Иней на ресницах его, глаза полуприкрытые в вечность смотрят.
Неподалеку две скульптуры, снежной стихией за ночь вылепленные, – кони Хррато и Плабюх. Застыли вороные, коркой блестящей покрытые, как попоной.
Всё блестит в лесу утреннем, играет в лучах солнечных.
В холмике белом – дырка талая, с каплями живыми по краю корки ледяной. Капли живые на солнце по-другому играют – алмазами.
Треснул холмик. Раздвинулась корка блестящая, ломаясь. Живая голова – белёсая, мелкокурчавая – вылезла из холма снежного. Плабюх глаза свои открыла. И засияли они, как сапфиры, на солнце. Сощурилась Плабюх, сморщилась и – чихнула, всем телом дёрнувшись. Полетел в стороны снег и лёд. Огляделась Плабюх. И рассмеялась.
Брата толкнула:
– Солнце встало, Хррато! Пора и нам вставать!
Брат заворочался в снегу. И тут же встал, глянул по сторонам, отряхиваясь. Встала и Плабюх, брата обняла.
Ночь проспали они под снегом, телами горячими сплетясь. И было это не впервой для них. Под снегом двум родным – всегда тепло!
Справили белые близнецы нужду утреннюю, вытащили из снега свою одежду леопардовую, от крови сонных и жестоких очищенную, оделись. Закинули за спины трпу кожаные – с луком, стрелами, топором и ножами.
– Есть хочу, брат! – Плабюх сообщила громко, сосульку грызя.
– Добудем еды, сестра!
– Тёплой еды!
– Красной еды!
Хррато свисток умный в губы взял, свистнул. Ожили конные скульптуры ледяные, корку наросшую сбрасывая. Кони вороные к своим хозяевам подошли. Вскочили в сёдла Плабюх и Хррато и тут же послали лошадей вперёд ударом пяток.
Кони вороные поскакали по снегу белому, солнцем залитому. Тени голубые от деревьев на снегу лежат – весну предвещают.
Пересекли всадники дорогу лесную. А на ней – трупы безглавые, заледенелые да лошади железные, неподвижные, парами стоящие. Мёртвое войско ЗАЁ.
– Айя-а!
– Айя-а!
Хорошая вчера была охота.
Аля проснулась от холода, до костей пробирающего. Открыла глаза свои. Солнце светило ярко, снег блестел, деревья стояли. Но свет этот тепла не добавил. Ещё холоднее Але стало внутри. Словно демон холода сжимал её сердце рукой ледяной, беспощадной.
Застонала она. Различила рядом лицо брата. Неподвижно было лицо, с инеем на ресницах.
Разлепила губы она с трудом. И произнесла слабо:
– Оле…
Молчал брат неподвижно.
– Оле. Оле. Оле!
Пошевелила Аля рукой правой онемевшей. А рука не слушается. Левой пошевелила. Зашевелилась левая рука. Взяла она левой рукой правую, положила ладонь непослушную брату на щёку. Холодная щека!
– Оле!
Стала тереть холодную щёку брата. А сама – в дрожь адскую, цепкую. Дрожь колотит всё тело. Отходит оно от сна на морозе.
– Оле! Оле! Оле!
Приникла, стала целовать брата лицо. Дохнула изо рта – раз, другой, третий. А у самой – челюсть трясётся. Дотянулась, укусила брата за ухо.
И застонал он.
Жив!
– Оле!
Стала тереть брата, обнимать да теребить. Недовольно поморщился Оле. Глаза открыл. Подышала Аля с силой на его ресницы. И растаял на них иней.
– Алька… – брат произнёс, на сестру в упор глянув с удивлением. – Мне… ад ноупле… снилось, как просторош наш дом горит. И я хрипонь выбежал морограши, а ты кричишь тормэд из дома, кричишь тормэд, а ад ноупле выйти не можешь… Алька! Нога болит…
Он обнял сестру. Они сидели, привалившись к большому телу инвалида. Лицо его было бледным, глаза закрыты. Только опухоль багровела на лице старика да снег блестел в бороде белой.
– Надо встать и… д-д-двигат… – Аля проговорила, зубами клацая.
Они стали с трудом вставать. С одежды их посыпалась корка снежная, за ночь намёрзшая. Одна из льдинок попала инвалиду в глаз закрытый. Инвалид вздохнул тяжело. И разлепил веки. Обнявшись, трясясь руками и ногами окоченевшими, Аля и Оле стояли. Попытались с места двинуться. Это было трудно – ноги и тело дрожали, не слушались.
Серые губы инвалида открылись.
Выполз шёпот хриплый из губ его:
– Ма… ша… не гори…
Олень серебристо-серый, с рогами ветвистыми, нёсся тяжело по снегу, наст пластовой круша. Хррато и Плабюх на конях своих вороных, усталости не знающих, преследовали его. Плабюх стала слева обходить оленя, на брата его выгоняя:
– Айя-а!!
Метнулся вправо олень.
Натянул Хррато тетиву живородящую.
– Ромм!
Стрела со свистом оленю в бок впилась. И словно силы ему добавила: кинулся он что есть мочи напрямки, ломанулся через кустарник, снег с рябинок, багульника да волчьего лыка на себя осыпая.
Всадники леопардовые на конях вороных за ним метнулись.
– След всё занёс, занёс след… – Аля ходила между стволов пихтовых, ища вчерашние следы, по которым шли. – Нет, нет!
Она руками всплеснула.
– Нет!
– Ад ноупле… нет хрипонь. – Согревшийся немного от движений собственных Оле ходил, прихрамывая, рядом с сестрой.
Вокруг блестел равнодушно снег.
– Надобно найти. – Инвалид сидел возле головешек, за ночь обледеневших.
Он мял руками культи ног своих, спрятанные в укороченные, кожей подшитые ватные штанины, приводя их в чувство. Борода его заиндевелая тряслась.
– Нет след! Нет след! – сокрушённо головой Аля качала. – Как идёт? Куда? Как мы доходи?!
– Замело ад ноупле вовгрэ… – Оле бормотал. – Никаких… ничего мормораш…
Бормотал инвалид:
– Плохо… следов нет….
Обхватил себя за плечи:
– Бьёт меня… орбоб… озноб… не дотащите вы меня… не смогу я…
– Куд идте? – Аля ходила по снегу, по сторонам оглядываясь.
Лес красивый, равнодушный стоял вокруг.
– Ад ноупле… ад ноупле…
Оле к дереву подошёл, стал мочиться. Закончив, к сестре вернулся:
– Есть хочу.
– Нет есть! – сестра вскрикнула. – Нет дороге! Нет тепло!
– Тепло… холод… бьёт с ночи… колотит… – старик бормотал.
– Ад ноупле идти вовгрэ надо.
– Куд? Куд??
Заплакала Аля, бессильно на колени в снег упала.
– Без меня… идите… я тяжёлый… руки трясутся с ночи… – старик бормотал. – Смерть рядом… снежок-то… дружок-то… снег снегу глаз не выклюет…
И рассмеялся, трясясь.
– Куд? Куд?? – Аля плакала.
– Поездов не слыхать ад ноупле хрипонь…
Брат присел рядом с сестрой, обнял её.
– Снег снегу глаз не выклюет… погоди… глаз… глаз…
Он вспомнил что-то важное и поднял руку трясущуюся:
– Глаз! Говорый… розовый! Розовый глаз!
Аля плакала, Оле обнимал её.
Инвалид зашевелился:
– Слушайте! Помощь! Великая! Надобно просить… надобно подносить… подарок… мокровище… сокровище… дар!
Оле глянул на старика:
– Ад ноупле отморозило морморош мозги ему…
– Слушать! Сюда!! – выкрикнул старик изо всей мочи.
Аля и Оле уставились на него.
– Хотите плыть… выть… то есть жить?! Жить?!
Близнецы молчали.
– Вам помогут, – произнёс старик грозно и серьёзно.
И понял вверх палец.
– Мне так он помог. И вам поможет. И нам поможет!
Близнецы смотрели на этого странного грузного старика с заиндевевшей бородой и золотым разбитым пенсне на большом синем носу. Солнце блестело в единственном треснутом стёклышке этого пенсне.
– Надо делать, чтобы по-мо-гли!! – закричал старик протяжно.
Эхо от его голоса наполнило утренний зимний лес.
– Иди сюда! – приказал он Оле, махнув рукой властно.
Тот подошёл к старику.
– У тебя есть с собой что-то боровое… что-то дорогое?
– Ад ноупле нет денег.
– Что-нибудь? Ну, пошарь в карманах!
Оле послушно в карманах пошарил, умницу достал.
– Ад ноупле, сдохла.
– Сдохла? Это не дорогое! Это не дар! Что ещё есть? А у тебя что есть?
Аля подошла, слёзы вытирая:
– Ничег.
– Ничег! И у меня ничег! Нет! Врёшь! Чег! Чег!!
Он снял пенсне со своего носа.
– Золото!
И помахал пенсне победно: