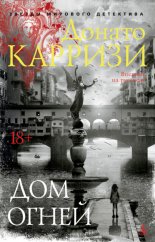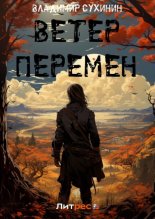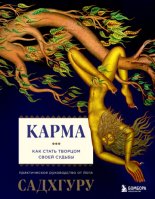Наследие Сорокин Владимир

– Есть дар!
Близнецы смотрели на него как на сумасшедшего.
– Теперь надо круг, круг сделать… нет, погоди! Равное… славное… главное забыл: кровь! Кровь белой вороны! У нас же её нет! Тогда была! А сейчас – нет! Не-е-е-ет!!
Старик закричал со злой обидой, махая пенсне.
– Кровь белой вороны! Кровь белой вороны… ммм… – застонал он и с горечью бородой затряс. – Кровь белой вороны… нет… её… ах ты…
– Белый ворона? – спросила Аля и вдруг рассмеялась, слёзы вытирая. – Я – белы ворона!
Старик непонимающе-скорбно на неё глянул.
– Я! Белы ворона! Белы ворона! – Аля расхохоталась и снова рухнула на колени. – О, белы ворона! Белы ворона! Они говорят! Белы ворона, в туалето сходи, умойсь!
– Что… она это? – недовольно старик на Оле глянул.
– Ад ноупле в школе дразнили корборан. Идиоты.
– Белой вороной?
– Да, тормез триста. Так и звали Альку ад хрипонь: белая ворона, ад ноупле, иди сюда. Я за неё норморош дрался сливхэ…
– Ты – белая ворона?! – старик вскрикнул.
– Я белы ворона… белы ворона… – Аля смеялась, раскачиваясь. – А-ха-ха! Белы ворона! Забыл я, забыл!
Старик по карманам пошарил, но ничего не нашёл:
– Чёрт… всё порастерял, старый дурак… у вас есть что-то дострое… мострое? Острое?! Нож, булавка? Гвоздь? Иголка? Острое?!
Близнецы зашарили по карманам.
– Ад ноупле нет.
– Нето.
– Нето-нето! – передразнил он Алю и глянул вокруг.
Снял с носа своё пенсне и быстрым движением выломал из него осколок стекла.
– Вблизи и без пенсне вижу!
Сжав осколок стекла в пальцах правой руки, левой из кармана ватника скомканный носовой платок вытащил и Але скомандовал:
– Иди сюда!
Аля подошла.
– Хочешь выжить? Хочешь выйти отсюда?
– Да, хоче. И Оле хоче.
– Тогда делайте, что скажу. И не спорь! Давай руку, Белая Ворона!
Аля руку ему протянула. Он схватил её, повернул к себе ладонью и полоснул по ладони стекла осколком.
– Ай! – Аля вскрикнула.
– Терпи! – старик прикрикнул.
– Ад ноупле… – начал было Оле, но инвалид прикрикнул на него:
– Молчи!
Из пореза на ладони кровь закапала. Инвалид платок подставил и держал его под раной, пока половина платка не окровянилась.
Потом отпустил:
– Перевяжи ей руку чем-нибудь. Только быстро!
Оле снял с шеи замызганный шарф и перевязал сестре руку.
– Теперь, парень, ступай во-он туда, где поляна. И протопчи круг. Во всю коряну, поляну! Только – ровно! Ровный круг! Живо!!
– Как ад ноупле?
– Ногами! Круг! Ровный!! – старик орал, бородой тряся.
– Ну ад ноупле… – Оле нехотя пошёл на поляну, хромая, по снегу ступая.
– А зачемо? Зачемо эт? – морщилась Аля, рану потуже шарфом перетягивая.
– Затем! – сурово инвалид произнёс.
Оле круг на поляне протоптал.
– Отлично! Теперь впиши в него медувольник… нет, треугольник! Равные стороны! Равные!! Токмо равные!!
Как сомнамбула, стал Оле равносторонний треугольник в круге протаптывать.
Протоптал.
– Стой там! А мы с тобой – пошли туда!
Передвигаясь на культях, одной рукой о снег опираясь, а другой пенсне и платок окровавленный бережно на весу держа, старик к кругу двинулся. Аля – за ним. Войдя в круг, старик вытоптал культями ватными, кожей подшитыми небольшое место в углу треугольника. И на снег примятый осторожно платок положил. Затем, проковыляв к другому углу, вытоптал его и выложил на снег свою золотую оправу.
– А мы – сюда! – скомандовал он, в третий угол ковыляя. – Быстро!!
Аля и Оле подошли к нему.
– Садитесь!
Близнецы рядом с ним в снег сели.
– Теперь, билые мои… стилые мои… милые мои, – зашептал он хрипло, волнуясь, близнецов обнимая, – надобно нам, нам надобно… надобно нам всем… глаза закрыть!
Но не успел он произнести это, как, громко наст круша, справа от них, среди стволов пихтовых показался олень серебристо-серый: рот окровавленный открыт, глаза безумны, в боках три стрелы торчат.
– Ромм!
Подоспела-свистнула четвёртая стрела, пронзила шею зверю. И рухнул он в снег со всего бега, перевернулся, лёг и в изнеможении голову рогатую поднял.
А за оленем поверженным выскочили двое всадников на чёрных конях в одеждах леопардовых с белыми головами. Подъехали к оленю. Один из них убрал за спину лук затейливый, из гнутых ветвей сплетённый.
– Плабюх, перережь ему горло! – громко приказал один из всадников на своём языке.
Сидящая рядом с инвалидом и братом Аля услышала слово знакомое.
– Плабюх? – произнесла она.
Оле и инвалид смотрели на всадников и оленя. Всадники заметили сидящих на снегу.
– Плабюх и Хррато! – громко произнесла Аля, вспомнив книгу.
Всадники замерли в сёдлах.
Аля узнала их, героев книги, которую ей разные люди читали.
– Плабюх и Хррато! – выкрикнула она. – Я вас знай!
И рассмеялась.
Всадники сидели, замерев.
– Вы… сильный! Быстрый! Вашу мамо убил медведо! Плабюх и Хррато! Убиват медленных и жесток! Да?
– Бог с ними… это… не надо… это не помеха… не помеха… пусть скачут своей дорогой… – инвалид сощурился на всадников, сильнее близнецов обнимая. – Не теряем время! Закрывайте глаза! Быстро!
Аля, Оле и инвалид глаза закрыли.
– Открывай! – инвалид скомандовал.
Открыли они глаза свои.
В центре круга, хромым Оле протоптанного, сидел белый ворон. Он был раза в два больше обычного ворона. Его розовые глаза со зрачками чёрными смотрели неподвижно. Сидящим на снегу и в седлах показалось, что ворон мраморный.
Появление белого ворона заставило всех, кроме инвалида, оцепенеть.
Он же затрясся мелкой дрожью радостной.
Глаз ворона моргнул.
Ворон посмотрел на сидящих в круге. И пошёл на своих когтистых лапах, наст блестящий не проламывая. Одна из лап ворона была поменьше другой. Он дошёл до платка окровавленного. Глянул на него. И клюнул его своим клювом белым, загнутым на конце. Щёлкнул клювом. Снова щёлкнул, внимательно поглядывая. Наступил лапой на платок. И стал клевать кровавую ткань, выдирая кусочки и проглатывая их.
Сидящие на снегу и в седлах, замерев, на ворона уставились.
Инвалид дрожал, всхлипывая и бородой потрясая.
Выклевав всю часть платка окровавленную, ворон посидел, клювом щёлкая. Потом пошёл в другой угол треугольника. К пенсне золотому, на снегу лежащему приблизился, глянул. Глазом моргнул.
И схватил пенсне клювом.
Постоял на месте.
И к третьему углу двинулся, где сидящие сгрудились.
Подошёл к ним с пенсне в клюве. Уставил на них розово-чёрный глаз свой.
Инвалид с трудом губы дрожащие разлепил, набрал в лёгкие воздуха.
И проговорил чётко и громко, стараясь не дрожать ни бородой, ни голосом:
– Мы хотим домой!
Ворон сидел, на них глядя. И вдруг крылами белыми, большими, сильными взмахнул, сидящих воздухом морозным обдавая. Вверх взлетел. Описал круг над поляной, пролетел чуть в лес, сел на сук пихтовый. Сидел белый в тёмной пихте. Солнце блеснуло в его глазу и на золоте пенсне.
– За ним… за ним! – прохрипел инвалид, волнуясь сильно и приподнимаясь.
Аля и Оле, потрясённые, на снегу сидели.
Плабюх и Хррато – в седлах.
Только хрип и кашель кровяной смертельно раненного оленя раздавался в лесу утреннем.
– Вставайте! – Инвалид стал тормошить близнецов.
Но они сидели словно парализованные.
– Вставайте!! Он путь покажет! Домой!
И стал приподнимать Оле и Алю. С трудом они встали. Схватив их за руки, заковылял по снегу к ворону. Тот дождался, пока трое ближе подошли, снялся с ветки, пролетел и сел на сухой сук сосновый.
– За ним! Только за ним! – старик радостно вскрикивал, близнецов таща.
Сидящие в седлах Плабюх и Хррато провожали их взглядом напряжённым. Всё произошедшее на этой поляне лесной лишило их дара речи и подвижности.
Первой пришла в себя Плабюх.
– Они знают нас. И знают про маму.
Хррато, как зачарованный, следил за уменьшающимися фигурами трёх людей, идущих по лесу. Ворон в тёмной хвое был еле виден. Подождав, он опять с ветки снялся и дальше полетел.
– Они знают про маму! – громко, с укором произнесла Плабюх и задышала, задышала носом. Сапфировые глаза её слезами наполнились.
Хррато молчал. Потом произнёс:
– Они… они…
И затряс своей головой белой так, словно что-то не так сделал.
Олень хрипел, лежа в снегу, кровь капала с его губ.
– Убить их? – спросил Хррато, как будто в забытьи.
– Нет! – Плабюх выдохнула и замотала головой. – Нет, нет, нет!
Из глаз её слёзы брызнули.
Хррато руки свои поднял и бросил вниз бессильно:
– Я… я… не знаю… не понимаю ничего…
Плабюх плакала беззвучно, теряющиеся в лесу фигуры сквозь слёзы еле различая.
– Я не знаю… что это, – Хррато произнёс. – И птица.
– Ворон… ворон… – Плабюх всхлипывала. – Белый. Как… камень в ручье нашем… помнишь, мамин ручей?
– Да.
– Там… камень. Белый-белый. Был. Снега белее. На птицу похожий!
– Да, помню.
– На птицу? Да?
– Да, на птицу!
– Да! Да! – вскрикнула Плабюх и коня пришпорила.
Конь из чёрного пластика живородящего с мотором стальным с места взял лихо, снег плотный копытами титановыми молоча. Хррато своего пришпорил.
Они быстро трёх людей догнали. Люди шли по лесу за вороном. Который взлетел с берёзы и полетел вглубь леса. И сел на пень пихтовый.
Трое пошли к нему, наст круша. Они торопились за птицей, но у них плохо получалось: инвалид грузный, пузатый ковылял, в снег проваливаясь, за парня и девушку держась. Парень прихрамывал.
Хррато и Плабюх пустили коней шагом за троицей. Но те даже не оглянулись. Их взоры на ворона устремлены были. Ворон дождался их, взлетел с пня, дальше полетел. Пенсне желтело у него в клюве. Трое спешили за ним.
Плабюх пустила коня своего рядом. Девушка и парень глянули на неё равнодушно. Она же жадно вглядывалась в лица их. Эти лица что-то несли в себе. Важное. И оно касалось их с Хррато. Она не могла понять – что это? Сердце её билось сильно.
Хррато хотел что-то сказать, но снова бессильно руки свои поднял и бросил.
Ворон взлетал и садился. Садился и взлетал.
Трое шли за ним. Плабюх и Хррато – за тремя.
Наконец инвалид из сил выбился. И на снег опустился, дыша тяжело.
– Не могу… ой… мочи нет… – пробормотал он загнанно. – Идите вы за ним. За ним! А я тут… тут…
Он в снег навзничь повалился. Лицо его, опухолью обезображенное, раскраснелось. Не отрывая взора от ворона, сидящего поодаль на ёлке, Аля и Оле остановились. Руки их вцепились в ватник инвалида, потянули. Но сдвинуть грузного старика с места сил уже не было.
– Ну… ну же! – Аля нетерпеливо тянула его.
– Сами, сами… он вас приведёт…
– Ад ноупле… – Оле бормотал, силясь старика поднять.
Но тщетно.
– Ну… так же не надо! – Аля взвизгнула. – Надо идёт за ним!
– Сами, сами… я тут…
– Идёт за ним!
Хррато и Плабюх следили за этой сценой, в сёдлах сидя.
“Камень белый в ручье на птицу похожий мама говорила вот птица белая в воде лежит лежит а потом взлетит и полетит по лесу полетит полетит и всем нам добрый путь покажет.”
“Камень в ручье тот камень он как птица был и мама однажды сказала смотрите вот этот камень белый это птица она тут будет лежать и спать а потом когда время придёт проснётся вылетит из воды полетит и покажет верный путь.”
– Я останусь тут, – инвалид произнёс, в небо глядя.
– Нет! Надо идёт! Ну же!! – бессильно Аля закричала.
– Ад ноупле торфэ… торфэ! – тянул инвалида Оле, кряхтя.
И тоже упал, оступившись.
– Ну же! Ну же!! Он же ждёт!!
Ворон мраморной фигуркой белел в хвое густой, людей ожидая.
– Ну же!!!
И вдруг, не произнося ничего, Хррато вниз с седла свесился, в инвалида вцепился и единым рывком могучим это тело грузное, ватно-засаленное, уставшее поднял и усадил на коня в седло, сам моментально на круп вороной сдвигаясь.
Аля и Оле рты открыли. И не успели они закрыть их или сказать что-то, как сильные, обтянутые мехом баргузинского леопарда руки Плабюх схватили Алю и усадили на коня впереди себя. Затем схватили Оле и усадили на лошадиный круп.
– А… что? – инвалид произнёс, косясь на необычное лицо Хррато.
Но вместо ответа тот пришпорил вороного коня своего.
Часть III
Milklit
Пространство грозы неотвратимо наползало на Телепнёво со стороны Рябого леса.
Дождь, о котором уже месяц говорили в поместье и судачили в деревне, долгожданный, столь необходимый людям, животным и природе июньский дождь, выслал своим предвестником сильный ветер, поднявший пыль с дорог, заколыхавший бордовые мальвы в деревенских палисадниках, спутавший русые волосы деревенских ребятишек и закачавший могучие кроны дубов приусадебной аллеи. И сразу же за порывами ветра послышался дальний раскат грома – совсем дальний, несильный, словно усталый выдох великана Святогора, спустившегося со своих великих гор в долину к людям и улёгшегося на поля отдохнуть.
– Похоже, гроза идёт? – вопросительно произнесла Вера Павловна, расставляя собранные на лугах цветы в старую французскую вазу с потрескавшейся бледно-голубой эмалью.
На террасе кроме неё никого не было. Овальный стол всё ещё был покрыт бело-розово-сире-евой скатертью с бледным коричневым пятном: Глеб за завтраком в очередной раз опрокинул чашку какао. Пятна на скатертях Веру Павловну никогда не смущали. Зато Ольга Павловна ещё за завтраком громко потребовала у Даши, чтобы та постелила свежую скатерть, негодующе глядя на племянника, который, как всегда в таких случаях, шептал что-то своими пухлыми, всегда обидчивыми губами и смотрел так, словно всем своим видом говоря: “Вы все такие глупые люди и ничего не понимаете в этом мире, как же мне скучно с вами!” Но и Даша традиционно не спешила выполнять распоряжений Ольги.
– Неужели польёт? – снова спросила Вера и, не прерывая своего занятия, глянула на красивый старинный оконный переплёт веранды.
Там плющ и дикий виноград взбирались на веранду с северной стороны. За ними ничего не было видно. Гром пришёл с севера.
– Ох, хорошо бы! – заключила Вера, взяла салфеткой зверски колючий и потрясающе красивый татарник и с осторожностью, чтобы не уколоться, водрузила его в центр букета.
В распахнутой, ведущей с террасы в дом двери послышались знакомые тяжело шаркающие шаги, и на террасу вошёл грузный пучеглазый и безбородый повар Телепнёвых – Фока. Одутловато дыша, словно он только что тяжко и долго пахал землю, повар уставился на Веру своими страшными глазами.
– Вера Павловна, когда нынче обед подавать?
Голос повара был высоким, почти женским.
– Как всегда, в пять, – ответила она, стараясь не смотреть ему в глаза. – Мы же всегда в пять обедаем.
– В пять, конечно, а как же! – Повар приподнял свои могучие, полные, неизменно голые по локти руки. – Так ведь гости же! Я подумал, может, нынче другим часом аппликация намечена?
“Он похож на утопшего мельника…”
Несмотря на внешнюю грузность и неуклюжесть, повар любил выражаться витиевато, употребляя неизвестные ему слова. Он шесть лет проработал в московских трактирах.
– Фока, вы же знаете, что время обеда в нашем доме меняется только по праздникам, – спокойно произнесла Вера, глядя в потный маленький лоб повара, пересечённый глубокой продольной, похожей на овраг морщиной. – Сегодня разве праздник?
Повар всплеснул увесистыми ладонями:
– Так нет же, конечно, нет! Но я подумал… я ж опасался, что временная оппозиция… она же может поменяться, как ни крути!
– Фока, – улыбнулась Вера, – ступайте на кухню и ничего не опасайтесь. Никакой временной оппозиции.
“И ведь верит в то, что несёт, верит всегда… ”
В отличие от мужа и Ольги, Вера Павловна всей прислуге говорила “вы”. Складка на лбу повара зашевелилась. Глаза его выпучились сильнее, словно он проглотил лягушонка:
– Простите мою абрербацию, Вера Павловна!
Я же как лучше хочу!
– Хорошо. Вам всё ясно с меню?
– Всё как в аптеке, Вера Павловна: паштет, заливное, сельдь под шубкою, шейки раковыя, уха! Оксане пироги с утреца заказал, выпечет в лучшем виде!
– Прекрасно. Ступайте.
Повар развернул своё медвежье тело, чтобы выйти.
– Погодите! А форшмак?
– А как же-с?! – Он угрожающе развернулся к ней, обдавая запахом пота, которым от него всегда разило. – Селёдочку уж провернул!
“Негодует… но помнит всё…”
Складка-овраг на его лбу обиженно изогнулась. Вера посмотрела на его мясистый, блестящий от испарины подбородок.
– Прекрасно, Фока. Ступайте.
Повар вышел, тяжко шаркая.
“Медведи живут среди людей… и мы с этим давно смирились…”
Вера Павловна поставила в вазу лежащие на скатерти три стеблинки ржи и отстранилась, любуясь букетом.
– Tresbien…
Букет был красив. В отличие от сестры Ольги, Вера совершенно не разбиралась в названиях полевых цветов и трав. Она знала только пижмы, мать-и-мачеху, клевер да зверобой. Но глаз был у неё превосходным, а вкус – отменным. Букет, как всегда, получился совершенным. Три резных листа папоротника окружали колокольчики, сурепку, львиный зев, куриную слепоту, иван-чай, клевер, ромашку, аистник, васильки, лютики, мяту, пижмы, кукушкины слезы и пастушью сумку.
“Как я хорошо собрала… всё есть в природе… потрясающее разнообразие… если ты различаешь… а чего ты не различаешь – нет и никогда не было…”
Раз в неделю после завтрака Вера Павловна уходила на дальний луг и собирала букет. Пора сенокоса ещё не пришла, и травы росли, набирая силу.
Налюбовавшись своим произведением, она подняла вазу и переставила на центр стола, согнувшись в пояснице. Узкий летний жакет и длинная юбка подчеркивали стройность Вериной фигуры. Она скомкала салфетку и сунула её в кармашек жакета.
“Вот. Букетик. Назову его…”
– Радость лета. Или просто – радость. Или… радость № у.
“Седьмой в этом году”.
Снова послышался гром.
Вера сошла с террасы по крыльцу, ступила на тщательно выкошенный газон и глянула на север. Там уже темнело. Налетел порыв сухого ветра, зашелестел юбкой. Соринка попала в глаз. Моргая и потирая веко, Вера направилась к соснам. Между ними висел гамак, и в нём лежала французская книга, толстый роман “Les Bienveillantes”, который она сейчас читала.
Когда соринка сморгнулась, Вера снова глянула на небо.