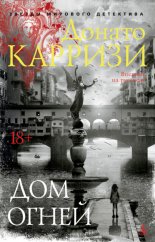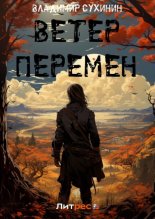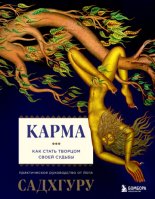Наследие Сорокин Владимир

– Пойдёт, пойдёт.
Ольга вышла.
Вера взяла Глеба за руку:
– Пошли. Без чая с мёдом не отпущу.
Глеб нехотя двинулся за матерью. Красный махровый халат был ему велик и волочился по полу. Они спустились в гостиную, прошли в столовую. Слышно было, как на кухне кипит работа.
– Садись и жди меня, – сказала Вера, а сама пошла на кухню.
Глеб уселся за большой стол.
На кухне Фока готовил, Даша резала овощи на доске.
– Даша, сделайте нам чаю с мёдом и малиной, – распорядилась Вера.
Даша тут же бросила нож и пошла исполнять.
Едва Даша наполнила обе чашки китайского фарфора ромашковым чаем и водрузила заварной чайник на попискивающий электросамовар, заскрипели ступени лестницы и в столовую спустился Пётр Олегович Телепнёв – муж Веры Павловны, отец Глеба, пятидесятилетний полный мужчина с мясистым, брылястым, толстогубым и всегда румяным лицом, широкой шеей, пристальными быстрыми глазами и развалом местами седеющих тёмно-каштановых волос. Он был в холщовой толстовке с засученными рукавами, в широких, также холщовых штанах и кожаных греческих сандалиях.
– Ну вот! – произнёс он рокочущим баритоном, снимая на ходу круглые очки в тонкой металлической оправе. – Слышу звуки самовара!
– Мы промокли с Глебушкой. – Вера накладывала сыну в розетку тёмного гречишного мёда.
– Рыбу ловили? – пророкотал Пётр Олегович, подходя и оглядываясь. – Как темно! Ну и ливень! Даша, зажги канделябр!
Он ступал косолапо, полными тяжёлыми ногами, которые плохо сочетались с его подвижным, живым и быстроглазым лицом.
Даша стала зажигать свечи стоящего на комоде канделябра.
– Двух окуней поймал, – сообщил Глеб, громко отхлёбывая чай своими обиженными, пухлыми губами.
– Молодец!
– Присоединяйся к нам, Петя.
– С удовольствием! – Он уселся за стол.
– Даша, подайте стакан Петра Олеговича.
– И огня сюда, огня!
Даша поставила канделябр на стол.
Несмотря на полноту и косолапость, Телепнёв делал всё своими белыми руками быстро и ловко. Дотянувшись, он взял Верину руку своей полной белой рукой с не по-мужски изящными, к ногтям сужающимися пальцами и быстро чмокнул запястье жены:
– Ты тоже ловила?
– Нет, я Глебушку встретила с зонтом. А Тимофей нас подвёз.
– Вот как! Успели? Увернулись? Эвон как льёт! – Пётр Олегович покосился на окна. – Внезапно небо прорвалось с холодным пламенем и громом!
– И впрямь прорвалось. Потоп.
Вера стала наливать ему чаю в стакан в подстаканнике с советской космической символикой:
– Даша, ступайте к Фоке, вы там нужней.
Даша вышла.
– Ну вот. Сеть рухнула, – сообщил Телепнёв, тряхнув развалом прядей и принимая стакан. – Как всегда во время грозы. Раз – и нет! Словно в старые времена! Юймэй![25]
– Зато есть возможность почаёвничать, – улыбнулась Вера.
– О да, о да! Положи-ка мне, Веруша, медку.
Вера положила мёду, он взял розетку, сразу ополовинил её чайной ложкой и запил мёд чаем, зачмокал:
– Не могу вязать.
– Отдохни, Петя.
– Мы отдохнём, как говорили известные тебе сёстры… ммм… чудесная ромашка… аромат луговой… и мёд хорош…
– Это не с ярмарки, а наш, деревенский.
– Пахома? Или Женьки?
– Пахомовский.
– Пахом – правильный мужик.
– Он жену свою колотит и детей, – сообщил Глеб.
Родители переглянулись.
– А ты откуда знаешь, Herr Fischer[26]?
– Митяйка рассказывал.
Телепнёв отхлебнул чаю:
– Ну вот. Мда… это… ммм… скверно. Бить никого нельзя. Даже животных.
– Я бы Виперию побил, – прихлёбывал чай Глеб. – Она наглая и злая. И со стола ворует.
– Новая кошечка, ещё к нам не привыкла. – Вера бесшумно, в отличие от мужчин, пила чай.
– Диковата, диковата, – кивал седеющими прядями Пётр Олегович. – Но ты понимаешь, сын мой дорогой, путь насилия хоть и самый простой, но совершенно тупиковый.
– Пап, она ласки не понимает. Плохая кошка! Оцарапала меня.
– Э, нет, родной. – Пётр Олегович зачерпнул полную ложечку мёда, отправил в рот и тут же запил чаем, задвигал увесистыми розовыми щеками. – Плохих животных… ммм… не бывает, как и плохих людей. Что есть плохо? Поступок! Кто его совершает? Человек. Вопрос: способен ли человек, совершивший плохой поступок, после этого совершить поступок хороший?
– Способен, – ответил Глеб.
– Но если бы он был плохим человеком, он бы не был способен на хорошие поступки. А совершал бы только плохие! Значит, он не плохой человек. И не хороший. А – просто человек. Ното sapiens с суммой хороших и плохих поступков. Так и животные. Вот эта Виперия тёти Олина, она же не всё время шипит, царапается и ворует? Может и приласкаться, и ласково помурлыкать? Может?
– Ну, может… но всё равно противная.
– Противная! Потому что ты запомнил только её плохой поступок. А если бы мы с мамой держали в памяти только твои плохие поступки, кем бы ты был для нас? Или мама помнила бы только мои плохие поступки?
Вера притворно-грозно прищурилась:
– И какой был последний?
Пётр Олегович тут же задумался, лицо его стало сумрачно-серьёзным. Он угрожающе процедил:
– Третьего дня облил тебя за завтраком сливками.
И расхохотался, откидываясь на спинку стула. Смех его был сильный, задорный, грудной. И всегда заражал окружающих.
Вера и Глеб тоже засмеялись.
– Так что, Глеб, не суди Випу строго. Помни, что говорил Филипп Филиппович из “Собачьего сердца” – ласка, только ласка.
Глеб кивнул.
Телепнёв покосился на окна:
– И не думает переставать!
– Петя, месяц сушь стояла.
– Да, да, пыль глотали мужики и бабы… А нынче: шёл дождь, скрипело мироздание… Веруша, я прошу прощения!
Он прижал руки к пухлой груди.
– Что такое?
Пётр Олегович замер в этой позе. Затем произнёс робким шёпотом:
– Я про-го-ло-дался!
– Господи! – Вера рассмеялась.
– Завтракали рано, а сейчас уж первый час.
– Я тоже есть хочу, – сказал Глеб и перевернул на блюдечке пустую чашку.
– Господи, мои мужчины голодные! – Вера всплеснула руками, встала и пошла на кухню.
Пётр Олегович обнял сына:
– Дадут! Дадут нам поесть!
Вскоре на столе оказались варёный окорок, жареная холодная курица, свежие огурцы, пшеничный и ржаной хлеб, сливочное масло и овечий сыр. Пётр Олегович достал из буфета графин с водкой, настоянной на смородиновой почке, подмигнул:
– Ну вот. Чтобы легче проскочило! Да и обед у нас безалкогольный…
– Чтение и водка несовместны.
– Увы!
– Тогда… Петя, и мне рюмку. Я озябла в лесу.
– Правильно!
Он взял две хрустальные рюмки и с графином подошёл к столу, стал разливать золотистую настойку.
– И кстати, в лесу наткнулась на мягкий куб.
Густые чёрные брови его поднялись:
– Что ты говоришь!
– Да. Ползёт в лесу у нас.
– Почему в лесу?
– Ты у меня спрашиваешь?
– Кубы только по полям должны ползать. – Глеб взял кусок курицы.
– Именно! Какого черта он ползёт в лесу?
– Пошли запрос в МЭ, дорогой.
– Сеть рухнула. Не до запросов! Но… эдак он и в дом вползти может?
– Может.
– Нет, я не против. Как вползёт, так и выползет, и дом наш будет в сто раз L-гармоничней, но…
– Но! – Вера подняла рюмку. – Выпей за наше с Глебом здоровье. Простужаться летом не хочется.
– Ваше здоровье, дорогие мои!
Они чокнулись и осушили свою рюмки.
– Ну вот. Ах, хороша! – Пётр Олегович взял двумя пальцами огурец и захрустел им.
Вера положила ему и себе ветчины. За окнами заполыхала молния и загремело так, что в буфете зазвенела посуда.
– Зевс Громовержец! – Хрустя огурцом, Пётр Олегович подмигнул Глебу.
– Пап, а у нас есть громоотвод?
– Не знаю… – задумался отец. – Не знаю!
– В этом доме есть всё. – Вера делала сыну бутерброд с ветчиной. – Кроме новой ванны.
– Ну, душа моя, в мире материи всё ломается, рано или поздно.
– А потом ремонтируется.
– Я послал запрос, всё будет. Я сам тебя опущу в новую ванну.
– Жду не дождусь!
Глеб доел курицу, рыгнул. Мать протянула ему бутерброд.
– Мам, я не хочу.
– Правильно, не переедай. Сегодня большой обед. – Она вытерла ему раскрасневшиеся тубы салфеткой.
– Я пойду к себе, поскольжу. – Он встал.
– Так Сети же нет пока.
– А у меня цзин[27].
– Хорошо, только переоденься. И кофточку надень.
Глеб вышел, прошуршав халатом по паркету. Жуя, Пётр Олегович проводил сына довольным взглядом:
– Как он… ммм… возмужал! За одну весну. Стремительно!
– Да, – улыбнулась Вера.
– По последней. Выпьем за Глебушку! – Он стал наполнять рюмки.
– Подожди. – Она положила свои пальцы на его широкое запястье. – Подожди, дорогой.
Муж замер с графином в руке.
– Поставь пока.
Он поставил графин на стол. Помедлив, Вера вздохнула:
– Петя, дорогой, я давно тебе хотела что-то сказать.
Он смотрел на неё. Когда лицо его принимало серьёзное выражение, большие щёки его выглядели особенно по-детски беспомощно.
– Что-то сказать. – Она погладила его по руке. – Ты сейчас вспомнил, что облил меня за завтраком сливками. Коровьими сливками. Пролил на меня из сливочника. Сливки. Белые.
– Да, дорогая, да, и поверь, это было какое-то помутнение… я качнулся, как какой-то похмельный официант из…
– Помолчи.
Он смолк.
Она приблизила к его большому лицу своё узкое, красивое, словно выточенное из слоновой кости лицо:
– Муж мой, почему ты уже долгое время орошаешь меня своими драгоценными сливками только по тем дням, когда я не моту забеременеть?
Рот Петра Олеговича раскрылся. Он уставился на жену так, словно увидел другого, незнакомого ему человека.
– Извини меня за прямолинейность. Извини. Но я… я думала эти месяцы, как это получше сформулировать. И всё получалось как-то глупо, по-бабьи. А теперь… эти сливки помогли. Или мне кажется, что не помогли, не знаю… В общем… в общем, скажи, Петя… Пётр, ты так не хочешь детей?
– Дорогая… – пролепетали его губы.
Она тут же накрыла их пальцами:
– Подожди, милый, подожди! Я не так сказала, прости дуру, я просто волнуюсь.
– Милая, Веруша, родная моя…
– Молчи! Умоляю!
– Хорошо, хорошо… только не волнуйся так…
– Да, я волнуюсь, меня всю трясёт… – Она выдохнула и вздохнула глубоко. – Господи, дай мне сил!
Взяла его за тяжёлые щёки:
– Любимый мой человек, родной мой Петя. У меня никого нет, кроме тебя и Глеба. Оля – родная, но… ты знаешь наши с ней отношения. Мама с папой в могиле. Брат погиб на войне. Ты и Глебушка. И всё. В этом мире. Как это: без тебя… без вас, без твоей любви, как в чёрной книге, страшно в мире душном. Мы втроём счастливы. И это прекрасно! Это наше счастье. Даже – не семейное, а просто – счастье. Большое наше счастье, которое длится и длится. Мы его ценим и дорожим им. Я дорожу каждой минутой нашего счастья. Но я не хочу… нет… я хочу, да, я хочу, чтобы наше счастье мы с тобой ничем не ограничивали, не загоняли в рамки… ну, семейной рутины, так это сказать? Да! Рутины серой. Чтобы мы не надевали на счастье шоры такой вот рутины, такой мещанской рассудительности!
– Но, милая…
– Молчи, дорогой!
Она снова накрыла его большие, мягкие, всегда тёплые губы.
– Наше счастье – животное большое и очень свободное. Если мы наденем на него шоры, взнуздаем здравым смыслом быта, будем понукать, стреноживать – оно быстро превратится в забитую клячу. И тогда – серая рутина жизни обрушится на нас, милый мой, она покроет нас, засыпет всё, всё, все наши радости! Они окаменеют. И мы станем каменными тоже. И будем жить, как окаменевшие люди, жить, двигаться, говорить нужные слова, заниматься любовью, а потом не заниматься – и так до гробовой доски. Каменная жизнь! И это будет ужасно.
Она замолчала. В карих глазах её стояли слёзы.
Пётр Олегович набрал в лёгкие побольше воздуха, отвёл её руку от своих губ:
– Ну вот. Дорогая, милая моя, я клянусь тебе, кля-ну-сь всем святым на свете, всем, что у меня есть, жизнью своей, что я ни-ког-да, слышишь? никогда не рассчитывал и не высчитывал твои опасные дни! Да, это было ещё до рождения Глеба, в Тайбэе, когда мы, молодые, береглись с тобой из-за твоей учёбы, и это было наше решение, наше с тобой, совместное, осознанное! Но чтобы я сейчас сам что-то рассчитывал, составлял какой-то график, приспосабливался, берёгся… это… бред, дорогая моя Веруша!!
Последние слова он выкрикнул ей в лицо. От волнения брылья его налились кровью.
Она вытерла слёзы.
– Как… как ты такое подумать могла?! Разве это похоже на меня, а?
– Да нет, непохоже, – всхлипнула она.
– Я… я такой расчётливый, бухгалтер эдакий, Ионыч толстомясый, да? Слежу за опасными днями жены! Да?
Он взял её за хрупкие плечи:
– Посмотри на меня! Я – Ионыч?
– Нет, милый, что ты…
– Послушай, ты же знаешь, когда я пахтаю, плету, когда вяжу витальные струи, я расплачиваюсь за это.
– Я знаю, милый, знаю…
– И в эти периоды я, ну, я… нечасто орошаю тебя моими сливками!
Он расхохотался, затряс головой так, что пунцовые брылья заколыхались:
– Прости, прости, что я несу! Но это – правда, правда! Издержки профессии, ты это знаешь лучше меня!
– Знаю, знаю… – Она опустошённо рассмеялась.
– Тебе просто… ну… показалось, померещилось, что я что-то подгадываю, что-то высчитываю!
Он сжал её плечи, приближаясь лицом:
– Любимая моя, насколько ты знаешь, в постели я не Плюшкин! Не Гобсек! И даже не Дон Кихот! Клянусь тебе, что сегодня я… я за-топ-лю тебя! Если не сливками, то… хотя бы… нет, нет, что я несу, милая, что я несу! И вообще – что мы с тобой несём?!
Он захохотал, обнимая её, она рассмеялась тоже. Они смеялись и смеялись, отдаваясь смеху, обнявшись и раскачиваясь на стульях.
– Хохочете? – раздался голос входящей в столовую Ольги.
Они не могли остановиться.
– И пьянствуете? – Она заметила графин с водкой.
– Именно! Именно! – пророкотал Пётр Олегович, доставая платок и отирая свои глаза.
Вера полезла в карман жакета и вместо платочка вынула салфетку, которой берегла пальцы от татарника. Она высморкалась в салфетку и стала вытирать ею глаза.
– Виперия сбежала от грома, – сообщила Ольга и подошла к окну. – Конца не видно. Мой сад весь смоет.
– Ну вот. Уф… давно так не хохотал… – Телепнёв перевёл дыхание.
– Я… – начала было Вера, но снова стала смеяться.
– Не продолжай, умоляю! – Он схватил жену за плечи. – А то молочная тема угробит нас!
– Да, да, ладно… всё… – Она вздохнула и ровно задышала. – Спокойно, спокойно…
– Что же вас так развеселило? – спросила Ольга, постукивая ногтем по оконному стеклу. – Опять milklit?
– Нет, другое… так, аберрация… – произнесла Вера.
– Аберрация? Наш Фока любит это слово. Если пироги подгорели, говорит: аберрация случилась.
– Мда… аберрация… милая, мы так с тобой и не выпили за здоровье Глеба. – Пётр Олегович взял свою рюмку. – Оленька, выпьешь с нами?
– Для меня слишком рано.
Вера подняла свою рюмку. Они чокнулись и выпили.
– Пойду Випу искать. – Ольга пошла к двери.
– Она забилась куда-то, гроза кончится, сама выйдет, – предположила Вера, закусывая водку.
– Не знаю…
Ольга вышла.
Гроза завершилась к трём, затопив большой сад и побив ливнем цветы малого. А к пяти часам в имение Телепнёвых съехались гости: Пётр Петрович Лурье, milkscripter, с супругой Лидией Андреевной, Протопопов Иван Иванович, milkscripter, с подругой Таис и Ролан Генрихович Киршгартен, переплётчик. До имения каждый добрался по-своему: Лурье доехали поездом, а со станции взяли коляску, Протопопов и Таис прикатили на своём оранжевом БМВ, Киршгартен с получасовым опозданием прилетел на серебристо-чёрном аэропиле, приземлившись прямо у крыльца террасы. Выключив двигатель, он снял шлем с головы и проговорил своим негромким, всегда спокойным голосом:
– Прошу прощения, дамы и господа! Опаздывает тот, кто быстро едет или летит.
– Ну вот! Genau![28] – пророкотал Пётр Олегович, стоя с бокалом кваса в руке.
В ожидании припозднившегося все пили квас и брусничный морс у закусочного столика. Алкоголя на столике не было.
– Ролан, вы Меркурий! – восторженно-угрожающе произнесла высокая, смуглая и стройная Таис.
– Скорее – Пегас! – добавил такой же высокий, худощавый и смуглый Протопопов. – Тебя не сбила ПВО?
– Как видишь. – Киршгартен бросил шлем на газон, отстегнул аэропиль и позволил ему также упасть на газон, открыл багажник и достал бутылку шампанского.
– Успел ты, брат, после грозы! – тряхнул прядями Телепнёв. – Повезло тебе!
– Он же немец, всё рассчитал! – улыбалась Вера.
– Штрафную кваса Киршгартену! – улыбался круглолицый бородатый Лурье.