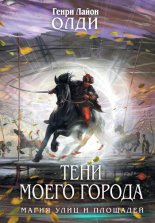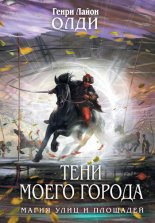Битва за Рим Маккалоу Колин
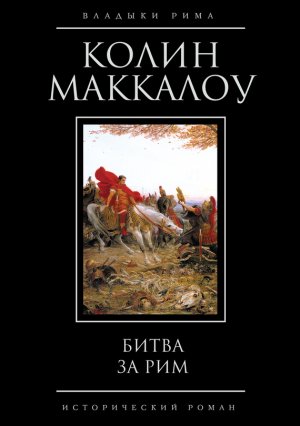
Мальчик тут же вскочил, просунул руку под правое плечо Мария и довольно сильно подтолкнул его, так что дядя смог принять желаемую позу. Проделано это было без всякой суеты и лишнего шума и выдавало силу, замечательную для ребенка такого возраста.
– Намного лучше! – задыхаясь, сказал Марий, которому теперь было гораздо удобнее смотреть на собеседника. – С таким сторожевым щенком я пойду на поправку.
Скавр просидел с ними еще час; Цезарь-младший заинтересовал его куда больше, чем болезнь Мария. Мальчик вел себя скромно, отвечал на заданные вопросы с достоинством и почтительностью взрослого и жадно слушал, когда Марий и Скавр обсуждали вторжение Митридата в Вифинию и Каппадокию.
– Для десятилетнего ты хорошо начитан, Цезарь-младший, – сказал Скавр, собираясь уходить. – Не знаешь ли ты юношу по имени Марк Туллий Цицерон?
– Только понаслышке, принцепс сената. Говорят, со временем он станет самым прославленным римским адвокатом.
– Кто знает, кто знает, – сказал Скавр, направляясь к двери. – Сейчас его таланты направлены на военную службу. Я зайду к тебе через несколько дней, Гай Марий. Раз уж ты не сможешь прийти в сенат, чтобы послушать мою речь, я прочту ее здесь для начала – тебе и Цезарю-младшему.
Скавр шел домой, на Палатин, чувствуя страшную усталость. Состояние Гая Мария огорчало его куда больше, чем он готов был признать. Уже шесть месяцев минуло, а великий человек по-прежнему прикован к ложу в таблинии. Возможно, общение с мальчиком (хорошая идея) будет способствовать выздоровлению. Но Скавр сомневался, что заклятый враг, с которым его связывала давняя дружба, когда-нибудь поправится настолько, что сможет вновь присутствовать в сенате.
Долгий подъем по лестнице Весталок так утомил его, что он вынужден был постоять на спуске Виктории, прежде чем идти дальше. Когда он стучал в свою дверь со стороны улицы, его мысли были полностью поглощены теми трудностями, с которыми – в этом он не сомневался – придется столкнуться, убеждая сенат, что дела в Малой Азии не терпят отлагательств. Дверь ему отворила жена.
«Как же она хороша! – думал Скавр, с истинным наслаждением вглядываясь в ее лицо. Все волнения прошлого давно улеглись, его сердце принадлежало ей. – Благодарю тебя за этот дар, Квинт Цецилий», – думал он, с нежностью вспоминая своего умершего друга Метелла Нумидийского Свина. Ведь именно Метелл Нумидийский отдал ему Цецилию Метеллу Далматику в жены.
Скавр потянулся к ней, дотронулся до лица, склонил голову ей на грудь, его щека коснулась ее гладкой молодой кожи. Глаза его закрылись. Он вздохнул.
– Марк Эмилий! – окликнула она, пошатнувшись под тяжестью его вдруг обмякшего тела. – Марк Эмилий!
Она обвила его руками и кричала – кричала, пока не сбежались слуги и не забрали от нее безжизненное тело.
– Что это? Что это? – повторяла она.
Ей ответил один из слуг, поднимаясь с колен у ложа, где лежал Марк Эмилий Скавр, принцепс сената:
– Он мертв, domina. Марк Эмилий умер.
Почти одновременно с новостью о смерти принцепса сената Скавра в Рим пришла весть о смерти Секста Юлия Цезаря от грудной болезни, которая обострилась во время осады Аскула-Пиценского. После того как Помпей Страбон переварил новости, которые содержало письмо, подписанное легатом Секста Цезаря Гаем Бебием, он принял решение. Сразу же после похорон Скавра он самолично отправится в Аскул.
Деньги на похороны за государственный счет сенат выделял лишь в исключительных случаях, но даже в такое тяжелое время нельзя было и помыслить, чтобы Скавра не удостоили этой чести. Весь Рим обожал его, и весь Рим вышел на улицы оказать ему последние почести. Никогда уже жизнь не станет прежней без Марка Эмилия, без его плеши, в которой, словно в зеркале, отражалось солнце, без прекрасных зеленых глаз, которые зорко следили за всеми родовитыми римскими подлецами, без его остроумия и храбрости. Долго еще его будет не хватать.
То, что он покидает Рим в дни траура, было для Марка Туллия Цицерона предзнаменованием. Он тоже умер для всего, что было ему дорого, – для Форума и книг, для законов и риторики. Мать была занята сдачей внаем дома в Каринах, ее сундуки уже ждали отправки в Арпин, однако вещей Цицерона она складывать не стала. Ее не оказалось дома даже тогда, когда пришло время прощаться. Он выскользнул за дверь, позволил подсадить себя в седло – отец прислал ему лошадь из Арпина, так как семья не удостоилась чести иметь государственного коня. Его немудреные пожитки были навьючены на мула – все, что не поместилось, пришлось оставить. Помпей Страбон воевал налегке, не терпя офицерских обозов. Об этом Цицерон узнал от своего нового друга, который часом позже поджидал его за городом, на Латинской дороге.
Когда небольшой отряд Помпея Страбона покидал Рим, направляясь в самую пасть зимы, холод стоял ужасный: дул резкий ветер, с балконов свисали сосульки, ветви деревьев были окованы льдом. Часть армии, которая после триумфа стояла биваком на Марсовом поле, уже выдвинулась в путь. Остальные шесть легионов Помпея Страбона ждали его подле Вейи, города неподалеку от Рима. Здесь они и заночевали. Цицерону пришлось делить палатку с другими контуберналами. Всего их было восемь. Младшим был шестнадцатилетний Помпей, старшему, Луцию Волумнию, исполнилось уже двадцать три. Во время дневного перехода у них не было ни времени, ни случая знакомиться, поэтому Цицерон исполнил эту обязанность, когда они разбили лагерь. Он не имел ни малейшего представления, как ставить палатку, не понимал, чего от него хотят. Так он топтался позади других с несчастным видом, пока Помпей не сунул ему в руки веревку и не велел стоять на месте и крепко держать ее.
Когда по прошествии времени Цицерон – теперь уже много переживший и повидавший – вспоминал тот первый вечер в палатке контуберналов, он не переставал удивляться, как ловко и незаметно Помпей помогал ему. Он без слов дал понять остальным, что Цицерон пользуется его покровительством, поэтому никаких насмешек над внешностью или физической слабостью новобранца он не потерпит. Без всякого сомнения, в палатке царил Помпей, однако вовсе не потому, что был сыном командующего. Образованием он не блистал, но ум у него был замечательный, а самоуверенности хватило бы на троих. Он был рожден повелевать, не терпел преград и не выносил дураков. Возможно, поэтому ему полюбился Цицерон, умный и так же не расположенный терпеть ограничения.
– Все это никуда не годится, – сказал Помпей-младший Цицерону, бросив взгляд на лежавшие в беспорядке пожитки своего приятеля.
– Никто не сказал мне, что надо взять, – ответил синий от холода Цицерон, клацая зубами.
– У тебя что же, ни матери, ни сестры? Они всегда знают, что собрать в дорогу, – сказал Помпей.
– Сестры нет, только мать. – Цицерон не мог унять дрожь. – Но она меня не любит.
– У тебя что, нет штанов? И рукавиц? И двойной шерстяной туники? И теплых носков? И шерстяной шапки?
– Только то, что здесь. Я не подумал. Конечно, у меня есть все это, но дома, в Арпине.
«Какой семнадцатилетний мальчишка подумает о теплой одежде?» – спрашивал себя Цицерон спустя годы – и опять становилось тепло на душе, когда он вспоминал, как Помпей, не дожидаясь согласия остальных контуберналов, заставил каждого поделиться с Цицероном чем-нибудь из теплых вещей.
– Хватит хныкать, у вас всего достаточно, – сказал им Помпей. – Возможно, Марк Туллий кое в чем и полный идиот, но в других отношениях он умнее всех нас, вместе взятых. К тому же он мой друг. Благодарите свою счастливую звезду, что у вас есть матери и сестры, которые знают, что собрать вам в дорогу. Волумний, тебе не нужно шесть пар носков, ты все равно их не меняешь! Дай сюда эти рукавицы, Тит Помпей. Эбутий, передай тунику. Фундилий – шапку. Майаний, у тебя столько одежды, что ты можешь всем поделиться. Я тоже. И запросто.
Армия продиралась сквозь метели и снежные заносы, поднимаясь все выше в горы. Цицерон беспомощно тащился в самом хвосте – что будет, если они наткнутся на врага, что ему тогда делать? Он не знал. Одно было хорошо: ему было тепло. Как всегда и бывает, враг показался неожиданно. Армия Помпея Страбона как раз переправилась через замерзшую реку возле Фульгина, когда им навстречу вышло четыре легиона пиценов – не воинов, сброда, – которые перебирались из Южного Пицена в Этрурию, очевидно, с намерением поднять там какую-то смуту. Для пиценов стычка закончилась разгромом. Цицерону участвовать в схватке не довелось – он сопровождал обоз в самом хвосте колонны. Помпей-младший решил, что Марк Туллий должен присматривать за повозками с пожитками контуберналов, и Цицерон отлично понимал, что Помпей таким образом освободился от необходимости приглядывать за своим новым товарищем во время перехода по вражеской территории.
– Чудесно! – Помпей чистил свой меч в палатке контуберналов. – Все убиты. Когда они захотели сдаться, отец рассмеялся в ответ. Потом мы загнали их на самый верх, не дав пробиться к обозу. Если они не передохнут от холода, скоро их настигнет голод. – Он поднес лезвие к лампе, чтобы убедиться, не осталось ли на клинке пятен.
– А нельзя было взять их в плен? – спросил Цицерон.
– Ты забываешь, кто тут командует. – Помпей засмеялся. – Отец не берет пленных.
Смелости Цицерону было не занимать, и он продолжал настаивать:
– Но ведь это же италики, а не чужеземцы. Разве нам не нужны будут легионеры, когда эта война закончится?
Помпей задумался:
– Да, согласен, может, и будут нужны. Но теперь слишком поздно беспокоиться об этом! Отец был в ярости, а если что-то его разозлит – пощады не жди. – Голубые глаза Помпея-младшего смотрели прямо в карие глаза Цицерона. – Я буду таким же.
Еще долгие месяцы Цицерон не мог избавиться от страшного сна, в котором пиценские крестьяне замерзали в снегу. Иногда они лихорадочно разрывали снег под дубами в поисках желудей – единственной пищи, которую могли предложить им скованные холодом горы. Еще одна кошмарная подробность, которая лишь усиливает отвращение к войне у тех, кто ее ненавидит.
К тому времени, когда Помпей Страбон достиг Фан-Фортуны на Адриатике, Цицерон научился быть полезным и даже привык к кольчуге и мечу. В палатке контуберналов он отвечал за ведение хозяйства – готовил и убирал; в шатре командующего взял на себя всю бумажную работу, которая была не по зубам пиценским писцам и секретарям Помпея Страбона. Составлял донесения, писал письма в сенат, делал записи о битвах и стычках. Когда Помпей Страбон прочел письмо к городскому претору Азеллиону – первое из составленных Цицероном, он окинул тощего юношу взглядом своих жутких глаз и словно бы призадумался:
– Неплохо, Марк Туллий. Возможно, привязанность моего сына к тебе не пустой каприз. Не знаю уж, как это выходит, но он всегда оказывается прав. Поэтому я и позволяю ему поступить по-своему.
– Благодарю тебя, Гней Помпей.
Командующий махнул рукой в сторону заваленного свитками стола:
– Посмотри, что можно с этим сделать, мальчик.
Наконец они остановились на привал в нескольких милях от Аскула-Пиценского. После кончины Секста Цезаря его армия оставалась на прежних позициях, поэтому Помпей Страбон решил расположиться несколько дальше.
Время от времени Помпей Страбон вместе с сыном устраивали вылазки. Они брали с собой лишь столько людей, сколько считали необходимым, и пропадали по несколько дней. Тогда командование поручалось Сексту Помпею, младшему брату Гнея Помпея, на долю Цицерона оставалась текущая канцелярская работа. Эти периоды относительной свободы должны были радовать Цицерона, но выходило наоборот. С ним не было его защитника, Помпея-младшего, а Секст Помпей открыто презирал его, опускаясь до прямых оскорблений: то за ухо оттреплет, то даст пинка под зад, то ножку подставит.
Пока земля была еще скована морозом, а весна давала о себе знать лишь намеками, Помпеи с небольшим отрядом отправились на разведку к побережью. Следующим утром на рассвете, когда Цицерон стоял возле палатки командующего, потирая зад, в который его только что пнули, в лагере показались марсийские конники, которые держались так, словно были у себя дома. Они излучали такое спокойствие и уверенность, что никто не помчался за оружием. Отреагировал на их появление лишь брат Помпея Страбона Секст, который вышел вперед и поднял руку в знак приветствия, когда отряд остановился перед палаткой командующего.
– Публий Веттий Скатон, марс, – представился старший, спешиваясь.
– Я – Секст Помпей, брат Гнея Помпея Страбона, временно исполняю обязанности командующего в его отсутствие.
Лицо Скатона вытянулось.
– Жаль. Я приехал, чтобы увидеть Гнея Помпея.
– Увидишь, если согласен подождать.
– Сколько?
– От трех до шести дней, – отвечал Секст Помпей.
– Накормите моих людей и коней?
– Конечно.
Заниматься устройством марсов на постой досталось Цицерону, единственному контуберналу, оставшемуся в лагере. К его большому удивлению, все – начиная с Секста Помпея и кончая последним нестроевиком, то есть те люди, которые совсем недавно обрекли пиценов на голодную смерть в ледяных горах, – теперь вели себя по отношению к врагу исключительно радушно. «Мне никогда не понять, что такое война», – думал Цицерон, наблюдая, как Секст Помпей и Скатон по-приятельски прогуливались вместе или отправлялись поохотиться на кабанов, которых зима заставила искать пропитание рядом с лагерем. Когда же Помпей Страбон вернулся из своего рейда, он бросился в объятия Скатона, словно тот был его дорогим другом.
Потом начался грандиозный пир. Цицерон во все глаза наблюдал за Помпеями. Так они и живут в своих неприступных и необъятных владениях в Северном Пицене, так себя и ведут: огромные кабаны жарятся на вертелах, блюда ломятся от еды, гости расселись вокруг столов на лавках, вместо того чтобы возлежать на ложах, мечутся слуги, подливая в кубки все больше вино, а не воду. Родившемуся в самом сердце латинских земель Цицерону этот пир в шатре Гнея Помпея казался варварским. Нет, в Арпине пиры были другие, даже в доме Гая Мария. Цицерону, конечно, и в голову не приходило, что, когда в полевых условиях приходится принимать сотню, а то и больше, человек, о хороших манерах и деликатесах редко вспоминают.
– Наскоком ты Аскул не возьмешь, – сказал Скатон.
Помпею Страбону было не до разговоров: он вгрызался в кусок поджаристой свиной кожи. Когда с ней было покончено, он вытер руки о тунику и усмехнулся.
– Не важно, сколько времени это займет, – сказал он, – рано или поздно Аскул падет, и тогда его жители пожалеют о том, что подняли руку на римского претора, клянусь.
– Крупная была провокация, – легко согласился Скатон.
– Мне все равно, крупная или мелкая, – ответил Помпей Страбон. – Я слышал, там теперь Видацилий. Аскуланцам придется кормить больше ртов.
– Не придется, – как-то странно ответил Скатон.
– О! – Помпей Страбон поднял лицо, все в свином жире.
– Судя по всему, Видацилий сошел с ума, – объяснил Скатон.
За столом все замерли в предвкушении интересного рассказа.
– Он появился перед Аскулом с двадцатитысячным войском незадолго до смерти Секста Юлия, – начал Скатон. – Очевидно, он собирался действовать заодно с аскуланцами. Его идея была в том, чтобы осажденные, как только он нападет на Секста Юлия, открыли бы ворота и атаковали римлян с тыла. Хороший план. И мог бы сработать. Однако, когда Видацилий атаковал римлян, аскуланцы просто смотрели. Тут Секст Юлий разомкнул строй, пропустив Видацилия с войском, так что у аскуланцев не оставалось выбора, кроме как открыть ворота и позволить Видацилию войти.
– Я и не знал, что Секст Юлий был таким искусным полководцем, – сказал Помпей Страбон.
– Это могло выйти и случайно. – Плечи Скатона вздрогнули. – Хотя я так не думаю.
– Полагаю, мысль, что им придется кормить еще двадцать тысяч человек, не очень-то обрадовала горожан?
– Они были вне себя от ярости! – ухмыльнулся Скатон. – Видацилия ждала не радостная встреча, а холодный прием. Тогда он отправился на Форум, взошел на трибуну и сказал аскуланцам, что он думает о людях, которые не подчиняются приказам. Выполни они свой долг, армия Секста Юлия Цезаря была бы разбита наголову. И очень возможно, он был прав. Но аскуланцы не были готовы принять эту правду. Тут на трибуну вскарабкался главный магистрат и сказал то, что думал он: спросил Видацилия, понимает ли тот, что город не сможет прокормить его армию, потому что продовольствия осталось слишком мало.
– Приятно знать, что в стане врага нет согласия, – заметил Помпей Страбон.
– Не думай, что я рассказываю об этом с какой-то тайной целью. Я лишь хочу, чтобы ты понял: аскуланцы готовы стоять до конца, – спокойно объяснил Скатон. – Ты все равно услышишь об этом, и мне хотелось, чтобы ты узнал, как все было на самом деле.
– Так что же было дальше? Драка на Форуме?
– Ты угадал. Стало ясно, что Видацилий обезумел. Он обвинил горожан в тайных симпатиях к Риму, и его солдаты перебили немало аскуланцев. Тут горожане схватились за оружие и завязалась драка. К счастью, Видацилий привел с собой не дураков – часть его людей сообразила, что их командир не в себе, и покинула Форум. Как только опустились сумерки, ворота открылись и девятнадцать тысяч человек покинули город, проскользнув мимо римлян, которые были больше заняты скорее оплакиванием Секста Юлия, который как раз в ту пору скончался, чем охраной постов.
– Хм! – хмыкнул Помпей Страбон. – И что же дальше?
– Видацилий захватил форум. С ним был большой обоз с продовольствием, и он решил закатить пир. Говорят, с ним оставалось семьсот или восемьсот человек, которые помогли ему расправиться с едой. Он также распорядился соорудить большой погребальный костер. В самый разгар пира он выпил чашу яда, взошел на костер и поджег его. Пока его люди наливались вином, он горел. Отвратительное было зрелище – они мне сами говорили.
– Безумен, как галльский охотник за головами, – сказал Помпей Страбон.
– Конечно, – отозвался Скатон.
– Так ты говоришь, город будет драться.
– Он будет драться, пока не умрет последний аскуланец.
– Могу обещать тебе одно, Публий Веттий: когда я возьму Аскул, живые позавидуют мертвым, – медленно произнес Помпей Страбон. Он бросил на пол обглоданную кость и снова вытер руки о тунику. – Слышал, как меня тут называют? – поинтересовался он.
– Нет пока.
– Carnifex. Мясник. И знаешь, я горжусь этим прозвищем, Публий Веттий, – сказал Помпей Страбон. – На мою долю пришлось больше прозвищ, чем человеку положено. Страбон – само собой. Когда мне было чуть больше, чем моему сыну теперь, я делил обязанности контубернала с Луцием Цинной, Публием Лупом, моим двоюродным братом Луцием Луцилием и моим добрым другом Гнеем Октавием Рузоном. Мы были вместе с Карбоном в той ужасной экспедиции против германцев в Норик. И знаешь, мои товарищи не очень меня любили. Все, кроме Гнея Октавия Рузона, должен заметить. Не люби он меня, не был бы сегодня одним из моих старших легатов! Ну так вот. Контуберналы добавили к моему прозвищу Страбон еще одно – Меноэс. По пути в Норик мы завернули в мое поместье, и они заметили, что повар моей матери был косоглазым. Его звали Меноэс. И этот остряк, этот ублюдочный Луцилий – никакого уважения к семье, а ведь моя мать приходилась ему теткой – стал звать меня Гнеем Помпеем Страбоном Меноэсом, мол, отец мой и был этот повар. – Помпей вздохнул. – Несколько лет я носил это прозвище. Но теперь меня называют Гней Помпей Страбон Карнифекс. Куда лучше, чем Страбон Меноэс.
Однако Скатона это, видимо, ничуть не испугало, вид у него был скучающий.
– Да разве есть какой-то толк в прозвищах? – сказал он. – Меня вот зовут Скатоном вовсе не потому, что я родился у истоков говорливого ручья. Люди считают, я много болтаю.
Помпей Страбон чуть усмехнулся:
– И зачем же ты пожаловал, Публий Веттий Болтун?
– Переговоры.
– Устали воевать?
– Признаюсь, да. Мне не хочется больше воевать, но, если потребуется, я буду драться до последнего, хотя, по-моему, со старой Италией покончено. Будь Рим иноземным захватчиком, меня бы тут не было. Но я марс, италик, а римляне – народ столь же древний, как и мы, марсы. Пришло время, Гней Помпей, выбираться нам из этой заварухи. Теперь с lex Julia de civitate Latinis et sociis danda все стало иначе. И хотя он и не распространяется на тех италиков, которые сражаются против Рима, в законе lex Plautia Papiria нет ничего, что мешало бы мне стать полноправным римским гражданином, если я сложу оружие и лично обращусь к претору в Риме. Как и моим людям.
– И о чем же ты просишь, Публий Веттий?
– Я прошу предоставить моим людям свободный проход через расположение римских войск здесь и у Аскула. На пути от Аскула к Интерокрее мы снимем свои доспехи и бросим оружие в Авен. Далее нам нужен безопасный коридор от Интерокреи до преторского трибунала Рима. Я также прошу тебя составить письмо к претору, в котором ты подтвердишь мой рассказ и дашь рекомендации о включении меня и моих людей в число римских граждан.
Повисла тишина. Из дальнего угла Цицерон и Помпей-младший наблюдали за лицами собеседников.
– Отец не согласится, – шепнул Помпей.
– Почему?
– Он мечтает о большой битве.
– Неужто правда говорят, что судьбы народов и государств зависят от пустых капризов? – изумился Цицерон.
– Я понимаю тебя, Публий Веттий, – голос Помпея Страбона прорезал тишину, – но пойти на это не могу. Ваши мечи красны от римской крови. Если ты хочешь явиться в преторский трибунал, тебе придется биться за каждую пядь земли отсюда до Рима.
Скатон поднялся и хлопнул себя по бедрам:
– Что ж, стоило попытаться. Благодарю тебя за радушие, Гней Помпей. А теперь мне пора назад, к моей армии.
Отряд марсов скрылся во тьме. Не успел стихнуть топот лошадиных копыт, как в лагере все ожило: загремели трубы, зазвучали приказы.
– Они атакуют нас завтра, возможно с двух сторон, – сказал Помпей, водя острым клинком по светлым волоскам на предплечье. – Отличная будет битва.
– А мне что делать? – растерянно спросил Цицерон.
Помпей уже вложил меч в ножны и собирался улечься на свою походную кровать. В палатке, кроме них, никого не было – остальные контуберналы занимались приготовлениями к бою.
– Надень кольчугу и шлем, возьми меч и кинжал и отнеси щит и копье к отцовскому шатру. Если марсы прорвутся, ты займешь последнюю линию обороны, – приободрил Помпей друга.
Марсы не прорвались. Откуда-то издалека до Цицерона доносился грохот битвы и крики, но ничего не было видно. Наконец Гней Помпей Страбон с сыном вернулись в лагерь. Доспехи их были обагрены кровью, но на лицах сияли улыбки.
– Легат Скатона Фравк убит, – сообщил Помпей-младший Цицерону. – Мы разбили марсов – и силы пиценов тоже. Скатон с небольшим отрядом ускользнул, но мы перекрыли все дороги. Если он решится вернуться к себе в Маррувий, придется ему пробираться через горы: путь не близкий, а там ни еды, ни жилья.
Цицерон сглотнул:
– Похоже, твой отец мастак оставлять людей умирать от холода и голода. – Он надеялся, что эти слова звучали мужественно, но колени у него тряслись.
– А тебя от такого тошнит, бедняжка Марк Туллий? – спросил Помпей, посмеиваясь, и с нежностью потрепал Цицерона по спине. – Война есть война, что тут скажешь. Они поступили бы с нами так же, сам знаешь. Что ж, ничего не поделаешь, если тебе от такого тошно. Возможно, ум отбивает охоту к войне? Значит, мне повезло. Не хотел бы я, чтобы мой противник оказался не только воинственным, но еще и таким умным, как ты. Риму на пользу, что среди его граждан куда больше таких, как мой отец и я, чем таких, как ты. С их помощью Рим стал тем, что он есть. Но кто-то должен заниматься делами на Форуме, и это, Марк Туллий, твое поле битвы.
Той весной битва на этом поле была ничуть не менее яростной, чем на любом из военных театров, потому что Авл Семпроний Азеллион схватился с ростовщиками не на жизнь, а на смерть. Никогда еще римские финансы, как государственные, так и частные, не были в таком плачевном состоянии, даже во времена Второй Пунической войны, когда Ганнибал занял Италию и отрезал Рим.
Коллегии торговцев припрятывали деньги, казна была почти пуста и пополнялась крайне скудно. Даже в тех частях Кампании, которые находились в руках римлян, царил такой хаос, что не было никакой возможности наладить регулярный сбор податей. Пока Брундизий, один из важнейших портов, был полностью отрезан от Рима, квесторам не удавалось заставить торговцев платить таможенные и портовые сборы. Восставшие италики, разумеется, налогов не платили. Провинция Азия, ссылаясь на угрозу войны с Митридатом, всячески откладывала выплаты по своим обязательствам, к тому же и доходы провинции заметно сократились. Вифиния вовсе перестала платить. Денег, которые давали Африка и Сицилия, хватало только на дополнительные закупки пшеницы. К тому же сам Рим оказался в должниках у Италийской Галлии, которая поставляла значительную часть оружия и доспехов. Нововведение Марка Ливия Друза вызывало недоверие к наличным деньгам – кто знает, не достался ли тебе тот самый восьмой денарий, отчеканенный не из серебра, а из меди с серебрением, да и сестерциев что-то стало слишком много. Люди побогаче все чаще брали займы – никогда еще процентные ставки не взлетали так высоко.
Авл Семпроний Азеллион, которому не занимать было деловой хватки, решил, что дело исправит долговая амнистия. Идея была привлекательной, к тому же не противоречила законам. Он раскопал какое-то древнее установление, которое запрещало назначать плату за пользование деньгами. Другими словами, объявил Азеллион, давать деньги в долг под процент незаконно. Да, никто не вспоминал про этот древний закон веками, и среди многих всадников-финансистов такая доходная практика вошла в обычай, что достойно всяческого сожаления. Но по сути, куда больше всадников, вовлеченных в эту деятельность, не ссужают деньги, а занимают сами, и, пока их положение не будет облегчено, никому в Риме не удастся разделаться с долгами. С каждым днем количество должников росло как снежный ком, люди едва сводили концы с концами, а суды, где рассматривались дела о банкротствах, были закрыты, как и все остальные, так что кредиторы прибегали к самым жестким мерам, лишь бы вернуть свое.
Однако не успел еще Азеллион вдохнуть новую жизнь в древний закон, к нему пришли ростовщики с просьбами возобновить процессы о банкротствах.
– Как? – взревел городской претор. – Со времен Ганнибала Рим не переживал такого трудного времени, и что же? Передо мной стоит кучка людей и просит меня усугубить положение? Как я вижу, тут собрались те, чье отвратительное корыстолюбие не знает меры, так вот что я вам скажу: пойдите вон, или я открою суд. Суд, в котором вас обвинят в ростовщичестве!
Азеллион оставался глух к любым возражениям. Если бы ему удалось объявить взимание процентов незаконным, он очень существенно облегчил бы бремя римских должников, причем совершенно легальным способом. Пусть выплачивается лишь основной долг, не проценты. По семейной традиции Азеллион, как и все Семпронии, был заступником обездоленных. Он выступал за справедливость с рвением и фанатизмом, подкрепленными убеждением, что на его стороне закон, против которого его противники не могут пойти.
Он не учел лишь одного: не все они были всадниками. Не гнушались ростовщичества и сенаторы, хотя их положение исключало участие в любой коммерческой деятельности, в особенности в столь неприглядной. В числе их был и Луций Кассий, народный трибун. С первыми всполохами войны он начал давать деньги в рост, так как его состояние едва покрывало сенаторский ценз. Но шансы Рима на победу постепенно уменьшались, и Кассий обнаружил, что ему все должны, что платежи не поступают, а новые цензоры вот-вот станут интересоваться его деятельностью. Луций Кассий был вовсе не самым крупным ростовщиком в сенате и к тому же самым молодым. Оказавшись на грани отчаяния и не питая по своей природе никакого уважения к законам, Луций Кассий начал действовать не только ради себя, но и от имени всех ростовщиков.
Азеллион был авгуром и одновременно занимал должность городского претора, поэтому он регулярно наблюдал предзнаменования с подиума храма Кастора и Поллукса. Через несколько дней после стычки с ростовщиками он, как обычно, следил за предзнаменованиями, но вдруг заметил, что у подножия храма собралось куда больше народа, чем приходит обычно на Форум поглазеть на авгура.
Когда Азеллион поднимал чашу, чтобы совершить жертвоприношение, кто-то швырнул в него камень. От удара, угодившего Азеллиону чуть выше левой брови, авгур пошатнулся и выронил чашу, которая запрыгала вниз по ступеням, окропляя их священной водой. За первым камнем полетел второй, третий – настоящая туча камней. Азеллион пригнулся, накрыл голову своей пестрой тогой и инстинктивно бросился к храму Весты. Но часть толпы, которая могла бы спасти авгура, разбежалась, чуть только стало ясно, к чему шло дело. Разъяренные ростовщики, затеявшие это злодеяние, встали на пути Азеллиона, отрезав путь к убежищу у священного очага Весты.
Несчастному городскому претору оставалось только одно – метнуться по узкому проулку, известному как спуск Весты, к лестнице Весталок и вверх, на Новую улицу, которая шла выше по холму над Форумом. Азеллион, спасаясь от распаленных ростовщиков, мчался из последних сил по Новой улице мимо таверн, которые посещают завсегдатаи Форума и Палатина. С криками о помощи Азеллион вбежал в заведение Публия Клоатия.
Но никто не пришел ему на помощь. Четыре человека схватили Клоатия и его помощника и крепко держали их, пока остальная толпа растянула Азеллиона на столе, словно жертвенное животное. Один из разбойников перерезал Азеллиону горло с таким пылом, что нож задел шейные позвонки. Так умер городской претор – в таверне, на столе, залитом его кровью. А Публий Клоатий лишь всхлипывал и клялся, что ни один человек из толпы ему не знаком! Ни один!
Да и никто в Риме, как выяснилось, их не знает. Возмущенный не только убийством, но и совершенным святотатством сенат назначил награду в десять тысяч денариев за сведения, которые привели бы к задержанию убийц, умертвивших авгура в полном облачении во время совершения им официальной церемонии. За восемь дней никто не сказал и слова. Тогда сенат объявил, что вдобавок к деньгам соучастник преступления получит прощение, раб или рабыня – свободу, вольноотпущенников обоего пола было обещано приписать к сельской трибе. Но ответа так и не последовало.
– Чего еще тут ждать? – обратился Гай Марий к юному Цезарю, с которым они делали следующий круг по садику перистиля. – Разумеется, ростовщики замели следы.
– Вот и Луций Декумий то же говорит.
Марий остановился.
– И часто ты беседуешь с этим негодяем, Цезарь? – сердито спросил Марий.
– Да, Гай Марий. Он как никто знает все обо всем.
– По большей части о том, что не предназначено для твоих ушей, готов поклясться.
Цезарь только хмыкнул:
– Мои уши росли в Субуре, как и я сам. Вряд ли что-то может оскорбить мой слух.
– Дерзкий мальчишка! – Тяжелая правая рука отвесила мальчику невесомый подзатыльник.
– Этот сад стал нам тесен, Гай Марий. Если ты и правда хочешь, как встарь, пользоваться левой рукой и ногой, нам надо ходить больше и быстрее. – Эти слова были произнесены твердо и веско, тоном, не допускавшим возражений.
Но не тут-то было.
– Я не покажусь в Риме в таком состоянии, – взревел Гай Марий.
Цезарь отпустил руку, которой крепко держал Мария, и великий человек заковылял дальше сам. Когда перспектива падения казалась уже неизбежной, мальчик подлетел к нему и с неправдоподобной легкостью подхватил грузное тело. Марий не переставал поражаться силе своего маленького поводыря и умению точно угадывать, что, как и когда нужно делать.
– Гай Марий, я не зову тебя дядей с тех пор, как начал ходить сюда, потому что удар, который ты пережил, сделал нас почти равными. Твое dignitas уменьшилось, мое же возросло. Мы равны. Но кое в чем я точно тебя превосхожу, – сказал мальчик без всякого страха. – Моя мать упросила меня, да и я сам думал, что смогу помочь великому человеку, – вот почему я жертвую своим свободным временем и навещаю тебя, чтобы ты вновь начал ходить и не умирал от скуки один. Ты отказался лежать и слушать, как я тебе читаю. Все твои истории я уже слышал. Я знаю каждый цветок, каждый куст, каждую сорную травинку в этом саду. И скажу тебе прямо: этот сад стал нам слишком тесен. Завтра мы выйдем из дома и дойдем до спуска Банкиров. Можем подняться вверх, к Марсову полю, можем спуститься вниз, к Фонтинальским воротам, – мне все равно, но завтра мы выйдем из дома.
Грозные темные глаза заглянули в безмятежные голубые: как ни пытался Марий отвлечься от этого впечатления, всякий раз, видя глаза Цезаря, он вспоминал другие, похожие. Глаза Суллы. Так бывает, когда во время охоты прямо на тебя выйдет вдруг огромная кошка и глаза ее сверкнут не желтым кошачьим, а бледным голубым пламенем, которое едва сдерживает тонкое черное кольцо. Таких кошек считают обитателями потустороннего мира. Может, и такие люди приходят оттуда?
Поединок характеров закончился ничьей: ни один не отвел взгляда.
– Я не пойду, – сказал Марий.
– Пойдешь.
– Боги накажут тебя, Цезарь! Я не поддамся мальчишке! Неужели так трудно быть чуть более дипломатичным?
Непокорные глаза посмотрели на него с искренним недоумением. Нет, ничего общего с Суллой: никогда его взгляд не бывал таким живым и привлекательным.
– В разговоре с тобой, Гай Марий, дипломатии нет места, – ответил Цезарь. – Оставим увертки дипломатам. К счастью, ты и сам не дипломат. Каждый знает, на каком он свете, когда имеет дело с Гаем Марием. И это мне в тебе нравится.
– Значит, отказа ты не примешь, мальчик? – поинтересовался Марий. Он чувствовал, что сдается. Сначала сталь клинка, теперь бархатная перчатка. Каков тактик!
– Да, ты прав, я не принимаю отказа.
– Хорошо, дай мне посидеть теперь. Если мы собираемся завтра выходить, то сейчас мне надо отдохнуть. – Марий прочистил горло. – А что, если завтра меня донесут в паланкине до Прямой улицы? А вот уже оттуда мы пойдем пешком куда пожелаешь?
– Если мы и заберемся так далеко, Гай Марий, то только на собственных ногах.
Некоторое время они молчали, мальчик сидел совершенно неподвижно. Он довольно быстро понял, как Марию ненавистно всякое ерзание, и когда он рассказал об этом матери, та просто ответила, что если уж это так, то ничего не поделаешь, придется научиться сидеть смирно, – это пригодится в жизни. Да, он мог, пожалуй, вить веревки из Гая Мария, но мать была сильнее его.
То, что от него требовали, не пришлось бы по вкусу ни одному мальчику его лет. Каждый день после занятий с Марком Антонием Гнифоном он, вместо того чтобы шататься по улицам с Гаем Марцием, приятелем, который жил на первом этаже материнского дома, шел в дом Гая Мария развлекать старика. На себя у него не оставалось ни минуты, потому что мать не позволяла ему забыть о его обязанностях – ни на день, ни на час, ни на секунду.
– Это твой долг, – говорила Аврелия в тех редких случаях, когда он приставал к ней, умоляя позволить ему пойти с Гаем Марцием на Марсово поле посмотреть на что-нибудь интересное: как выбирают боевых коней к Октябрьским скачкам или как гладиаторы, нанятые для участия в похоронах, отрабатывают торжественный шаг.
– Но у меня всегда будет какой-нибудь долг! – говорил он. – Неужели нельзя хоть на минуту забыть о нем?
– Нет, Гай Юлий, – отвечала Аврелия. – Долг будет всегда с тобой, каждая минута жизни, каждый вздох подчинены ему. Им нельзя пренебречь, потакая своим желаниям.
Поэтому он шел к дому Гая Мария, шел ровным быстрым шагом, с улыбкой пробирался сквозь толпу на шумных улицах Субуры, то и дело приветствуя прохожих. На Аргилете он чуть прибавлял шагу, чтобы не поддаться искушению заглянуть в какую-нибудь книжную лавку. Все это были плоды терпеливых, но суровых уроков, которые преподала ему мать: никогда не сидеть без дела, никогда не шататься с праздным видом, никогда не потакать себе ни в чем, даже если речь идет о книгах, быть приветливым и вежливым со всеми.
Иногда, до того как постучаться в двери Гая Мария, он взлетал по ступенькам Фонтинальской башни на самый верх и застывал там, глядя вниз, на Марсово поле. Он мечтал быть там, с другими мальчишками, рубиться деревянным мечом, задать жару какому-нибудь надутому задире, воровать редиску с полей рядом с Прямой улицей – жить полной событий и приключений жизнью римского подростка. Он мог бы смотреть на это поле часами, но вместо этого поворачивался, легко сбегал по ступенькам башни и оказывался у дверей Гая Мария куда раньше, чем кто-нибудь мог заметить его опоздание.
Дверь ему обычно открывала его тетка, Юлия. И Гай Юлий Цезарь любил ее: для него у нее всегда находилась улыбка и поцелуй. Как сладок был этот поцелуй! Его мать этого обычая не одобряла, говорила, это слишком уж по-гречески, только подрывает устои и развращает душу. К счастью, Юлия этого мнения не разделяла. Когда она наклонялась, чтобы поцеловать его в самые губы, он прикрывал глаза и втягивал столько воздуха, сколько вмещали легкие, – лишь бы не упустить ни частички ее запаха. Через много лет после ее смерти Гаю Юлию Цезарю, уже зрелому мужчине, доведется как-то раз уловить смутный аромат ее духов, исходящий от другой женщины, и слезы брызнут у него из глаз сами собой.
Юлия всегда сообщала ему о домашних происшествиях: «Сегодня он не в духе», «К нему заглянул один приятель, и он в отличном настроении» или «Он решил, что ему хуже, и захандрил».
Во второй половине дня Цезаря отсылали передохнуть в комнату Юлии, пока она сама кормила обедом мужа. Мальчика тоже ждал обед, которым можно было наслаждаться, удобно устроившись на ложе со свитком в руке – дома такого ему не позволяли, – и он с головой уходил в деяния героев, зачитывался стихами. Слова зачаровывали его. Они заставляли его сердце то падать, то воспарять, то бешено колотиться. Временами, когда он замирал над свитком Гомера, воображение переносило его в мир куда более реальный, чем тот, в котором он жил.
«И даже в смерти все в нем было прекрасно», – повторял он про себя снова и снова описание погибшего юного воина, такого храброго, такого благородного и такого совершенного – не важно, был ли то Ахилл, Патрокл или Гектор, – что даже в смерти он оставался победителем.
Но потом раздавался голос Юлии или слуга стучал в дверь сказать, что его зовут, и тогда без раздражения и злости он тотчас откладывал книгу и взваливал на плечи груз долга.
А Гай Марий был тяжелым грузом. Он был стар: когда-то подтянутый, он вдруг разжирел, а теперь опять похудел, отчего его кожа свисала тяжелыми складками, паралич обезобразил левую сторону лица так, словно по ней прошел какой-то жуткий оползень, выкорчевывая все живое. Да и глаза были страшные. Он, видимо, не замечал, что из левого уголка рта теперь постоянно тянулась тонкая струйка слюны. Она сбегала до самой туники, оставляя на ней мокрый след. Иногда он срывался. Больше всего доставалось его злополучному сторожевому щенку – единственному человеку, который настолько изучил его за это время, что можно было дать себе волю и выплеснуть накопившуюся ярость. Временами он принимался плакать и плакал, пока слезы не смешивались со слюной и из носа не начинало течь. Иногда начинал смеяться над какой-нибудь непристойной шуткой так, что стены ходили ходуном. Тогда в комнату вплывала Юлия, как всегда с улыбкой, и ласково выпроваживала Цезаря домой.
Поначалу мальчик чувствовал себя беспомощным, не знал, что и как ему делать. Но это был удивительный ребенок, и вскоре он научился управляться с Гаем Марием. У него не было выбора, ведь иначе он не выполнил бы поручение, которое дала ему мать, – происшествие столь невообразимое, что он даже не мог представить себе его последствия. Он обнаружил, что характер его не безупречен. Он был нетерпелив, хотя уроки, преподанные ему матерью, научили его искусно маскировать этот недостаток. В результате он уже сам не мог отличить истинное смирение от ложного. Брезглив он не был и вскоре привык не замечать струйку слюны, бегущую изо рта Мария. Зато он был сметлив, и природный ум подсказывал ему, что надо делать. Никто не говорил ему этого, поскольку никто, даже врач, не понимал того, что было ясно мальчишке: Гая Мария необходимо заставить двигаться. Заставить поверить, что он сможет вернуться к нормальной жизни.
– И чем еще поделился с тобой Луций Декумий или какой-нибудь другой субурский негодяй? – спросил Марий.
От неожиданности мальчик подпрыгнул – его мысли бесцельно блуждали где-то совсем далеко.
– Ну, я сложил кое-что в уме, и, думаю, я прав.
– Что же?
– Это насчет того, почему консул Катон решил оставить Самний и Кампанию Луцию Корнелию, а сам занял твое место на марсийском театре.
– Ого! Ну и что же ты думаешь, Цезарь?
– Я думаю, это из-за того, что Луций Корнелий, насколько я могу судить, принадлежит к особому роду людей, – серьезно сказал Цезарь-младший.
– К какому же роду?
– Он из тех, кто внушает страх.
– Да, это он умеет!
– Он не мог не знать, что ему никогда не получить южного театра. Там командует консул. Поэтому он не стал утомлять себя ненужными спорами. Он просто подождал, пока консул Катон прибудет в Капую, а потом посмотрел на него так, что консул перепугался до смерти и предпочел держаться как можно дальше от Кампании.
– Ну и кто же дал тебе пищу для размышлений?
– Луций Декумий. И мать.
– Да уж, она-то знает, – таинственно заметил Марий.
Цезарь нахмурился, метнул в его сторону косой взгляд и пожал плечами:
– Раз уж Луций Корнелий получил командование и не найдется того безумца, который стал бы ему мешать, он должен добиться успеха. Я считаю его очень способным военачальником.
– Но не таким способным, как я, – всхлипнул Марий.
– Только не надо опять жалеть себя, Гай Марий! – набросился на него мальчик. – Ты поправишься и опять сможешь командовать, особенно если мы когда-нибудь выберемся из этого глупого сада.
Такого натиска Марий не выдержал и поспешил переменить тему:
– А что болтают твои субурские сплетники об успехах консула Катона на марсийском театре? – спросил он, фыркая. – Никто не говорит мне, что там делается, – они думают, меня это может расстроить! А ведь больше всего меня расстраивает неизвестность. Если ты мне не расскажешь, меня разорвет от злости!
– Сплетники болтают, – ухмыльнулся Цезарь, – что с первой минуты в Тибуре консула ждали неприятности. Помпей Страбон увел с собой твоих солдат – на такое он мастак! То есть в распоряжении консула Луция Катона остались одни лишь новобранцы – крестьяне из Умбрии и Этрурии, которые только что получили римское гражданство. Что с ними делать, не знает ни он сам, ни даже его легаты. Поэтому перво-наперво он объявил общевойсковой сбор. И что же? Начал он с того, что устроил им головомойку. Обзывал их идиотами и деревенщинами, кретинами и варварами, жалкой кучкой червей, кричал, что не привык воевать с таким сбродом, что все они сдохнут, если не возьмутся за дело с должным рвением, – и так далее и тому подобное.
– Ну просто второй Луп или Цепион! – не веря своим ушам, воскликнул Марий.
– Как бы то ни было, среди тех, кого собрали в Тибуре слушать всю эту муть, оказался приятель Луция Декумия. Зовут его Тит Тициний. Он ветеран, ушел на покой центурионом. Ты сам выделил ему земельный надел в Этрурии после Верцелл. Он говорит, что сослужил тебе как-то отличную службу.
– Да, я хорошо его помню. – Марий попытался улыбнуться, заливая все слюной. Цезарь тут же достал «Мариев утиральник», как он называл эту тряпицу, и аккуратно вытер ему рот.
– Он часто наведывался в Рим и останавливался у Луция Декумия, потому что любил послушать сплетни о делах на Форуме. Но с началом войны Тит Тициний вернулся в строй – обучать новобранцев. Он долгое время служил в Капуе и в начале года был командирован в помощь консулу Катону.
– Я полагаю, у Тита Тициния и других центурионов не было возможности заняться новобранцами, пока консул Катон метал громы и молнии в Тибуре?
– Разумеется. Но консул не подумал избавить центурионов от своих речей. И именно так он и попал в беду. Тит Тициний настолько рассвирепел, слушая, как Катон оскорбляет всех направо и налево, что в конце концов нагнулся, подобрал большой ком земли и запустил им в консула! Секунду спустя комья земли полетели в Катона со всех сторон. Он стоял по колено в грязи, а его солдаты были на грани. – Мальчик хихикнул и воодушевленно продолжил: – Так он и стоял – побит, потоплен и повержен.
– Хватит играть словами. Продолжай!
– Извини, Гай Марий.
– И что же было дальше?
– Консул не пострадал, зато, как он рассудил, пострадали его dignitas и auctoritas. Да и власть его была поставлена под сомнение. А с этим он не мог смириться. И вместо того, чтобы забыть об этом происшествии, он заковал Тита Тициния в цепи и отослал в Рим с письмом, в котором требует, чтобы сенат расследовал, не было ли у центуриона умысла поднять мятеж. Тита Тициния привезли сегодня и бросили в камеру в Лаутумии.
Марий попытался подняться.
– Хорошо. Тогда наши планы на завтрашнее утро прояснились, Цезарь-младший, – весело сказал он.
– Пойдем посмотреть, как обернется дело с Титом Тицинием?
– Если слушания будут в сенате, то я – да. Ты же можешь подождать меня у дверей.
Цезарь помог Марию встать на ноги и по выработавшейся привычке тут же занял свое место слева, чтобы поддержать его с этой стороны.
– Мне не придется ждать тебя, Гай Марий. Он предстанет перед плебейским собранием. Сенат не хочет заниматься его делом.
– Ты – патриций, тебе нельзя находиться в комиции во время плебейского собрания. Мне в моем теперешнем состоянии тоже. Поэтому мы найдем хорошее местечко на ступенях сената и насладимся этим представлением оттуда, – сказал Марий. – О, как же мне этого недоставало! Цирковые представления, которые показывают на Форуме, куда лучше всего, что могут выдумать эдилы, устраивая игры!
Если Гай Марий когда-либо и сомневался в силе народной любви, его сомнения развеялись без остатка следующим утром, когда он вышел из дома и направился к крутому спуску Банкиров, который сбегал вниз через Фонтинальские ворота к Нижнему форуму. Правой рукой Гай Марий опирался на палку, с левой стороны его поддерживал мальчик, Гай Юлий Цезарь. Вскоре толпа обступила его – все, кто жил по соседству, высыпали на улицу. Приветствия смешивались с горестными всхлипами, каждый его несообразный шаг – при ходьбе он всей тяжестью наваливался на правую ногу и подволакивал левую, страшно вывернутую в бедренном суставе, – вызывал восторженное одобрение. Весть разнеслась по улицам, и теперь уже отовсюду доносились радостные крики: «Гай Марий! Гай Марий!»