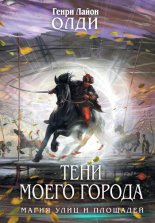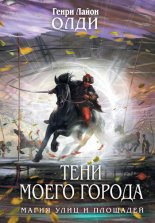Битва за Рим Маккалоу Колин
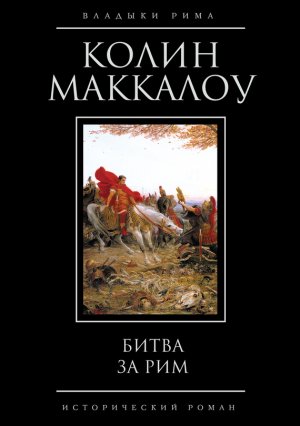
Когда он ступил на Нижний форум, приветственный рев стал оглушительными. Когда Марий с трудом обходил комиций, лоб его взмок от пота. Весь вес этого грузного тела приходился на плечо хрупкого поводыря, но никто, кроме них двоих, об этом даже не догадывался. Сенаторы бросились к нему, чтобы помочь взойти на площадку перед Гостилиевой курией, но Марий отстранил их и страшным усилием воли проделал весь путь наверх сам. Тут же принесли курульное кресло, и он опустился на сиденье, не приняв ничьей помощи, кроме своего провожатого.
– Левая нога, – сказал он прерывистым шепотом. Его грудь тяжело вздымалась.
Цезарь тотчас сообразил: опустился на колени, выпростал бесполезную левую ногу Мария из-под складок одежды и поставил ее впереди правой, как того требовал обычай. Потом положил безжизненную левую руку на колени, а судорожно сжатые пальцы прикрыл складкой тоги.
Теперь Гай Марий восседал величественно, словно царь царей, кивая в ответ на приветственные крики, а по его лицу градом катился пот. Грудь ходила ходуном, как гигантские кузнечные мехи. Плебеи уже были на своих местах, но все, кто теснился в это время в комиции, как один повернулись к ступеням сената, приветствуя Мария, после чего десять народных трибунов с ростры призвали собравшихся почтить Гая Мария троекратным «ура».
Цезарь стоял подле курульного кресла и смотрел вниз, на толпу. Еще ни разу не переживал он то сладкое чувство, которое возникает, когда толпа объединяется в едином порыве. Его щеки алели от удовольствия, потому что он был так близко к источнику этого восторга. Теперь он понимал, что значит быть Первым Человеком в Риме. И когда приветственные крики наконец затихли, его чуткий слух уловил едва различимый шепот: «Кто это чудесное дитя?»
Он знал, что красив, и знал, какое впечатление на других производит его красота. Ему нравилось, когда люди его любили, и то, что он красив, тоже было ему приятно. Но если бы он вдруг забыл, зачем он здесь, это разозлило бы мать, а он не хотел сердить ее. В вялом углу рта Мария собралась большая капля слюны, нужно было не дать ей упасть. Цезарь достал «Мариев утиральник» из складки своей тоги с пурпурной каймой и, пока толпа замирала от восторга, незаметно вытер слюну, притворившись, что промокает пот на лице Мария.
– Продолжайте ваше собрание, трибуны! – крикнул Марий, как только ему удалось отдышаться.
– Введите Тита Тициния! – приказал председатель коллегии Пизон Фруги. – Представители триб, квириты, мы собрались тут для того, чтобы решить судьбу некоего Тита Тициния, старшего центуриона, находящегося в подчинении консула Луция Порция Катона Лициниана. Дело Тициния сенат Рима передал нам, равным ему по положению. Консул Луций Порций Катон Лициниан обвиняет Тита Тициния в том, что тот пытался поднять мятеж в его войске, и настаивает, чтобы мы наказали его так сурово, как требует того закон. Так как мятеж – это форма измены, мы должны решить, достоин ли Тит Тициний жизни или смерти.
Пизон Фруги замолчал, так как на ростру как раз поднимался закованный в цепи Тит Тициний, рослый мужчина лет пятидесяти в простой тунике. Когда он занял место впереди, чуть в стороне от трибуна, Пизон Фруги продолжил:
– Квириты, консул Луций Порций Катон Лициниан в своем письме сообщает, что он созвал собрание своих легионов, и в то время, как он обращался к этому законно созванному собранию, Тит Тициний, присутствующий здесь в оковах, поразил его метательным снарядом, пущенным от плеча, и что этот Тит Тициний подстрекал стоявших с ним рядом солдат делать то же самое. Письмо скреплено консульской печатью.
Пизон Фруги повернулся к узнику:
– Что ты ответишь на это, Тит Тициний?
– Отвечу, что это правда, трибун. Я действительно поразил консула метательным снарядом, пущенным от плеча. – Центурион замолчал, а потом быстро закончил: – Ком рыхлой земли, трибун. Вот мой метательный снаряд. И стоило мне швырнуть его, все вокруг стали делать так же.
– Ком мягкой земли, – с расстановкой произнес Пизон Фруги. – Что заставило тебя метнуть такой снаряд в твоего командира?
– Он обзывал нас деревенскими дурнями, жалкими червями, тупыми ослами, ни на что не годным материалом и еще многими оскорбительными именами, – громко, как на параде, отрапортовал Тит Тициний. – Я понял бы, назови он нас mentulae и cunni, трибун, – это дело, так говорит настоящий командир со своими солдатами. – Тут он набрал полную грудь воздуха и загремел: – Попадись мне тогда под руку тухлые яйца, я бы охотно забросал его тухлыми яйцами! Но сойдут и комья мягкой земли. А уж земли там было предостаточно. Мне все равно, ждет ли меня удавка или вы сбросите меня с Тарпейской скалы! Потому что если мне доведется увидеть Луция Катона когда-нибудь еще, я накормлю его тем же кушаньем. И уж в этот раз досыта, не сомневайтесь!
Лязгнули цепи – Тициний повернулся лицом к ступеням сената и указал на Гая Мария:
– Вот это полководец! Я служил у Гая Мария легионером в Нумидии, а потом еще раз, в Галлии, уже центурионом! Когда я вышел в отставку, он выделил мне участок из собственных земель в Этрурии. Гая Мария никто бы не подумал забросать комьями земли, квириты! Гай Марий всегда любил своих солдат! Не оскорблял их, как Луций Катон! Гай Марий никогда бы не заковал солдата в цепи и не отдал бы его на суд плебейскому собранию только потому, что солдат в него чем-то швырнул! Он бы просто растер то, что в него швырнули, по солдатской роже! Луций Катон – не полководец. С ним Рим не одержит побед. Истинный командир наводит порядок в своем войске сам. Не перекладывает эту работу на плебейское собрание!
Стояла мертвая тишина. После того как Тит Тициний закончил свою речь, никто не проронил ни слова.
Пизон Фруги вздохнул.
– Гай Марий, как бы ты поступил с этим человеком? – спросил он.
– Это центурион, Луций Кальпурний Пизон Фруги, и я его знаю. Он говорит правду. Он слишком хороший солдат, чтобы терять его просто так. Но он кинул в своего старшего офицера комом земли, а это нарушение воинской дисциплины, чем бы оно ни было вызвано. Мы не можем допустить, чтобы он вернулся к консулу Луцию Порцию Катону. Этим мы нанесли бы оскорбление консулу, который освободил этого человека от его обязанностей, отослав его к нам. Я думаю, в интересах Рима мы отправим Тита Тициния к другому командующему. Так будет лучше всего. Могу я предложить вам отправить его в Капую, где он вернется к своим прежним обязанностям?
– Что скажете, трибуны? – спросил Пизон Фруги.
– Пусть будет так, как говорит Гай Марий, – отозвался Сильван.
– Поддерживаю, – сказал Карбон.
Семеро остальных последовали их примеру.
– А что скажет собрание? Нужно ли проводить голосование или вы просто поднимете руки?
Тут же в воздух взметнулся лес рук.
– Тит Тициний, мы повелеваем тебе явиться к Квинту Лутацию Катулу в Капую, – объявил Пизон Фруги, сдерживая улыбку. – Ликторы, снимите с него цепи. Этот человек свободен.
Однако Тициний упирался и не уходил, пока его не отвели к Гаю Марию, перед которым он тотчас упал на колени, заливаясь слезами.
– Будь хорошим наставником своим капуанским новобранцам, Тит Тициний. – Плечи Мария устало обмякли. – А теперь, с вашего позволения, мне пора домой.
Из-за колонны показалось хитрое лицо Луция Декумия. Он потянулся рукой к Титу Тицинию, но глаза его внимательно следили за Марием.
– Здесь есть паланкин для тебя, Гай Марий.
– Я не поеду домой в паланкине, раз уж ноги занесли меня в такую даль! – отверг предложение Марий. – Ну-ка, мальчик, помоги подняться.
Он словно огромными тисками сжал тонкую руку Цезаря так сильно, что кожа вокруг побагровела, но мальчик ничем не выдал, что ему больно. Его лицо было по-прежнему сосредоточенно. Он помогал великому человеку подняться так просто, будто это было для него самым обычным делом. Поднявшись, Марий оперся о палку, мальчик занял свое место слева, и они зашагали вниз по ступеням, похожие на парочку обнявшихся крабов. На то, как они карабкаются вверх по холму, вышло посмотреть чуть не пол-Рима, и каждое усилие Мария сопровождали восторженные крики толпы.
Слуги дома словно обезумели – каждому хотелось проводить серого от усталости Мария до его покоев. Никто не замечал юного Цезаря, который едва плелся позади. Когда он убедился, что рядом никого нет, он опустился на пол в коридоре между входной дверью и атрием, закрыл глаза и лежал совершенно неподвижно. Там и нашла его Юлия некоторое время спустя. Ее сердце сжалось от ужаса, она опустилась на колени перед мальчиком, но какое-то странное оцепенение не давало ей крикнуть слуг.
– Гай Юлий! Гай Юлий! Что с тобой?
Когда она обняла его, он прижался к ней всем телом. В его лице не было ни кровинки, грудь тяжело вздымалась. Юлия взяла его руку, чтобы проверить пульс, и заметила темные синяки на плече – там, где его сжимали пальцы Гая Мария.
– Гай Юлий! Гай Юлий!
Он открыл глаза, вздохнул и улыбнулся, его щеки слегка разрумянились.
– Я привел его домой?
– Да-да, Гай Юлий, и ты отлично с этим справился, – сказала Юлия, с трудом сдерживая слезы. – Но ты совсем выбился из сил, куда больше, чем он! Эти прогулки по городу тебя измотают.
– Нет, тетя Юлия, поверь мне. Он не станет выходить ни с кем другим, ты же знаешь. – Он поднялся на ноги.
– Да, боюсь, ты прав. Спасибо тебе, Гай Юлий! Если бы только я могла выразить, как я тебе благодарна. – Она внимательно осмотрела синяки. – Он сделал тебе больно. Сейчас принесу лекарство.
Он весело посмотрел на нее, на губах заиграла улыбка, от которой сердце Юлии растаяло.
– Я знаю, какое мне нужно лекарство, тетя Юлия.
– Какое?
– Поцелуй. Один твой поцелуй, прошу тебя!
И он получил вдоволь поцелуев, и всякой еды, какой только пожелал, и книгу, и позволение оставаться в ее комнате, пока он не отдохнет хорошенько. Домой он отправился лишь тогда, когда за ним пришел Луций Декумий.
Весна сменила зиму, отшумело лето, пришла осень – заканчивался год, который наконец изменил ход войны в пользу Рима. Со временем Гай Марий и юный Цезарь сделались одной из римских достопримечательностей: все знали мальчика, на которого опирался при ходьбе старик, и старика, с каждым днем все меньше нуждавшегося в опоре. После той первой прогулки они все чаще сворачивали к Марсову полю, где было не так людно и их передвижения не вызывали такого жгучего интереса. Марий становился все сильнее, и они уходили все дальше и дальше от дома, пока однажды не дошли до самого конца Прямой улицы, упиравшейся в Тибр. Марию пришлось довольно долго отдыхать, но все же он искупался. Это была победа!
Как только Гай Марий начал плавать, его выздоровление пошло семимильными шагами. В нем вновь проснулся интерес к войне: во время прогулок они часто наблюдали, как упражнялись на плацу пехотинцы и конники. И Марий решил, что пора бы и юному Цезарю начать военную подготовку. И вот свершилось! Наконец Гай Юлий Цезарь прикоснулся к той науке, которую так долго желал познать. Его усадили на довольно быстроногую лошадку, и он показал себя прирожденным всадником. Он дрался с Марием на деревянных мечах до тех пор, пока даже Марий уже не мог поймать его врасплох и счел, что он заслужил настоящий меч. Он научился метать копье так, чтобы оно всегда поражало цель. Научился плавать, как только Марий снова стал уверенно держаться на воде и решил, что сможет прийти на помощь мальчику, случись что. И еще Марий начал делиться с ним своими размышлениями – мыслями опытного военачальника о военном искусстве.
– Большинство полководцев проигрывает битву еще до того, как она началась, – говорил он Цезарю, когда они сидели рядом на берегу реки, завернувшись в полотняные полотенца.
– Как же, Гай Марий?
– Есть два типа полководцев: первые ничего не смыслят в искусстве войны. Такие считают, что нужно лишь указать легионам врага, а там уж можно отойти подальше и наблюдать, как солдаты делают свое дело. Вторые же так забили себе голову всяческими наставлениями и советами, которые получили, когда были контуберналами, что действуют по книжке, а это значит самому искать поражения. Запомни, Гай Юлий, ни одна вражеская армия, ни одна кампания, ни одна битва не похожа на другую. Поэтому к каждой нужно относиться с уважением. Во что бы то ни стало ночью накануне сражения продумай, что ты будешь делать завтра, но не считай этот кусок пергамента священной реликвией. Дождись утра и принимай окончательные решения лишь тогда, когда ты увидишь врага, оценишь местность, позицию, поймешь, где слабое место противника. Предубеждение губительно для победы. К тому же все может измениться за секунды, ведь каждый миг битвы неповторим! Боевой дух твоих людей может вдруг упасть или вы начнете тонуть в грязи раньше, чем ты предполагал. А то еще поднимется пыль и ничего не будет видно. Или вражеский полководец выкинет какое-нибудь коленце. Бывает и так, что вдруг обнаружишь какой-нибудь просчет или переоценишь противника, – воодушевленно говорил Марий.
– А разве не бывает так, что все идет точно по плану? – Глаза Цезаря загорелись от любопытства.
– Бывает и такое! Но только когда рак на горе свистнет, Цезарь-младший. Всегда помни: что бы ты ни задумал, как бы ни был сложен твой план, будь готов изменить его в мгновение ока! И вот тебе еще одна крупица мудрости, мальчик. Чем проще план, тем лучше. Простые планы куда лучше замысловатых, хотя бы потому, что ты, главнокомандующий, не можешь привести его в исполнение сам, не спустив легатам, а те – другим командирам рангом пониже. И чем ниже по цепочке передаются твои приказы, чем дальше командующий от своих солдат, тем меньше остается от твоего плана.
– Выходит, полководцу нужны вымуштрованные солдаты и отлично выученные офицеры? – задумчиво спросил мальчик.
– Так и есть! – вскричал Марий. – Вот почему хороший полководец не начинает битвы, не обратившись к своим солдатам. Не для того, чтобы воодушевлять их, Цезарь, а для того, чтобы рядовые понимали, какую задачу перед ними ставит командующий. Если они знают, каков его план, они смогут верно истолковывать приказы, которые получают на своем конце цепочки.
– Значит, стоит узнать своих солдат?
– Точно. Также стоит убедиться, что они знают, каков ты. И в том, что они тебя любят. Если солдаты любят своего командира, они пойдут ради него на больший риск и будут сражаться куда яростнее. Всегда помни о том, что сказал Тит Тициний с ростры. Брани своих людей какими угодно словами, но не дай им заподозрить, что ты их презираешь. Если ты знаешь своих солдат и они знают тебя, с двадцатью тысячами римских легионеров ты разобьешь сто тысяч варваров.
– Ты ведь и сам начинал солдатом?
– Да, это так. И это моя привилегия, которой ты лишен, юный Цезарь, по праву рождения, ведь ты происходишь из семьи благородных римских патрициев. И все же, скажу я тебе, тот, кто не прошел весь путь от солдата до военачальника, никогда не будет полководцем в полном смысле слова. – Марий устремил взгляд вдаль, словно его глазам было подвластно разглядеть что-то еще, кроме Тригария и ровного зеленого ковра Ватиканского поля. – Лучшие полководцы всегда начинали рядовыми. Посмотри на Катона Цензора. Когда ты подрастешь и станешь контуберналом, никогда не стой рядом с командующим, который лишь наблюдает за битвой, – так ты не будешь ему полезен. Сражайся в первых рядах. Забудь о том, что ты нобиль. В каждом сражении будь рядовым. Если командир будет против и скажет, что хочет послать тебя вестовым объезжать поле битвы, отвечай, что ты предпочел бы сражаться. Он позволит, потому что люди его склада нечасто слышат такие речи. Ты должен драться как простой солдат, юный Цезарь. Иначе как ты, став полководцем, поймешь, каково приходится твоим солдатам на передовой? Как иначе узнаешь, что страшит их, заставляет мешкать, что придает им сил и помогает биться, словно они разъяренные быки? Я расскажу тебе еще один секрет, мальчик!
– Какой? – живо откликнулся Цезарь, который жадно впитывал каждое его слово.
– Нам пора домой! – Марий захохотал, но смех застрял у него в горле, когда он увидел лицо Цезаря. – Ну, мальчик, знай свое место! – рявкнул он, потому что его шутка вовсе не пришлась по вкусу взбешенному Цезарю.
– Никогда не смей дразнить меня, говоря о столь важных вещах! – Это было сказано таким мягким и ровным тоном, что Марию показалось, он слышит голос Суллы. – Я серьезно, Гай Марий! Ты здесь не для того, чтобы забавлять меня историями! Я хочу узнать все, что знаешь ты, прежде чем стану контуберналом, – тогда я буду во всеоружии и смогу сделаться первым учеником. Я никогда не перестану учиться! Поэтому оставь свои несмешные шутки и обращайся со мной как с мужчиной!
– Ты не мужчина, – слабо возразил Марий. Буря, которую он вдруг поднял, оглушила его, и он не знал, как ему быть.
– Когда приходит время учиться, я куда больше мужчина, чем любой из тех, кого я знаю, включая и тебя.
Голос Цезаря звенел все громче. Несколько мокрых голов повернулись в его сторону. И даже теперь Цезарь не дал воли ярости: он взглянул на любопытствующих зевак и быстро поднялся с земли.
– Когда тетя Юлия обращается со мной как с ребенком, мне это даже приятно, – сказал он уже спокойным тоном. – Но когда это делаешь ты, Гай Марий, меня это смертельно оскорбляет! Я этого не потерплю. – Он протянул Марию руку, помогая подняться. – Давай, нам пора домой. Сегодня ты вывел меня из терпения.
Марий взял протянутую руку, и за весь обратный путь ни один не проронил ни слова.
Как показали дальнейшие события, это было даже кстати: на пороге их ждала встревоженная Юлия. По ее лицу было заметно, что она совсем недавно плакала.
– Гай Марий, случилось ужасное несчастье! – закричала она, позабыв, что его нельзя волновать. Даже теперь, когда он находился во власти болезни, Юлия видела в нем опору.
– Что такое, моя радость?
– Марий-младший! – Она увидела ужас в глазах мужа, поняла, какой промах допустила, и невнятной скороговоркой принялась объяснять: – Нет-нет, он не убит! Даже не ранен! Прости меня, любимый, прости, я не должна была так пугать тебя, но я сама не понимаю, что со мной, не знаю, что делать.
– Сядь, Юлия, и успокойся. Я сяду рядом с тобой, а Гай Юлий устроится с другой стороны, и ты расскажешь нам обоим все по порядку – спокойно, ясно, а не пенясь и рокоча, словно городской фонтан.
Юлия опустилась на скамью. Марий и юный Цезарь уселись по обе стороны от нее и принялись поглаживать ее руки, стараясь успокоить.
– Теперь говори, – сказал Гай Марий.
– Была большая битва с Квинтом Поппедием Силоном и его марсами. Где-то возле Альбы-Фуценции. Марсы одержали победу. Но нашей армии удалось отступить без значительных потерь, – начала Юлия.
– Полагаю, это уже неплохо, – мрачно заметил Марий. – Продолжай. Ведь это еще не все.
– Перед тем как наш сын приказал отступать, был убит консул Луций Катон.
– Приказ об отступлении дал наш сын?
– Да. – Юлия мужественно сдерживала подступавшие слезы.
– Откуда ты все это узнала, Юлия?
– Квинт Лутаций заходил повидать тебя. Он ездил по какому-то казенному делу на марсийский театр, думаю, посмотреть, как идут дела у Луция Катона. Ведь там вечно какие-то неприятности. Не знаю, честно говоря, я ни в чем не уверена. – Она высвободила одну руку и поднесла ее ко лбу.
– Не наше дело, зачем Квинт Лутаций ездил на марсийский театр, – сурово сказал Марий. – Не ошибусь, предположив, что он сам наблюдал за этой битвой?
– Нет, он был в Тибуре. После битвы туда отступила наша армия. Поражение, очевидно, было сокрушительным. Солдаты разбегались кто куда. По всей видимости, наш сын единственный сохранил самообладание, поэтому-то он и отдал приказ отступать. На пути в Тибур он пытался восстановить порядок в войсках, но все было тщетно. Солдаты просто обезумели.
– И что же тогда… что все-таки случилось, Юлия?
– В Тибуре его ожидал претор. Новый легат, назначенный к Луцию Катону, – Луций Корнелий Цинна… Я уверена, что Квинт Лутаций назвал это имя. Да, так вот, когда армия вступила в Тибур, наш сын, Марий-младший, передал командование Луцию Корнелию Цинне. Поначалу все шло своим чередом. Луций Цинна даже отметил нашего сына за проявленную выдержку.
Тут Юлия высвободила и вторую руку и крепко прижала сцепленные руки к груди.
– Ты сказала, поначалу. Что дальше?
– Луций Цинна собрал людей, чтобы установить, что точно произошло. Ему удалось поговорить только с несколькими трибунами и контуберналами – все легаты, очевидно, были убиты, так как ни один не вернулся в Тибур, – продолжала Юлия, отчаянно пытаясь излагать все как можно яснее. – И вот когда Луций Цинна стал выяснять обстоятельства смерти Луция Катона, один из контуберналов обвинил нашего сына в убийстве консула!
– Понимаю, – спокойно сказал Марий. Вид у него был совершенно невозмутимый. – Хорошо, Юлия, ты знаешь, что было дальше. Я – нет. Продолжай.
– Тот юноша рассказал, что наш сын пытался убедить Луция Катона дать команду к отступлению. Но Луций Катон разъярился и обозвал его сыном италийского предателя. Консул отказался отступать и заявил, что лучше все его люди полягут на поле боя, чем будут жить в бесчестии. После этого он повернулся к Марию спиной в знак отвращения. И тут наш сын – так рассказывает тот контубернал – обнажил свой меч и вонзил его в спину Луция Катона по самую рукоять! После чего он принял командование и отдал приказ отступать. – Конец рассказа потонул в рыданиях.
– Неужели Квинт Лутаций не мог дождаться меня, вместо того чтобы взвалить на тебя это бремя? – резко сказал Марий.
– Времени у него и в самом деле не было, Гай Марий. – Юлия смахнула слезы, пытаясь успокоиться. – Его вызвали по срочному делу в Капую, так что он должен был немедленно отправляться туда. Он говорит, ему никак нельзя было задерживаться, и он специально сделал крюк, заехав к нам, в Рим, так что мы должны быть благодарны ему за это. Еще он сказал: ты знаешь, что делать. И когда он это говорил, я поняла: он не сомневается, что наш сын убил Луция Катона. О, Гай Марий, что нам делать? Что ты предпримешь? Что имел в виду Квинт Лутаций?
– Я должен ехать в Тибур вместе с моим другом Гаем Юлием. – Марий встал.
– Но ты не можешь! – Юлия едва выговаривала слова.
– Могу, разумеется. А сейчас успокойся, жена, и вели Стофанту послать кого-нибудь к Аврелии за Луцием Декумием. Он позаботится обо мне в пути и снимет с мальчика часть его бремени.
При этих словах Марий крепко сжал плечо Цезаря – не для того, чтобы опереться, а словно бы подавая знак молчать.
– Пусть Луций Декумий едет с тобой один. Гай Юлий должен вернуться домой к матери, – сказала Юлия.
– Да, ты права, – согласился Марий. – Иди домой, юный Цезарь.
Но Цезарь не соглашался.
– Мать приставила меня к тебе, – сказал он сурово. – Если бы я бросил тебя при таких обстоятельствах, она бы очень на меня рассердилась.
Марий стал было настаивать, но Юлия, которая знала характер Аврелии, вдруг уступила:
– Он прав, Гай Марий. Возьми его с собой.
Поэтому час спустя Гай Марий, юный Цезарь и Луций Декумий покидали Рим через Эсквилинские ворота в повозке, запряженной четырьмя мулами. Опытный возница, Луций Декумий, пустил мулов бодрой рысью, – так мулы могли проделать весь путь до Тибура, не выбившись из сил.
До самой темноты Цезарь, которому никогда еще не доводилось путешествовать в такой спешке, с восхищением разглядывал проплывавшие мимо него пейзажи со своего места между Марием и Декумием. Надо признаться, в душе он всегда любил быструю езду.
Хотя разница между двоюродными братьями составляла девять лет, юный Цезарь хорошо знал Мария-младшего. Он помнил его с самого младенчества; в его воспоминаниях Марий занимал куда большее место, чем другие дети, и Цезарь не любил его. Нет, Марий-младший никогда не обращался с ним дурно, никогда не смеялся над ним. Причина была не в нем, а в других, в тех, над кем Марий издевался и насмехался. Сколько бы Цезарь ни наблюдал за постоянным соперничеством между Марием-младшим и Суллой-младшим, его симпатии всегда оказывались на стороне Суллы. Двуличие Мария проявлялось и в отношении Корнелии Суллы: с ней он был всегда нежен и обходителен, но стоило ей выйти за порог, как он становился желчным и злым. Он выставлял ее на посмешище перед своими кузенами и сплетничал о ней с приятелями. Поэтому бесчестие, ожидавшее Мария-младшего, никак не взволновало бы Цезаря, если бы не Гай Марий и тетя Юлия. За них он тревожился.
Когда совсем стемнело и лишь половинка луны освещала им путь, мулы перешли на шаг. Мальчик вскоре уснул: голова его покоилась на коленях Мария, тело расслабилось, и он забылся тем сладким сном, какой бывает только у животных и детей.
– Что ж, Луций Декумий, давай-ка поговорим, – предложил Марий.
– Пожалуй, – весело отозвался Луций Декумий.
– Мой сын попал в большую беду.
Луций Декумий задумчиво пощелкал языком:
– Что ж, мы не должны этого допустить, если только это возможно.
– Его обвиняют в убийстве консула Катона, – продолжал Марий.
– Если судить по тому, что я слышал о консуле Катоне, Мария-младшего следовало бы наградить травяным венком за спасение армии, – заметил Луций Декумий.
Марий затрясся от смеха:
– Я совершенно с тобой согласен. Если то, что рассказывает моя жена, верно, дело обстоит именно так. Этот дурак Катон был сам виноват в своем поражении! Думаю, оба его легата уже давно были убиты, а трибуны, по всей видимости, носились по полю боя, передавая его приказы, возможно ошибочные. Вся свита консула Катона, очевидно, состояла из одних контуберналов. И моему сыну выпало на долю посоветовать командующему отступить. Катон отказался и обозвал Мария-младшего сыном италийского предателя. Поэтому, как утверждает другой контубернал, добрый римский меч вошел в спину консула по самую рукоять, а мой сын, Марий-младший, отдал приказ к отступлению.
– Неплохо, Гай Марий!
– И я так считаю – с одной стороны. С другой стороны, жаль, что Катон стоял к нему спиной. Но я знаю своего сына. Он горяч и ему известно, что такое честь. Я редко бывал дома, когда он рос, а не то бы выбил из него эту горячность. Кроме того, он всегда был достаточно умен, чтобы не показывать свой норов при мне. Или при матери.
– Сколько же свидетелей, Гай Марий?
– Один, как я слышал. Большего мне не узнать, пока я не увижусь с Луцием Корнелием Цинной, который командует там теперь. Конечно, мой Марий должен ответить на обвинение. Если свидетель упрется, моего сына накажут палками, а потом обезглавят. Убийство консула – не просто преступление, это еще и святотатство.
Луций Декумий опять прищелкнул языком, но промолчал. Разумеется, он знал, почему его взяли в это путешествие, цель которого – вызволить Мария-младшего из чудовищной переделки. Он был в восторге от того, что сам Гай Марий послал за ним. Гай Марий! Самый прямой, самый достойный человек из всех, кого Луций Декумий знал. Как это Луций Сулла сказал о нем несколько лет назад? Даже выбрав нечестный путь, Гай Марий пойдет честно? Но по всему выходило, что сегодня ночью Гай Марий решил пойти нечестно нечестным путем. Как это на него не похоже! Были ведь и другие пути. Пути, которые Гай Марий должен был хотя бы испробовать.
Луций Декумий повел плечами. В конце концов, Гай Марий всего лишь отец. И у него только один сын. Зеница его ока. Неплохой мальчик, если, конечно, вам по нраву заносчивые мерзавцы. Трудно, наверно, быть сыном великого человека. Особенно тому, у кого нет стержня. Да, разумеется, он храбрец. К тому же не глуп. Но истинно великим человеком ему не быть. Для этого нужна трудная жизнь. Куда труднее, чем была у Мария-младшего. А мать у него такая добрая женщина! Будь она такой, как у юного Цезаря, возможно, все было бы иначе. Уж Аврелия-то позаботится, чтобы жизнь у Цезаря легкой не была. Никаких колебаний от намеченного курса. Да и денег в семье в обрез.
Дорога, до сих пор ровная, постепенно стала подниматься в гору; порядком уставшие мулы попытались было заупрямиться, но Луций Декумий взбодрил их кнутом, грозно прикрикнул и железной рукой повел повозку дальше.
Пятнадцать лет назад Луций Декумий назначил себя покровителем матери Цезаря, Аврелии. Примерно в то же время сыскался для него и дополнительный заработок. Был он коренной римлянин, принадлежал к городской Палатинской трибе, по имущественному цензу относился к четвертому классу, а по роду занятий был квартальным начальником, возглавляя коллегию, разместившуюся в том самом доме, где жила Аврелия. Он был невысок, невзрачен, невежествен, однако за этими ничем не примечательными чертами скрывалась непоколебимая вера в свой ум и силу воли. Своими людьми он управлял как истинный полководец.
Под его началом было целое братство, официально утвержденное городским претором. Братству полагалось заботиться о целом квартале: подметать улицы, следить, чтобы алтари на перекрестках, посвященные ларам, содержались в надлежащем порядке, чтобы вода из большого фонтана, который снабжал всю округу, беспрепятственно изливалась в вычищенный водосборник, наконец его стараниями организовывались ежегодные Компиталии. В коллегии состояли самые разные люди – от местных жителей второго класса до неимущих, от чужестранцев – евреев и сирийцев – до греческих отпущенников и рабов. Второй и третий классы в жизни коллегии участвовали пожертвованиями, достаточно щедрыми, чтобы от них не потребовалось ничего другого. Постоянными посетителями на удивление чистой таверны, которая располагалась на территории квартала, были ремесленники, проводившие свой выходной за вином и беседой. Каждому работнику, будь то свободный или раб, полагался выходной на восьмой день от начала работы. Поэтому день ото дня люди за столами менялись, но когда бы Луций Декумий ни объявил, что нужно сделать то или это, все тут же отставляли свое вино и спешили выполнить приказ начальника.
Братство Луция Декумия промышляло и другой деятельностью, которая не имела ничего общего с городским благоустройством. Когда Марк Аврелий Котта, приходившейся Аврелии не только дядей, но и отчимом, купил для племянницы инсулу, с тем чтобы умножить ее приданое, она быстро обнаружила, что ее дом был пристанищем вымогателей, которые собирали дань с местных торговцев и ремесленников. Аврелия, женщина безупречной репутации, скоро положила этому конец. Точнее сказать, Луций Декумий и его подельники перенесли свою деятельность в те части города, где у Аврелии не имелось ни дел, ни знакомых, так что не было никакой опасности, что жертвы донесут ей об их бесчинствах.
Примерно в то же время, когда Аврелия приобрела инсулу, Луций Декумий отыскал свое призвание, не только приятное, но и доходное: он стал наемным убийцей. Хотя об этих его делах было больше слухов, чем сведений, все, кто был с ним знаком, безоговорочно верили в то, что Луций Декумий замешан во многих заказных убийствах, как за пределами Рима, так и в городе. Он был хитер и смел – никто ни решался обеспокоить его расспросами, не говоря уж о том, чтобы задержать. Он никогда не оставлял следов. Однако каждая собака в Субуре знала характер его прибыльного ремесла. Как говорил сам Луций Декумий, никто ж не предложит тебе такую работу, если не знает, что ты убийца. Он отрицал свое участие в некоторых делах, и в этом ему тоже верили безоговорочно. Слыхали, как он называл убийцу Азеллиона неуклюжим любителем, который подверг Рим опасности тем, что убил авгура в полном облачении. И хотя он и счел, поразмыслив, что Метелла Нумидийского Свина отравили, он прилюдно объявлял яд бабским оружием, куда как недостойным профессионального убийцы.
Луций Декумий полюбил Аврелию сразу. Он утверждал, что его чувство не было ни похотью, ни страстью, скорее, инстинктивной тягой к родственной душе, такой же цельной, храброй и умной, как он сам. А может, и чем-то большим, что он не умел выразить словами. Он стал ее защитником и благодетелем. Когда родились ее дети, он и их взял под свое хищное крыло. Он боготворил Цезаря. По правде говоря, он любил его куда больше двух своих сыновей, теперь уже почти взрослых мужчин, которые начали постигать его науку в коллегии. Годами он оберегал мальчика, проводил долгие часы вместе с ним, без прикрас рассказывал о мире, в котором они жили, и населявших его людях. Он объяснял, как действует банда вымогателей и какими качествами должен обладать хороший убийца. Цезарю было известно все о Луции Декумии. И все было ему понятно: то, что дозволено и подобает юному римскому патрицию, совсем не подходит квартальном римскому начальнику четвертого класса, вымогателю и убийце. Каждому свое. Но это не мешало им быть друзьями, не мешало любить друг друга.
– Мы сами-то из городского отребья, – как-то объяснял Луций Декумий Цезарю. – Кто ж не захочет, чтобы было нам попить-поесть вдоволь, а еще купить трех-четырех славных рабынь, да чтоб у одной была такая щелка, что не зря задерешь подол? Да даже если мы умно поведем дела – а кто из нас в этом горазд, – где же нам раздобыть монет? По одежке протягивай ножки. Так-то! – Он приложил указательный палец к носу и ухмыльнулся, показав черные зубы. – Только ни слова, Гай Юлий! Никому ни слова! Особенно твоей дорогой маме.
Этот и другие секреты он надежно хранил ото всех, включая Аврелию. Юный Цезарь знал куда больше, чем она могла вообразить.
К полуночи они добрались до лагеря, разбитого неподалеку от маленькой деревушки Тибур. Без малейших колебаний Гай Марий распорядился поднять бывшего городского претора Луция Корнелия Цинну с постели.
Они были едва знакомы – Цинна был почти на тридцать лет моложе, – однако из речей Цинны в сенате можно было заключить, что он относится к почитателям Мария. Он проявил себя как хороший городской претор – первый, чье преторство пришлось на военное время, когда оба консула отсутствовали в Риме, однако известные события разрушили его надежды составить себе состояние, управляя какой-нибудь провинцией.
Прошло два года, и теперь он отчетливо понимал, что у него нет средств дать приданое за дочерьми, и сомневался, может ли он устроить сыну карьеру в сенате, или тому вечно придется оставаться среди заднескамеечников. То, что сенат наделил его полномочиями командовать на марсийском театре после смерти консула Катона, ничуть его не обрадовало. На его долю выпали лишь заботы по укреплению того, что было расшатано человеком столь же наглым, сколь и несведущим в военном деле. О, если бы он получил назначение в богатую провинцию!
Это был коренастый, краснолицый человек с тяжелой челюстью, довольно некрасивый, что не помешало ему составить отличную партию: его жена, Анния, происходила из богатой плебейской семьи, уже двести лет гордившейся своими консулярами. В этом браке появилось трое детей: две девочки, пяти и пятнадцати лет, и мальчик, которому уже сравнялось семь. Аннию очень красили рыжие волосы и зеленые глаза. Старшая дочь пошла в мать, младшие дети – в отца. Все это не имело никакого значения до той поры, пока великий понтифик Гней Домиций Агенобарб не навестил Цинну, чтобы посватать его старшую дочь за своего старшего сына Гнея.
– Нам, Домициям Агенобарбам, нравятся рыжие жены, – без обиняков начал великий понтифик. – Твоя девочка, Корнелия Цинна, как раз то, что надо: она подходящего возраста, патрицианского рода и рыжая. Вначале я подумывал о дочери Луция Суллы. Но та, увы, выходит замуж за сына Квинта Помпея Руфа. Однако твоя дочь нам тоже подойдет. Знатностью она утрет нос любому, а приданое, думаю, будет и побольше?
Цинна сглотнул и вознес молчаливую хвалу Юноне Соспите и Опе, богине плодородия. Ему оставалось лишь уповать на наместничество в какой-нибудь богатой провинции.
– К тому времени, когда моя дочь достигнет брачного возраста, я дам за ней пятьдесят талантов. Больше не могу. Этого хватит?
– О, вполне! – ответил Агенобарб. – Гней – мой главный наследник, так что твоя девочка будет хорошо устроена. Тягаться со мной богатством в Риме могут человек пять или шесть. У меня тысячи клиентов. Нельзя ли нам провести церемонию обручения сейчас?
Все это происходило за год до того, как Цинна получил претуру. Тогда он считал, что время терпит: когда придет пора сдержать слово и дать за дочерью обещанное приданое, деньги найдутся. Если бы Анния была свободна распоряжаться своим состоянием, дела устроились бы куда проще, но ее отец позаботился о том, чтобы после ее смерти детям не досталось ни сестерция.
Когда Гай Марий разбудил Луция Корнелия Цинну, заходящий месяц еще не покинул небосклон. Тогда Цинна не подозревал, чем обернется эта встреча. Пока он одевался, на сердце у него было тяжело: ему предстоял неприятный разговор с отцом, чей сын подавал столько надежд.
Великий человек вошел в шатер командующего в сопровождении весьма примечательной свиты: невзрачного человека лет пятидесяти и поразительно красивого мальчика. Мальчик-то и прислуживал старику, и было видно, что он уже привык и хорошо знает свои обязанности. Цинна было принял его за раба, но амулет-булла на шее и достоинство, с которым он держался, выдавали в нем патриция, превосходившего Корнелиев родовитостью. Когда Мария усадили в кресло, мальчик встал по левую руку от него. Второй спутник занял место чуть поодаль.
– Луций Корнелий Цинна, это мой племянник Гай Юлий Цезарь-младший и мой друг Луций Декумий. При них ты можешь говорить совершенно свободно.
Правой рукой Марий поднял все еще беспомощную левую и уложил ее на коленях. Цинна подумал, что римские сплетни – если подумать, довольно старые сплетни, – как всегда, все переврали: Марий вовсе не выглядел развалиной и владел своим телом куда лучше, чем они предполагали. Великий человек. К счастью, не такой уж грозный противник.
– Ужасное дело, Гай Марий.
Марий обвел шатер внимательным взглядом. Когда он удостоверился, что кроме них там никого не было, он посмотрел Цинне прямо в лицо и заговорил:
– Мы одни, Луций Цинна?
– Совершенно.
– Хорошо. – Марий поудобнее устроился в кресле. – О том, что случилось, я узнал от своей жены. Квинт Лутаций навестил меня, однако не застал дома. Он рассказал все ей, а уж она передала мне. Я понял так, что мой сын обвиняется в убийстве консула Луция Катона во время битвы и что есть какой-то свидетель. Или свидетели. Так ли это?
– Боюсь, что так.
– Сколько свидетелей?
– Один.
– И кто он? Честный человек?
– Безукоризненно, Гай Марий. Это контубернал, Публий Клавдий Пульхр, – ответил Цинна.
– А, он из этой семейки, – хмыкнул Марий. – Все Пульхры известны своим мерзким нравом. С ними трудно иметь дело. К тому же бедны, как апулийские пастухи. Так как же ты можешь быть совершенно уверен в этом свидетеле?
– Я уверен, потому что этот Клавдий совсем не похож на остальных Пульхров. – Цинна не хотел заронить в душу Мария напрасную надежду. – Его репутация среди контуберналов и в свите покойного Луция Катона безупречна. Ты сам убедишься, когда поговоришь с ним. Он старше прочих контуберналов и очень предан своим товарищам, в особенности твоему сыну, которого всегда искренне почитал. Думаю, что и его поступок он одобряет. Луция Катона не очень любили в шатре командующего, не говоря уж о солдатских палатках.
– И все же Публий Клавдий обвинил моего сына.
– Он говорит, так велел ему долг.
– Понимаю! Двуличный служака.
– Нет, Гай Марий, это не так, – запротестовал Цинна. – Забудь, что ты отец, и взгляни на все дело с точки зрения командира. Молодой Пульхр – воплощенный идеал римского гражданина, для которого нет ничего важнее долга и семьи. Он исполнил свой долг, хотя тот и был ему неприятен. Вот и все.
Когда Марий попытался встать, стало заметно, что он устал куда сильнее, чем показалось сначала. Он уже начал передвигаться самостоятельно, но сейчас не мог и шагу ступить без помощи Цезаря. Луций Декумий шагнул вперед, встал по правую руку от Мария и деликатно кашлянул. По его глазам было видно, что он хочет что-то сказать.
– Ты хочешь о чем-то спросить? – откликнулся Цинна.
– Прошу твоего прощения, Луций Цинна, разбирательство по делу Мария-младшего должно состояться завтра?
– Вовсе нет. Можно отложить его на день. – От удивления Цинна заморгал.
– Тогда, если ты не возражаешь, пусть лучше будет послезавтра. Когда Гай Марий проснется – я думаю, это будет не очень-то рано, – ему придется позаниматься. Понимаешь, он слишком долго сидел скрючившись в повозке. – Декумий медленно подбирал слова, стараясь говорить правильно. – Сейчас он ежедневно проводит по три часа в седле. Завтра он тоже поедет верхом. Понимаешь? Нужно позволить ему лично встретиться с этим контуберналом, Публием Клавдием. Марию-младшему предъявлены серьезные обвинения; такой большой человек, как Гай Марий, должен сам расспросить свидетеля, ведь так? Думаю, хорошо бы Гаю Марию встретиться с этим контуберналом Публием Клавдием… в обстановке менее официальной, чем этот шатер. Никому из нас… никто ведь не хочет, чтобы дело обернулось хуже, чем нам всем… чем следует. Я думаю, хорошо бы завтра пополудни ты выехал на конную прогулку. И пригласил всех контуберналов присоединиться. В том числе и этого Публия Клавдия.
Цинна нахмурился. Он чувствовал, что его втягивают в нечто такое, о чем он потом пожалеет. Лицо мальчика, стоявшего по левую руку от Мария, расплылось в улыбке, он моргнул и сказал:
– Прошу, прости Луция Декумия. У дяди нет более преданного клиента. Нет и более свирепого тирана. Он доволен лишь тогда, когда все выходит, как он задумал.
– Я не могу позволить Гаю Марию беседовать с Публием Клавдием частным образом до слушания дела, – с несчастным видом ответил Цинна.
Этот диалог привел Мария в бешенство. Он обрушился на Луция Декумия и Цезаря с такой неподдельной яростью, что Цинна испугался, как бы его опять не хватил удар.
– Что вы несете? – взревел Марий. – Я не собираюсь встречаться с этим образцом римских добродетелей, Публием Клавдием, ни так, ни иначе! Я хочу лишь одного: увидеть сына и присутствовать на разбирательстве его дела.
– Хорошо-хорошо, Гай Марий, стоит ли так волноваться, – медовым голосом пропел Луций Декумий. – Завтра днем ты немножко прогуляешься верхом и к слушанию дела будешь чувствовать себя куда лучше.
– О, как мне надоела суета этих идиотов! – простонал Марий и вышел из шатра без помощи своих нянек. – Где мой сын?
Луций Декумий бросился вслед разгневанному Марию, однако юный Цезарь не спешил уходить.
– Не обращай внимания, Луций Цинна. – Мальчик опять улыбнулся своей колдовской улыбкой. – Они все время ссорятся, но Луций Декумий прав. Завтра Гай Марий должен отдохнуть и выехать на прогулку. Это дело его очень тревожит. Нас заботит лишь то, что эти невзгоды могут серьезно помешать его выздоровлению.
– Да, понимаю. – Цинна ласково потрепал мальчика по плечу. – Теперь самое время отвести Гая Мария к его сыну.
Он взял факел и пошел туда, где виднелся грузный силуэт Мария.
– Твой сын там, Гай Марий. Для соблюдения приличий я приказал ему дожидаться разбирательства в собственной палатке. Он взят под стражу, и ему не позволено ни с кем видеться.
– Ты понимаешь, конечно, что это лишь предварительное разбирательство? – спросил Марий, когда они шли между двумя рядами палаток. – Если его исход будет неблагоприятным, я добьюсь, чтобы он предстал перед коллегией в Риме.
– Да, понимаю, – без всякого выражения ответил Цинна.
Когда отец и сын наконец встретились, в глазах Мария-младшего промелькнуло раздражение, но он тотчас овладел собой. Пока не увидел Луция Декумия и Цезаря.
– Зачем ты привел с собой этих двоих? – спросил он.
– Потому что одному мне это путешествие не под силу. – Он коротко кивнул Цинне, показывая, что тот может идти, потом позволил усадить себя в единственное кресло, которое нашлось в небольшой палатке. – Что ж, сын, твоя горячность довела тебя до беды. – Голос Мария звучал сурово и холодно.
Марий-младший смотрел на отца в замешательстве: он как будто бы ждал какого-то знака, который отец не спешил подавать. Не дождавшись, он всхлипнул и сказал:
– Я этого не делал.
– Отлично, – сказал Марий с довольным видом. – Стой на своем и ничего не бойся.
– Правда ли это, отец? Как может такое быть? Публий Клавдий будет клясться, что я убил консула.
Марий вдруг встал. Вид у него был подавленный.
– Если ты будешь настаивать на своей невиновности, сын мой, обещаю, что с тобой ничего не случится. Ничего.
Лицо Мария-младшего просветлело: вот он, знак, – подан и принят.
– Так ты все устроишь?
– Я могу устроить многое, но официальному расследованию, которое проводит человек чести, я не в состоянии воспрепятствовать, – устало ответил Марий. – Все можно будет устроить Риме. А теперь последуй моему примеру и ложись спать. Я загляну к тебе завтра, ближе к вечеру.
– Не раньше? Разве слушание не назначено на завтра?
– Не раньше. Слушание отложено на день, потому что мне нужна верховая прогулка, иначе не бывать мне консулом в седьмой раз. – Уже стоя на пороге, Гай Марий обернулся к сыну и криво ухмыльнулся. – Я должен поехать на эту прогулку, – так считают эти двое. Там меня ждет встреча с твоим обвинителем. Нет, я не собираюсь уговаривать его взять свои слова назад. Мне запретили вступать с ним в какие-либо частные разговоры. – Он перевел дух. – Какой-то жалкий претор будет указывать мне, Гаю Марию, как себя вести! Я охотно прощаю тебе убийство этого ничтожного Катона, который собирался загубить целую армию, но того, что из-за тебя я попал в положение потенциального укрывателя, я простить не могу.
Когда все участники прогулки наконец собрались, было уже далеко за полдень. Гай Марий был подчеркнуто вежлив с Публием Клавдием Пульхром, темноволосым юношей, по виноватому виду которого было ясно, что он мечтает лишь об одном – оказаться как можно дальше отсюда. Натянулись поводья, и Марий присоединился к Цинне; его легат Марк Цецилий Корнут и Цезарь держались чуть поодаль, контуберналы ехали в самом хвосте отряда. После того как выяснилось, что всадники довольно плохо были знакомы с местностью, Луций Декумий взялся руководить маленьким отрядом.
– В миле отсюда открывается великолепный вид на Рим, – сказал он. – Отличная прогулка для Гая Мария.
– Откуда ты так хорошо знаешь Тибур? – спросил Марий.
– Мой дед был из Тибура, – ответил Луций Декумий. Они как раз въехали на узкую тропку, которая круто уходила вверх, и кавалькада растянулись на порядочную длину.
– Вот уж не подумал бы, что такой прожженный субурский негодяй бережет свои крестьянские корни, Луций Декумий.
– Нет, Гай Марий, конечно же нет, – весело бросил ему через плечо Луций Декумий. – Но ты знаешь, каковы женщины! Моя мать таскала нас сюда каждое лето.
День был погожим и жарким, однако прохладный ветерок дул им в лицо, и можно было слышать, как перекатываются волны Анио в теснине, то рокоча, то замирая. Луций Декумий ехал шагом, и время словно остановилось: то, что Марий явно наслаждался каждым мигом, было в глазах его спутников единственным оправданием этой мучительной скуки. Публий Клавдий Пульхр, еще недавно мучившийся мыслью о невыносимом испытании, которым станет встреча с отцом Гая Мария-младшего, постепенно успокоился и завел разговор с другими контуберналами. Цинна, следовавший за Марием, с интересом ждал, попытается ли тот познакомиться с обвинителем своего сына поближе. Цинна сам был отцом и знал, что, окажись он на месте Мария, он пошел бы на что угодно, лишь бы его дитя выбралось из переделки.