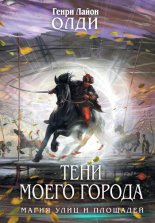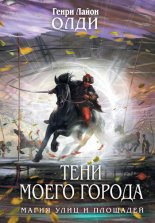Битва за Рим Маккалоу Колин
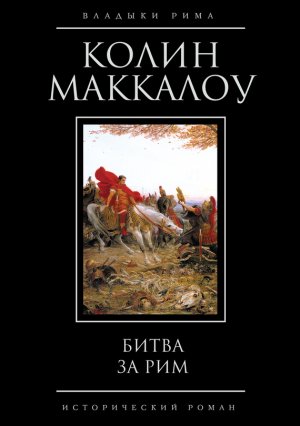
–Сними это, Далматика, – сказал он.
Она покорилась, словно ребенок, которого поймали за кражей варенья, без возражений. Он кивнул и одобрительно улыбнулся.
– Ты красавица, – промурлыкал он, подошел к ней, скользнул возбужденной плотью ей между ног и притянул к себе. Потом он поцеловал ее, и Далматика почувствовала то, чего никогда не знала раньше: его кожу, губы, член, руки на своем теле, его запах, чистый и сладкий – так пахли ее дети после купания. Она даже не подозревала, что такое бывает.
И так она пробуждалась, взрослела и открывала для себя мир, который не имел ничего общего с ее мечтами и фантазиями, мир страсти. Ее любовь стала обожанием, и он завладел теперь не только ее душой, но и телом.
Но и Сулла был зачарован: такое было у него впервые с Юлиллой, похожее – с Метробием. Он погрузился в экстатическое блаженство, которого не переживал уже двадцать лет. «О, как я изголодался, – с удивлением говорил он себе, – а я даже и не знал. А ведь это так важно, мне ведь это необходимо. Как же я упустил это из виду».
Поэтому не было ничего удивительного в том, что после этого невероятного первого дня их супружества Сулле было все нипочем. Он терпеливо сносил неодобрительное шиканье, которым его встречали на Форуме – многие были возмущены тем, как он обошелся с Элией; злобные намеки, которые делал Филипп, – мол, он видел лишь богатство Далматики и ничего больше; неодобрение, которое читалось в позе Мария, опиравшегося на своего мальчишку; ухмылки и подмигивания Луция Декумия и усмешки тех, кто считал его Сатиром, соблазнившим эту невинность – вдову Скавра. Даже короткая записка, которой Метробий поздравил его со счастливым событием, не огорчила его.
Меньше чем через две недели они переехали в дом на Палатине, возле храма Великой Матери. Он выходил прямо на Большой цирк. Стенные росписи там были богаче, чем у Марка Ливия Друза, а мраморные колонны, мозаичные полы и мебель была такой роскошной, что подошла бы больше восточному царю, а не римскому сенатору. Сулла и Далматика могли даже похвастаться столом из драгоценного тетраклиниса на ножке в форме переплетенных дельфинов из слоновой кости, искусно украшенных золотом. Это был свадебный подарок Метелла Пия Свиненка.
То, что он оставлял дом, в котором прожил двадцать пять лет, было тоже очень важно. Он избавлялся от воспоминаний об ужасной старой Клитумне и ее еще более ужасном племяннике Стихе; в прошлом остались Никополис, Юлилла, Марция, Элия. И если от мыслей о сыне ему было не отделаться, он, по крайней мере, отдалялся от того, что когда-то видел и слышал его сын, от того, что теперь терзало его. Он больше не заглянет в опустевшую детскую, не встретит там призрак голенького, смеющегося малыша, который вдруг словно из-под земли вырастал перед ним. С Далматикой он все начнет сначала.
Риму повезло, что Сулла задержался в городе куда дольше, чем мог бы, не будь у него Далматики. Он лично проследил, как действуют leges Corneliae, и все время изыскивал способы пополнить казну. Он крутился, как мог, находил средства и исхитрился заплатить легионам (Помпей Страбон сдержал слово и запросил совсем немного) и даже выплатить часть долга Италийской Галлии. Он был доволен тем, что деловая жизнь в городе постепенно начинала налаживаться.
В марте, однако, Сулле всерьез пришлось задуматься о том, что с постельными утехами пора заканчивать. Метелл Пий был уже на юге вместе с Мамерком, Цинна и Корнут – в землях марсов, а Помпей Страбон вместе со своим сыном затевал что-то в Умбрии. Правда, без этого своего гениального писаки, Марка Туллия Цицерона.
Но оставалось еще кое-что, и Сулла посвятил этому день до отъезда, так как в этом случае закона принимать не требовалось. Нужно было лишь заручиться поддержкой цензоров. Однако те тянули время, ссылались на какие-то задержки, хотя в законе Пизона Фруги было четко указано: все новые граждане распределяются по восьми сельским и двум городским трибам, что никак не могло нарушить представительства триб во время выборов. Они прикрывались словами о том, что, возможно, вообще не имеют права выполнять свои обязанности из-за различных нарушений. Одним словом, были готовы оставить должность, как только запахнет жареным. Даже когда авгуры указали на необходимость провести скромную церемонию, они не стали этого делать.
– Принцепс сената, отцы, внесенные в списки! В сенате назревает кризис, – начал Сулла, который, по своему обыкновению, стоял рядом с креслом совершенно неподвижно, лишь вытянув вперед правую руку со свитком. – Здесь, в этом списке, имена тех сенаторов, которые никогда больше не посетят наше собрание. Они мертвы. Их около сотни. Конечно, большая часть из них заднескамеечники, сенаторы второго ранга, которые не заслужили особых отличий, не выступали и разбирались в законах не больше, чем полагается любому сенатору. Однако есть здесь и другие имена, они принадлежат тем, о чьем отсутствии мы горько жалеем, потому что они председательствовали в судах, были специальными и третейскими судьями, составляли законы, занимали должности магистратов. Замены им до сих пор нет. И я не вижу, чтобы кто-то пытался ее найти. Напомню вам их имена: цензор и принцепс сената Марк Эмилий Скавр, цензор и великий понтифик Гней Домиций Агенобарб, консуляр Секст Юлий Цезарь, консуляр Тит Дидий, консул Луций Порций Катон Лициниан, консул Публий Рутилий Луп, консуляр Авл Постумий Альбин, претор Квинт Сервилий Цепион, претор Луций Постумий, претор Гай Косконий, претор Квинт Сервилий, претор Публий Габиний, претор Марк Порций Катон Салониан, претор Авл Семпроний Азеллион, эдил Марк Клавдий Марцелл, народный трибун Квинт Варий Север Гибрид Сукрон, легат Публий Лициний Красс-младший, легат Марк Валерий Мессала.
Сулла удовлетворенно замолчал – его слушатели были потрясены.
– Да, я знаю, – мягко продолжил свою речь Сулла, – пока вам не прочли этот список, вы не до конца осознавали, как много великих, столь многообещавших людей покинуло нас. Семь консулов и семь преторов. Четырнадцать исключительно компетентных судей, которые отлично разбирались в законах и предписаниях, хранителей mos maiorum – обычаев наших предков. Есть и другие, их имена я не назвал. Это народные трибуны, которые не так прославились за то время, что занимали свою должность, но тем не менее были весьма опытны.
– О, Луций Корнелий, это трагедия! – срывающимся голосом сказал принцепс сената Флакк.
– Да, Луций Валерий, это так, – согласился Сулла. Многие имена не вошли в этот список, потому что эти люди хоть и не умерли, но отсутствуют в нашем собрании, так как отправились на заморскую службу или заняли посты в Италии, вне Рима. Даже сейчас, когда наступило время зимнего затишья и шум битв стих, на наших заседаниях я едва могу насчитать сотню человек, хотя никто из живущих в Риме не пренебрегает своими обязанностями в этот час нужды. Имеется также длинный список сенаторов, которые отправились в изгнание и вследствие деятельности комиссий Вария и Плавтия. И такие, как Публий Рутилий Руф. Потому, уважаемые цензоры, Публий Лициний и Луций Юлий, я прошу вас сделать все, что в ваших силах, чтобы заполнить наши скамьи. Дайте возможность состоятельным и честолюбивым людям занять места в сильно поредевших рядах римского сената. А также укажите, кто из заднескамеечников мог бы получить право голоса в нашем собрании и претендовать на более высокие должности. Слишком часто мы не набираем даже кворума. А как может римский сенат управлять государством без кворума?
«Так-то!» – подумал Сулла. Он сделал, что мог, для того, чтобы жизнь в Риме вошла наконец в привычное русло, к тому же при всех пнул под зад безвольную парочку. Теперь-то цензоры вспомнят о долге. Пришло время заканчивать войну с италиками.
Часть восьмая
Один аспект государственной жизни, который Сулла совершенно упустил, был не видим никому со времени смерти Марка Эмилия Скавра, оставившего глубокий след в сердцах римлян. Его приемник, Луций Валерий Флакк, сделал вялую попытку привлечь к этой проблеме внимание Суллы, но, не обладая волевым характером не довел дело до конца. Но и Суллу нельзя было осуждать за его недосмотр. Весь римский мир сосредоточил внимание на Италии, и те, кто непосредственно участвовал в этой заварухе, уже не обращали внимания ни на что другое.
Скавра особенно заботила судьба двух свергнутых царей, Никомеда из Вифинии и Ариобарзана из Каппадокии. Доблестный старый принцепс послал делегацию в Малую Азию расследовать ситуацию, касавшуюся царя Понта Митридата. Главой делегации был Маний Аквилий, высоко и заслуженно ценимый легат Гая Мария в битве при Аквах-Секстиевых. Он был соратником Мария во время его пятого консульства и успешно подавил восстание рабов на Сицилии. С Аквилием отправились еще два посланника, Тит Манлий Манцин и Гай Маллий Малтин, а также сами цари, Никомед и Ариобарзан. Обязанности посланников были ясно обозначены Скавром: вернуть власть обоим царям и пригрозить Митридату, чтобы не выходил за границы своего царства.
Маний Аквилий усиленно добивался расположения Скавра, дабы получить это назначение и возглавить посольство, поскольку находился в весьма затруднительном материальном положении из-за больших потерь, которые он понес в связи с разгоревшейся войной против италиков. Его наместничество на Сицилии десять лет назад не принесло ему ничего, кроме расследования его деятельности по возвращении. И хотя обвинения были сняты, репутация его довольно сильно пострадала. Золото, которое его отец получил от царя Митридата V за уступку большей части Фригии Понту, давно было потрачено, однако всеобщее осуждение деяния отца и его дурная слава пиявкой прицепились к сыну. Скавр, твердый приверженец традиции наследственной передачи должностей, понимающий к тому же, что отец мог обсуждать с сыном ситуацию в этой области, посчитал благоразумным поручить именно Манию Аквилию дело восстановления на престолах двух царей и даже позволить ему самому выбрать себе соратников.
В результате составилась делегация, нацеленная не на установление справедливости, а на удовлетворение своих корыстолюбивых интересов, думающая о наживе, а не о благоденствии чужеземных народов.
Еще до того, как началась подготовка к отъезду в Малую Азию, Маний Аквилий заключил сделку, весьма удачную, с семидесятилетним царем Никомедом – и сто золотых вифинских талантов как по волшебству появились в хранилище Аквилия. Не случись этой сделки, он мог столкнуться с запретом покидать Рим: в таком бедственном состоянии находились его денежные дела, а сенаторы не имели права выезжать за пределы Италии, не получив официального разрешения. Банкиры строго следили за такими отъездами и не спускали глаз со списков, вывешиваемых на ростре и в Регии.
Делегация предпочла морской путь Эгнациевой дороге и прибыла в Пергам в июне минувшего года. Там она была торжественно встречена наместником провинции Азия Гаем Кассием Лонгином.
В лице Гая Кассия Маний Аквилий обрел достойную пару. Они оказались ягодами одного поля алчности и бессовестности, и каждый с немалым удовольствием распознал в другом союзника. Вследствие чего в Пергаме тем жарким июнем, когда во время штурма Геркуланума был убит Тит Дидий, возник тайный сговор. Задача заговорщиков состояла в том, чтобы как можно выгоднее использовать сложившиеся обстоятельства и, в частности, добыть как можно больше золота на территориях, пограничных Понту, но не находящихся под римской властью, а именно в Пафлагонии и Фригии.
Письма сената Митридату, царю Понта, и Тиграну, царю Армении, с требованием вывести войска из Вифинии и Каппадокии были посланы с гонцами из Пергама. Не успели гонцы скрыться из виду, как Гай Кассий объявил особые учения вспомогательного легиона и набор отрядов ополчения по всей провинции Азия. Тогда же сопровождаемые небольшим отрядом солдат делегаты Аквилий, Манлий и Маллий выехали в Вифинию вместе с царем Никомедом, а царь Ариобарзан остался в Пергаме с наместником, которого держали здесь внезапно возникшие дела.
Рим по-прежнему внушал к себе уважение. Царь Сократ отрекся от престола и убыл в Понт. На его месте вновь воцарился Никомед. А царь Ариобарзан вскоре вернулся на престол Каппадокии. Три посланника Рима остались в Никомедии коротать время до конца лета и прорабатывать план по вторжению в Пафлагонию, узкую полоску земли, отделявшую Вифинию от Понта вдоль берегов Эвксинского моря. Храмы Пафлагонии были богаты золотом, которого, как обнаружили разочарованные посланники, у Никомеда не водилось вовсе. Когда за год до этого старик бежал в Рим, он забрал большую часть содержимого своей царской казны. И все эти богатства осели в хранилищах многих знатных римлян, начиная от Марка Эмилия Скавра, который позволял себе принимать небольшие дары, но дальше этого не заходил, до Мания Аквилия, пройдя на своем пути через многие алчные руки.
Когда выяснилось, что казна Никомеда пуста, среди римских посланников возник раздор. Манлий и Маллий чувствовали, что их просто надули, Аквилий же понял, что должен срочно что-то предпринять и раздобыть золота для своих соратников, не трогая свой денежный резерв в Риме, его сбережения на черный день. Конечно, пострадавшей стороной в этой истории оказался Никомед. Три римских аристократа изводили его требованием введения войска в Пафлагонию и угрожали тем, что скинут его с престола в случае неповиновения. Депеши из Пергама от Гая Кассия оказывали существенную поддержку римским посланникам, в результате чего Никомед сдался и мобилизовал свою небольшую, но хорошо экипированную армию.
В конце сентября римские посланники и старый царь Никомед двинулись в Пафлагонию. Командовал армией Аквилий. Царь же, по сути, играл роль вынужденного походного гостя. Горя желанием как следует насолить царю Митридату, Аквилий заставил Никомеда отдать приказ кораблям и морским гарнизонам Вифинии занять Боспор Фракийский и Геллеспонт – ни одно понтийское судно не должно было пройти из Понта Эвксинского в Эгейское море. Смысл их действий был прост: «Бросай вызов Риму, если отважишься, царь Митридат!»
Все обернулось именно так, как и планировал Маний Аквилий. Армия вифинцев прошла по побережью Пафлагонии, захватывая города, грабя храмы – груда золота и драгоценностей росла. Крупный порт Амастрия капитулировал, и Пилемен, правитель внутренней Пафлагонии, воссоединился с римскими захватчиками. Здесь, в Амастрии, трое посланников – полномочных представителей Рима – решили, что пора им возвращаться в Пергам. А бедного старого царя и его армию они оставили зимовать там, между Амастрией и Синопой, в опасной близости от понтийских границ.
Стоял ноябрь, когда в Пергам прибыло посольство от царя Митридата, который до сей поры ничего не предпринимал и хранил молчание. Возглавлял посольство некий Пелопид, двоюродный брат царя.
– Мой брат, царь Митридат, покорно просит проконсула Мания Аквилия приказать царю Никомеду незамедлительно вернуться со своим войском назад, в Вифинию, – сказал Пелопид. На нем были одежды греческого чиновника, и прибыл он в Пергам без вооруженного эскорта.
– Это невозможно, Пелопид, – ответил Маний Аквилий, сидящий в своем курульном кресле с жезлом из слоновой кости в руках. За его спиной стояла дюжина ликторов в темно-красных одеждах и с фасциями.
– Вифиния – независимое государство. Оно, конечно, друг и союзник римского народа, но решает свою судьбу самостоятельно. Я не могу приказывать царю Никомеду.
– В таком случае, проконсул, мой брат, царь Митридат, покорно просит позволить ему защитить себя и свое государство от бесчинств Вифинии, – сказал Пелопид.
– Ни царь Никомед, ни армия Вифинии не находятся на понтийской территории, – возразил Маний Аквилий. – Посему я предупреждаю твоего брата, царя Митридата, чтобы он даже пальцем не смел тронуть Никомеда и его войско. Ни при каких обстоятельствах – передай это своему царю, Пелопид, – ни при каких!
Пелопид вздохнул, пожал плечами и, разведя руками – совсем не римский жест, – сказал:
– Раз так, проконсул, я должен передать тебе то, что поручил мне сказать царь Митридат в этом случае: «Даже тот, кто знает, что обречен на поражение, наносит ответный удар!»
– Если царь, твой брат, нанесет ответный удар, он em>действительно потерпит поражение, – сказал Аквилий и дал знак ликторам проводить Пелопида.
После того как понтийский дипломат удалился, в зале воцарилась тишина. Нарушил ее Гай Кассий, который хмуро произнес:
– Один из людей, сопровождающих Пелопида, сообщил мне, что Митридат намерен отправить жалобу в Рим.
В ответ на это Аквилий вскинул брови.
– Что это ему даст? – спросил он. – Его никто не станет слушать. Риму сейчас не до этого.
Но здесь, в Пергаме, им пришлось выслушать послание Митридата снова, когда месяцем позже Пелопид вернулся.
– Мой брат, царь Митридат, прислал меня повторить прошение о том, чтобы ему было дозволено защитить свою страну, – сказал Пелопид.
– Его стране ничто не угрожает, Пелопид. И поэтому мой ответ остается прежним: нет, – ответил Маний Аквилий.
– Тогда царю, моему брату, ничего не остается, как действовать через твою голову, проконсул. Он подаст сенату и народу Рима официальную жалобу на римских посланников в Малой Азии, которые поддерживают Вифинию в ее агрессивных действиях и одновременно отказывают Понту в его праве дать отпор агрессору, – сказал Пелопид.
– Твоему досточтимому брату лучше этого не делать, ты слышишь? – злобно огрызнулся Аквилий. – Для Понта и всей Малой Азии Я сенат и народ Рима! А теперь уходи отсюда и больше не возвращайся!
Пелопид задержался в Пергаме еще на некоторое время, чтобы разузнать все, что возможно, о таинственных передвижениях войск и о том, что задумал Гай Кассий. Он еще не уехал, когда пришла весть, что царь Понта Митридат и царь Армении Тигран вторглись в пределы Каппадокии и что сын Митридата Ариарат – никто не знал, какой именно Ариарат, ибо у царя было несколько сыновей с таким именем, – намерен узурпировать каппадокийский трон. Маний Аквилий немедленно послал за Пелопидом и велел ему передать Митридату и Тиграну требование вывести войско из Каппадокии.
– Они сделают, что им велено, поскольку до смерти боятся римский расправы, – самодовольно сказал Аквилий Кассию и поежился: – Как холодно у тебя, Гай Кассий! Ты не думаешь, что запасы провинции должны позволять разжечь один-два очага во дворце?
К февралю уверенность Аквилия и Кассия друг в друге выросла настолько, что они замыслили еще более дерзкий план. Почему нужно останавливаться у понтийских границ? Почему бы не преподать царю Митридату столь необходимый ему урок, вторгнувшись в его страну? Легион провинции Азия находился в отличной форме, то же можно было сказать и об отрядах ополчения, которые стояли лагерями между Смирной и Пергамом. И Гай Кассий выдвинул еще одну блестящую идею.
– Мы можем добавить два легиона к нашим силам, если возьмем в оборот Квинта Оппия из Киликии, – сказал он Манию Аквилию. – Я пошлю в Тарс и велю Квинту Оппию приехать в Пергам для переговоров о судьбе Каппадокии. Оппий – только пропретор, а я – проконсул. Он должен мне подчиниться. Я скажу ему, что мы планируем сдерживать Митридата, кусая его сзади. Мы будем нападать на его тылы. Это лучше, чем вторгаться в Каппадокию.
– Говорят, – мечтательно произнес Аквилий, – что в Армении Парве больше семидесяти крепостей, снизу доверху набитых золотом Митридата.
Но Кассий был человеком из военной семьи, любящим войну, – и сбить его с военной мысли было нелегко.
– Мы вторгнемся в Понт в четырех разных местах по течению реки Галис, – с горячностью продолжал он. – Армия Вифинии справится с Синопой и Амисом на побережье Понта Эвксинского, затем продвинется вглубь страны вдоль Галиса. Это обеспечит их фуражом, там его будет в изобилии, и это очень важно, так как у них большая конница и много вьючных животных. Ты, Аквилий, возьмешь один мой легион наемников и нанесешь удар у Галиса в Галатии. Я же поведу отряды ополчения вверх по реке Меандр во Фригию. Квинт Оппий может высадиться в Атталии и пройти через Писидию. Оппий и я выйдем к Галису так, чтобы оказаться между тобой и вифинцами. Когда на пути Митридата встанут четыре армии, он придет в отчаяние и не будет знать, что ему делать. Он ничтожный царек, дорогой мой Маний Аквилий! Золота больше, чем солдат.
– Он обречен, – отозвался Аквилий, улыбаясь, все еще думая о семидесяти крепостях, набитых золотом.
Кассий нарочито откашлялся.
– Есть кое-что, о чем нам надо подумать, – сказал он совсем другим тоном.
Маний Аквилий насторожился.
– Да? О чем?
– Квинт Оппий – из старой команды: «Да будет Рим!», «Честь превыше всего». И думать забудь о том, чтобы заработать на стороне, добыть немного денег пусть даже слегка неприглядным способом. Мы ничего не должны делать и говорить, что могло бы поколебать его уверенность в том, что цель нашего мероприятия – установление справедливости в Каппадокии. Ничего больше. Да воцарится справедливость!
Аквилий хмыкнул:
– Тем паче мы должны действовать!
– И я так думаю, – довольным голосом ответил Гай Кассий.
Пелопид старался не обращать внимания на пот, катившийся по лбу и уже подобравшийся к глазам, и держать руки в таком положении, чтобы дрожь не была видна человеку на троне.
– И тогда, великий царь, проконсул Аквилий прогнал меня, – сказал он в заключение.
Царь и бровью не повел. Выражение царского лица не менялось на протяжении всей аудиенции, оно оставалось бесстрастным, невозмутимым, равнодушным.
В свои сорок лет, удерживая престол вот уже двадцать три года, царь Митридат VI, прозванный Евпатором, научился скрывать все свои чувства, за исключением крайнего негодования. Нельзя сказать, что новость, которую принес Пелопид, не разгневала царя – просто эта новость не была неожиданной.
Вот уже два года, как он жил в атмосфере все крепнущей надежды. Надежды, родившейся в тот день, когда он узнал, что Рим вступил в войну со своими италийскими союзниками. Инстинкт подсказывал, что пришел его час, – он даже не побоялся написать Тиграну, предупредив своего зятя, чтобы тот был наготове. Когда пришло известие, что Тигран поддержит его в любых замыслах, Митридат решил, что теперь непременно должен изнурить Рим в этой войне. И тогда он отправил послов к италикам Квинту Поппедию Силону и Гаю Папию Мутилу в новую столицу италиков, предложив им деньги, оружие, корабли и даже войско – приумножить их собственное. Но к его изумлению, послы вернулись ни с чем. Силон и Мутил с негодованием и презрением отвергли предложение Понта.
– Передай царю Митридату, что раздор Италии с Римом не его дело! Италия не станет помогать никому из чужеземных правителей против Рима, – был их ответ.
Словно уколотая улитка, понтийский царь затаился, послав Тиграну Армянскому приказ ждать, поскольку время еще не пришло. Придет ли оно вообще когда-нибудь, спрашивал он себя, если даже Италия, отчаянно нуждающаяся в помощи, дабы выиграть битву за свою свободу, свою независимость, могла так по-варварски укусить руку, дружески протянутую Понтийским царством и сыплющую воинскими щедротами.
Теперь он колебался, опасаясь принять решение: как бы не пришлось потом отклониться от него. Моментами он был убежден, что пришло время открыто объявить войну Риму, но в следующую минуту уверенность покидала его. Снедаемый сомнениями, он никому не выдавал своих чувств. Понтийский царь не мог иметь доверенных лиц и чрезвычайных советников, он не доверял даже своему зятю, который и сам был выдающимся царем. Двор Митридата пребывал в апатии, никто не мог сказать с уверенностью, что мучит царя, каким будет его следующий шаг, рассчитывать ли им на войну. Никто не хотел войны, и все приветствовали бы ее.
Поставивший себя в тупик своими заигрываниями с италиками, Митридат задумался о Македонии, где Римской провинции приходилось удерживать неспокойную границу в тысячу миль длиной с землями варваров на севере. Заварить вдоль границы кашу – и это поглотит все внимание Рима. И вот понтийские агенты были посланы оросить семена неизменной ненависти к Риму промеж бессов и скордисков, а также других племен Мёзии и Фракии. В результате Македонии пришлось испытать злейший натиск варваров – вторжения и набеги, каких они не помнили долгие годы. Охваченные жаждой разрушения, скордиски сумели добраться до Додоны в Эпире. Однако боги благословили Римскую Македонию превосходным и неподкупным наместником в лице Гая Сентия, позиции которого укреплял легат Квинт Бруттий Сура, истинный образец римских добродетелей.
Поскольку попытки варварской смутой подтолкнуть Сентия и Бруттия Суру обратиться в Рим за помощью не увенчались успехом, Митридат переключил свое внимание на саму провинцию, начав чинить беспокойства там.
Вскоре после того, как царь остановился на определенной тактике, в Македонии появился некий Эвфен, провозгласивший себя прямым потомком Александра Великого – на которого он действительно был поразительно похож, – и заявил права на давно несуществующий престол Македонии. Жители искушенных городов, таких как Салоники и Пелла, раскусили Эвфена сразу, но захолустный люд пламенно его поддержал. К несчастью для Митридата, Эвфену не хватило ни боевого духа, ни таланта сформировать из своих приверженцев армию. Сентий и Бруттий Сура справились с ним имевшимися в их распоряжении силами и не стали срочно требовать у Рима денег и дополнительного военного контингента – цель всей понтийской комбинации.
И вот теперь – спустя два года с того времени, как разразилась война между Римом и его италийскими союзниками, – Митридат прекратил всяческие попытки реализовать свои амбициозные планы. Царя не покидало смятение. Он раздумывал, медлил, отравляя нерешительностью и свою жизнь, и жизнь своего двора, держа на расстоянии Тиграна, более воинственного, чем он, хотя и не столь умного. Митридат колебался. Но довериться никому царь не мог.
Внезапно царь шевельнулся на троне – и все царедворцы в зале вздрогнули.
– Что еще удалось тебе выяснить во время твоего второго, очень длительного, пребывания в Пергаме? – спросил он Пелопида.
– Я узнал, что Гай Кассий привел свой легион в боевую готовность, а также проводит учения двух легионов ополченцев и экипирует их, великий царь!
Пелопид облизал пересохшие губы и продолжил, стремясь показать, что, хотя его миссия и провалилась, он остается безгранично преданным царю.
– У меня теперь есть свой человек среди дворцовых людей в Пергаме, великий царь. Перед самым моим отъездом он сказал мне, что, по его мнению, Гай Кассий и Маний Аквилий намереваются вторгнуться в Понт этой весной. Вместе с царем Вифинии Никомедом и его союзником царем Пафлагонии Пилеменом. А также – и это похоже на правду – с ними будет наместник Киликии Квинт Оппий, который прибыл в Пергам на переговоры с Гаем Кассием.
– Был ли этот план поддержан сенатом и народом Рима? – спросил царь.
– Во дворце ходят слухи, что нет, великий царь!
– От Мания Аквилия этого можно было ожидать. Если от плохого семени не ждать доброго племени, то этот щенок ничем не отличается от собаки времен моего отца. Жаждет золота. Моего золота.
Его налитые губы растянулись, обнажив крупные желтые зубы.
– Похоже, наместник римской провинции Азия разделяет его интересы. И наместник Киликии тоже. Жаждущий золота триумвират.
– Что касается Квинта Оппия, он, кажется, не из их компании, поскольку не корыстолюбив, всемогущий царь, – заметил Пелопид. – Они уверяют его, будто эта кампания – ответная мера, направленная против нашего присутствия в Каппадокии, и очень озабочены, чтобы он думал именно так. Я полагаю, Квинт Оппий – один из тех, кого римляне называют человеком чести.
Царь погрузился в молчание. Его губы задвигались беззвучно, как у рыбы. Взгляд был устремлен куда-то в пространство. «Одно дело – нападать, совсем другое – защищаться, – думал Митридат. – Меня вынуждают прижаться спиной к моим границам – я должен бросить оружие и позволить этим так называемым властителям мира изнасиловать мою страну. Страну, которая приютила меня, малолетку-изгнанника, страну, которую я люблю больше, чем саму жизнь. Страну, которую я бы хотел видеть властительницей мира».
– Они не сделают этого! – громко и категорично произнес он.
Приближенные подняли головы. Но царь больше ничего не сказал. Только губы его продолжали двигаться – втягивались и вытягивались, втягивались и вытягивались.
«Час настал, – подумал Митридат. – Мой двор выслушал новости из Пергама. И теперь они вынесут приговор. Не римлянам. Мне. Если я сдамся, покорно прижмусь к земле и дам этим алчным римским посланникам болтать, что они сенат и народ Рима, и буравить мои границы, то мои люди начнут презирать меня. Они перестанут меня бояться. И тогда кто-нибудь из моих кровных родственников сочтет, что пора меня сменить. Взрослых сыновей у меня много, и у каждого есть мать, жаждущая дорваться до власти. И не стоит забывать о моих двоюродных братьях царской крови: Пелопиде, Архелае, Неоптолеме, Леониппе. Если я лягу под римские мечи, поджав хвост, как жалкая шавка, кем меня римляне и считают, то не быть мне более царем Понта. Мне и в живых тогда не быть. Значит, пришло время воевать с Римом. Я этого не хотел, и, вероятно, они тоже. Это сделали три алчных посланника. Итак, я начинаю войну с Римом!»
И тут, как только он принял решение, Митридат почувствовал огромное облегчение. Будто тяжкая ноша внезапно упала с его плеч и рассеялись бродившие в душе тучи. Он, казалось, вдруг увеличился в размерах, его выпученные глаза засверкали – Митридат восседал на троне, словно гигантская золотая жаба. Понт начинает войну. Понт накажет Мания Аквилия и Гая Кассия в назидание другим. Понт захватит римскую провинцию Азия. Понт пересечет Геллеспонт, откроет себе путь в Восточную Македонию – и войдет туда. Понт пойдет по Эгнациевой дороге на запад. Понт пройдет морским путем из Эвксинского в Эгейское море и будет расширять свои владения, пока сам Рим и вся Италия не согнутся перед понтийскими воинами и понтийскими кораблями. Царь Понта станет царем Рима. Царь Понта будет самым великим правителем в истории мира, он превзойдет даже Александра Великого. Его сыновья будут править в таких отдаленных землях, как Испания и Мавретания. Его дочери станут царицами повсюду от Армении до Нумидии и далекой Галлии. Все богатства мира будут принадлежать его властелину, все красавицы мира, все земли! Тут он вспомнил своего зятя Тиграна и улыбнулся. Можно позволить Тиграну владеть Парфянским царством – и пусть идет дальше на восток, хоть до самой Индии и всех тех неизведанных стран, что лежат за ней.
Но вслух царь не объявил, что начинает войну с Римом. Он лишь сказал:
– Пошлите за Аристионом.
Во дворце сгустилось напряжение. Никто не знал, что именно происходило с грозным властителем, восседавшим на усыпанном драгоценными каменьям троне. Но что-то происходило.
И вот в зал для аудиенций вошел высокий, необыкновенно красивый грек, одетый в тунику и поверх нее хламиду. Абсолютно непринужденно, безо всякого смущения он пал в ноги царю.
– Встань, Аристион. Есть работа для тебя.
Грек поднялся и застыл в благоговейном полупоклоне. Эту позу он долго репетировал перед зеркалом, которое царь Митридат весьма предусмотрительно распорядился поместить в роскошных покоях грека. Аристион не мог на себя нарадоваться: ведь ему удается балансировать между низкопоклонством, которое только вызвало бы у царя презрение, и независимостью в поведении, которая неизбежно навлекла бы царский гнев. Уже почти год он пребывал при понтийском дворе в Синопе. Путь из родных Афин был долог. Но он был перипатетиком, странствующим философом школы, основанной последователями Аристотеля, и понял, что навар пожирнее нужно искать не в Греции, Риме или Александрии, а в землях, не столь богатых такими талантами, как он. Ему повезло, он обнаружил, что царь Понта нуждается в его услугах: царь сознавал, что недостаток образования – его слабое место, он испытывал от этого неловкость еще со времени своего визита в провинцию Азия десять лет назад.
Осторожный, Аристион повел обучение в форме бесед, ублажая слух царя историями о закатившемся могуществе Греции и Македонии, о непрошеной и ненавистной власти Рима, об условиях предпринимательства и методах торговли, говорил о географии и истории мира. В конце концов Аристион стал считать себя царским судьей во всех вопросах философии и вкуса, а совсем не педагогом.
– Мысль о том, что я могу быть тебе полезен, переполняет меня восторгом, могущественный Митридат, – сладким голосом сказал Аристион.
Тогда царь перешел к следующему этапу, решив продемонстрировать, что все эти годы, когда его подданные, возможно, полагали, что он боялся воевать с Римом, он в действительности думал о том, как именно он начнет эту войну.
– Ты достаточно родовит, чтобы иметь политический вес в Афинах? – неожиданно спросил царь.
Аристион не выдал удивления. Он выглядел просто обворожительно.
– Да, мой властелин! – соврал он.
В действительности он был сыном раба, но все это давняя история. Никто этого не помнил, даже в Афинах. Внешний вид значил все. А его внешность была впечатляюще аристократична.
– Тогда я приказываю тебе немедленно вернуться в Афины и начать вербовать сторонников, – сказал царь. – Мне нужен надежный человек в Греции, способный посеять смуту и восстановить греков против Рима. Как ты будешь это делать, мне все равно. Но когда войско Понта вторгнется в земли по обеим сторонам Эгейского моря, я хочу, чтобы Афины – и вся Греция! – были в моих руках.
Все, кто был в зале, затаили дыхание. По рядам присутствующих пробежал шепот, а следом – дрожь возбуждения. Боевое воодушевление охватило всех: все-таки царь не намерен оказаться под римской пятой!
– Мы с тобой, мой царь! – воскликнул Архелай, сияя от счастья.
– Твои сыновья благодарят тебя, великий царь! – крикнул Фарнак, старший сын.
Митридат купался в лучах славы, раздуваясь от сознания собственного величия. Почему он раньше не видел, в какой опасной близости он был от восстания, как близко подошел к опасной грани? Эти его подданные и кровные родственники жаждали войны с Римом! И он готов к ней. Он давно готов.
– Мы не выступим, пока римские посланники и наместники в провинции Азия и Киликии не нарушат наших границ, – сказал он. – Как только это произойдет, мы нанесем ответный удар и начнем сводить счеты. Я хочу, чтобы корабли были вооружены и укомплектованы, сухопутные войска готовы к действию. Если римляне думают захватить Понт, то я думаю захватить Вифинию и всю провинцию Азия. Каппадокия уже моя и останется моей. У меня достаточно войск, чтобы не брать с собой моего сына Ариарата с его войском.
Его зеленые, слегка навыкате глаза остановились на Аристионе.
– А чего ты ждешь, философ? Отправляйся в Афины. Возьми золота из моей сокровищницы – оно поможет в твоем деле. Но будь осторожен! Никто не должен знать, что ты мой ставленник.
– Я понимаю, о великий царь! Я это понимаю! – воскликнул Аристион и попятился к выходу.
– Фарнак, Махар, Митридат-младший, Ариарат-младший, Архелай, Пелопид, Неоптолем, Леонипп, останьтесь, – отрывисто проговорил царь. – Остальные могут идти.
В апреле того же года – когда консулами были Луций Корнелий Сулла и Квинт Помпей Руф – начался поход римлян на Галатию и Понт. Пока Никомед лил слезы и заламывал руки в мольбе позволить ему вернуться в Вифинию, правитель Пафлагонии Пилемен дал приказ войску Никомеда начать наступление на Синопу. Маний Аквилий выступил во главе легиона ауксилариев из провинции Азия – и прошел из Пергама сухопутным путем через Фригию, намереваясь прорвать границу Понта к северу от соляного озера Татта. Здесь проходил торговый путь, и таким образом Аквилий мог продвигаться достаточно быстро. Гай Кассий забрал свои два легиона ополченцев, стоящих на подходе к Смирне, и провел их вверх по долине реки Меандр во Фригию, путем, что вел к маленькому торговому поселению Примнес. В то же время Квинт Оппий прошел морским путем из Тарса в Атталию, а оттуда направился с двумя своими легионами в Писидию дорогой, что привела его прямо к западному берегу озера Лимны.
В самом начале мая войско Вифинии вышло к Понту, дойдя до Амниаса, притока Галиса, текущего вглубь страны, огибая Синопу. Стратегия Пилемена состояла в том, чтобы пройти от места слияния Амниаса и Галиса на север, к морю, где он намеревался разделить свои силы, чтобы атаковать Синопу и Амис одновременно. Но на свою беду, еще не добравшись до широкой долины Галиса, вифинская армия встретилась с необъятной армией Понта под предводительством братьев Архелая и Неоптолема, стоявшей на Амниасе, и потерпела сокрушительное поражение. Все снаряжение, животные, солдаты, оружие – все было потеряно. Уцелел только царь Никомед. Он быстро собрал отряд из невольников и высших придворных чинов, которым мог доверять, и, бросив армию на произвол судьбы, поворотил свой непогрешимый нос в сторону Рима.
Примерно в то же самое время, когда вифинское войско встретилось с братьями Архелаем и Неоптолемом, Маний Аквилий со своим легионом перешел через перевал, и перед ним открылся вид на озеро Татта, лежащее в отдалении, к югу. Но этот вид теперь не мог пленить Аквилия. Внизу, перед собой, на просторе равнины, он увидел армию, безбрежнее самого озера. Воинское вооружение сверкало, порядок построения говорил опытному римскому глазу о превосходной дисциплине и надежности. Это были не варварские орды германцев! Перед ним стояло стотысячное понтийское войско, пехота и конница, ждущее, когда он попадет к ним в пасть. С быстротой молнии, какую мог оценить только римский командующий, Аквилий развернул свое жалкое маленькое войско и бросился бежать. У реки Сангарий, недалеко от Пессинунта – здесь было золото, которого он так страстно желал! – понтийская армия настигла его, ударила в тыл и стала уничтожать, пока не поглотила все войско целиком. Как и Никомед, Аквилий бросил армию на растерзание и бежал со своими старшими чинами и двумя посланниками через Мизийские горы.
Гая Кассия взял на себя сам Митридат, но его подвела неуверенность. Он начал сомневаться, как поступить, – Гай успел получить известие о поражениях вифинцев и Аквилия еще до того, как Митридат добрался до него. В результате наместник провинции Азия со своей армией отступил на юго-восток, двигаясь к Апамее, большому городу, стоящему на пересечении торговых путей, где он и «окопался», укрывшись за толстыми крепостными стенами города. В свою очередь, на юго-западе от армии Кассия, Квинт Оппий также узнал новость о поражении и предпочел встать в Лаодикии, как раз на пути Митридата, продвигавшегося вниз по течению Меандра.
Вследствие этого понтийская армия под личным командованием царя столкнулась с Квинтом Оппием, прежде чем добралась до Кассия. Квинт Оппий намеревался оборонять город, но вскоре обнаружил, что сами лаодикийцы придерживаются другого мнения. Горожане открыли ворота царю Понта, усыпая его дорогу лепестками цветов, и в качестве ценного подарка преподнесли ему Квинта Оппия. Киликийским воинам было велено отправляться туда, откуда пришли, но самого наместника царь задержал – его привязали к столбу на агоре в Лаодикии. Громко хохоча, царь призвал население забросать Квинта Оппия грязью, тухлыми яйцами, гнилыми овощами – любой зловонной мякотью. Но не камнями и деревянными предметами. Царь помнил слова Пелопида, что Квинт Оппий был честным человеком. Спустя два дня Оппий, более-менее невредимый, был отпущен и отослан назад в Тарс в сопровождении понтийского конвоя. Пешком. Идти пришлось долго: далековато для пешей прогулки.
Когда Гай Кассий узнал о судьбе Квинта Оппия, он бросил свои вооруженные отряды в Апамее и бежал на худой кобыле в сторону Милета. Он передвигался в полном одиночестве. Река Меандр разделяла его и Митридата. Он сумел не попасться в понтийские сети, раскинутые вокруг Лаодикии, однако был узнан в городе Низе, где его задержали и доставили к этнарху, некому Херемону. Страх, охвативший его, сменился радостью. Оказалось, что Херемон – пылкий сторонник Рима и потому готов помочь всем, чем может. Сетуя на то, что не смеет задерживаться, Кассий набросился на еду, затем вскочил на свежую лошадь – и поскакал галопом к Милету. Там он нашел быстроходное судно и приказал отвезти его на Родос. Он благополучно добрался до Родоса, но здесь перед ним встала задача неимоверной трудности, а именно составить донесение сенату и народу Рима, которое бы убедило их в серьезности ситуации в Азии, не высветив при этом его собственное неблаговидное поведение. Вполне естественно, что такой геркулесов труд невозможно было проделать за день и даже за месяц. В ужасе от того, что может выдать свою вину, Гай Кассий Лонгин медлил.
К концу июня Вифиния и вся провинция Азия пали перед Митридатом, за исключением нескольких разрозненных лихих поселений, которые твердо полагались на неприступность своих крепостей и могущество Рима. Четверть миллиона солдат Понта осели на богатых зеленых скотоводческих землях на территории от Никомедии до Миласы. Поскольку в большинстве своем они были северными варварами – киммерийцы, сарматы, скифы, роксоланы, – только здравый страх перед Митридатом останавливал их буйство.
Ионийские, эолийские и дорийские греческие города, морские порты провинции Азия выказали восточному повелителю всю раболепную покорность, какую требовала его натура. Ненависть к Риму, вызванная сорокалетним владычеством, явилась колоссальным ресурсом для царя Митридата, который поспособствовал антиримским настроениям, объявив, что никакие налоги, оброки, пошлины не будут взиматься ни в этом году, ни в последующие пять лет. Те, кто задолжал римским или италийским кредиторам, освобождались от долгов. В результате жители провинции Азия возомнили, что жизнь под понтийской пятой лучше, чем под римской.
Далее, выйдя к Меандру, царь направился вдоль побережья на север, к одному из своих любимых городов, Эфесу. Здесь он временно расположился и вершил правосудие, продолжая заигрывать с местным населением. Он объявил, что вооруженные отряды, которые добровольно сдадутся ему, будут не только прощены и отпущены на свободу, но и снабжены деньгами для возвращения домой. Те, кто особенно ненавидел Рим – или, по крайней мере, явно это демонстрировал, – были повышены в чинах на всех территориях, во всех городах и населенных пунктах. Списки тех, кто сочувствовал Риму или находился у римлян в найме, быстро росли. Доносчики богатели.
Однако за всем этим ликованием и льстивым поклонением многие скрывали страх, ибо им были хорошо известны жестокость и своенравие восточных царей и то, насколько обманчивой была эта доброта. Любой взысканный милостями рисковал в один миг лишиться головы. И никто не мог предугадать, когда покачнется чаша весов.
В конце июня в Эфесе царь Понта издал три указа. Все три были секретны, но особенно третий.
Какое наслаждение доставляло ему составление этих указов! Кто куда должен идти, кто что должен делать, – о, в каком веселом танце завертятся его куклы! Пусть другие, низшие существа, шлифуют детали – он автор грандиозного плана, великого замысла, ему должна принадлежать слава истинного вдохновителя и выдающегося ума! Напевая и насвистывая, он торопливо ходил по дворцу, заставляя несколько сотен писцов корпеть над его тремя указами, писать, запечатывать. Эта огромная работа была проделана в один день. И когда был запечатан последний пакет для последнего посыльного, Митридат загнал писцов во внутренний двор и велел своей личной охране перерезать всем им горло. Никто не хранит секреты лучше мертвецов!
Первый указ был послан Архелаю, который в данный момент не пользовался расположением Митридата. Архелай попытался захватить город Магнесия-у-Сипила, проведя лобовую атаку, – понес основательное поражение и сам был ранен. Однако Архелай оставался его лучшим полководцем – и потому первый указ был адресован ему. Один пакет. В нем был приказ принять на себя командование всем понтийским флотом и пройти из Понта Эвксинского в Эгейское море в конце гамелиона, то есть через месяц.
Гамелион соответствовал римскому квинтилию.
Второй указ предназначался сыну царя Ариарату-младшему (другому Ариарату, не тому, что ныне царствовал в Каппадокии). Ему повелевалось вести стотысячное понтийское войско через Геллеспонт в восточную Македонию в конце гамелиона, то есть через месяц.
Третий указ был написан в нескольких сотнях экземпляров и послан в каждый город, деревню или поселение от Никомедии в Вифинии до Книда в Карии и до Апамеи во Фригии. Пакеты были адресованы главным магистратам. Этот указ требовал, чтобы каждый римский, латинский и италийский гражданин в Малой Азии, будь то мужчина, женщина или ребенок, был предан смерти – все, вместе с их рабами, – в конце гамелиона, то есть через месяц.
Третий указ был его любимым детищем, его гордостью. Царь поздравлял себя, радостно усмехался и даже изредка подскакивал, разгуливая по Эфесу. Улыбка до ушей не сходила с его лица. Когда закончится гамелион, закончится и римское присутствие в Малой Азии. Он покончит с Римом и римлянами – все они до единого, от Геркулесовых столпов до первой отмели на Ниле, будут мертвы. Рима больше не будет.
В начале гамелиона, храня свои секреты, царь Понта покинул Эфес и отправился на север, в Пергам, где ему был приготовлен особый подарок.
Два римских уполномоченных и все чиновники Мания Аквилия предпочли бежать в Пергам, но сам Маний Аквилий направился в Митилену на острове Лесбос, намереваясь сесть там на корабль, идущий на Родос, где, как говорилось в полученном им донесении, затаился Гай Кассий. Но стоило Аквилию высадиться на Лесбосе, его свалил брюшной тиф, и двигаться дальше он не мог. Когда жители острова прознали о падении провинции Азия – частью которой они формально являлись, – они предусмотрительно погрузили римского проконсула на корабль и в качестве жеста доброй воли отправили его царю Митридату.
В маленьком порту Атарнея, напротив Митилены, Маний Аквилий был привязан цепью к луке седла огромного всадника-бастарна и доставлен в Пергам, где царь Митридат уже с нетерпением поджидал свой подарок. Всю дорогу спотыкаясь и падая, подвергаясь глумлениям и издевательствам, освистанный и униженный, забросанный грязью, к концу путешествия Аквилий был еле жив. Осмотрев его в Пергаме, Митридат понял, что, если так пойдет дальше, Аквилий долго не протянет. И это испортит отличную затею: он кое-что придумал специально для Мания Аквилия!
Так что римский проконсул был связан и посажен на осла затылком вперед, лицом к ослиному заду и в таком виде безжалостно провезен по Пергаму и его окрестностям, дабы показать жителям этой бывшей римской столицы, какие чувства царь Понта питает к римскому проконсулу и насколько мало он боится возмездия.
В конце концов, спекшийся в грязи и превратившийся в свою тень, Маний Аквилий был поставлен перед своим мучителем. Торжественно восседая на золотом троне, воздвигнутом на роскошном помосте посредине агоры, царь пристально смотрел сверху вниз на человека, который отказался отозвать вифинскую армию, не разрешил Митридату защитить свое царство, не позволил обратиться с жалобой непосредственно к сенату и народу Рима.
В тот самый момент, когда царь Понта смотрел на согбенную и зловонную фигуру Мания Аквилия, испарились остатки его страха перед Римом. Чего он боялся? Почему шел на попятный перед этим нелепым человеком, очевидным слабаком, размазней? Он, Митридат Понтийский, был намного могущественнее Рима! Подумаешь, четыре маленькие армии, меньше двадцати тысяч человек. Именно Маний Аквилий олицетворял Рим – не Гай Марий и не Луций Корнелий Сулла. Представление царя о Риме было мифом, укрепившимся благодаря двум нетипичными римлянам! Истинный Рим стоял сейчас здесь, у его ног.
– Проконсул! – резко выкрикнул царь.
Аквилий поднял глаза, но сил говорить у него не было.
– Проконсул Рима, я решил дать тебе золото, которого ты так домогался.
Стражники втащили Мания Аквилия на помост и силой усадили его на низкую табуретку, поставленную на некотором расстоянии от края помоста, слева от царя. Руки его от плеч до кистей были крепко привязаны к телу широкими ремнями: один стражник ухватил ремень с правой стороны, а другой – с левой, лишив его возможности двигаться.
Вслед за этим появился кузнец, который нес закрепленный в двух лапах-держалках раскаленный докрасна горшок, емкостью в несколько чаш расплавленного металла. Горшок испускал дым и едкий запах.
Третий стражник встал за спиной Аквилия, ухватил его пятерней за волосы и потянул голову назад, затем двумя пальцами другой руки конвоир зажал ему нос, безжалостно сдавив ноздри. Инстинктивно Маний Аквилий открыл рот и тяжело задышал. Тут же густой поток жидкого золота устремился из ковша в его жаждущее воздуха горло – золото текло и текло, а он дергался на табуретке, тщетно пытаясь вырваться, потом затрясся в конвульсиях и затих. Его рот, подбородок и грудь являли собой застывший золотой каскад.
– Взрежьте его и верните все до последней крупицы, – велел царь. Не отрывая глаз, он смотрел, как золото тщательно соскабливают с тела Мания Аквилия, снаружи и изнутри.
– Бросьте его труп собакам, – сказал Митридат, поднялся с трона и сошел с помоста, беззаботно переступив через скрученные, превращенные в месиво останки Мания Аквилия, проконсула Рима.
Все складывалось превосходно! Царь знал это лучше других. Прохаживаясь по освеженным ветром террасам на вершине горы, он ждал, когда закончится месяц гамелион, что соответствовал римскому квинтилию. Прибыло известие из Афин от Аристиона, что и у него дела шли отлично.
О могущественный Митридат, теперь ничто нас не остановит. Афины укажут путь Греции. Я начал с того, что завел разговоры о днях былой славы со старейшинами и богатейшими людьми Афин, ибо народ, который пережил свой расцвет, смотрит назад в прошлое с глубокой тоской и посему легко прельщается обещаниями возврата тех достославных дней. Итак, я выступал с речами на агоре в течение шести месяцев, постепенно разбивая доводы противников и набирая сторонников. Я даже убедил мою аудиторию, что Карфаген стал твоим союзником против Рима, и слушатели поверили мне! А ведь исстари считается, что афиняне – самые образованные люди в мире. Подумать только, ни один из них не знал, что Карфаген был разрушен Римом почти пятьдесят лет назад. Просто удивительно.
Я пишу теперь – месяц Посейдон как раз прошел половину своего пути, – поскольку имею удовольствие сказать тебе, что был избран военным главой Афин. Мне также было дано право самому выбирать себе соратников. Естественно, я выбрал тех, кто твердо верит в то, что спасение нашего греческого мира в твоих руках, великий царь, и кто не может дождаться дня, когда ты раздавишь Рим своей львиной пятой.
Теперь Афины полностью мои, включая Пирей. К сожалению, некоторые верные Риму люди и мои злейшие враги из греков бежали, прежде чем я мог схватить их, но те, кто были настолько глупы, что остались, – в основном богатые афиняне, которые и помыслить не могли, что им что-то угрожает, – умерщвлены. Я конфисковал всю собственность, принадлежащую бежавшим и убитым. Эти средства пойдут на финансирование нашей войны с римлянами.
Я должен выполнить обещание, данное тем, кто голосовал за меня, но это не помешает твоей военной кампании, великий царь. Я пообещал вернуть остров Делос, которым сейчас владеют римляне. Это процветающий торговый центр, успешная торговля здесь и делала афинян столь зажиточными в период их расцвета. В начале гамелиона мой друг Апелликон – превосходный военачальник и искусный флотоводец – начнет военную операцию против Делоса. Этот остров, гнилое яблоко, не устоит против нас.
На сем заканчиваю, мой повелитель и властелин. Когда Афины будут нужны тебе, город твой, и порт Пирей в любое время открыт для твоих кораблей.
Да, они нужны ему, Пирей и стоящий за ним город Афины, соединенные Длинными стенами, ибо в конце квинтилия – греческого гамелиона – корабли Архелая вышли из Геллеспонта и вскоре появились на западной стороне Эгейского моря. Флот насчитывал три сотни военных галер в три и более ряда весел, более сотни беспалубных диер и полторы тысячи транспортных судов, набитых солдатами. Архелай не заботился о прибрежной части провинции Азия, так как она уже была в руках царя Митридата. Он намеревался утвердиться в Греции, с тем чтобы основная часть Македонии оказалась стиснутой между двух понтийских армий: его армией в Греции и армией Ариарата-младшего в восточной части Македонии.
Ариарат-младший также не отступал от плана, составленного его отцом. В конце квинтилия он переправил свои сто тысяч человек через Геллеспонт и начал продвижение вдоль прибрежной полосы фракийской Македонии, пользуясь Эгнациевой дорогой – чудом римского строительного и инженерного искусства. На своем пути он не встретил никакого сопротивления, устроил постоянные военные базы в Абдере на море и в удаленных от моря Филиппах и продолжил движение на запад, в сторону первого значительного римского поселения Салоники, города наместника.
В конце квинтилия римские, латинские, италийские граждане, жители Вифинии, провинции Азия, Фригии и Писидии были убиты. Все, вплоть до последнего мужчины, женщины, ребенка, раба. В этом самом секретном из трех Митридатовых указов проявилось змеиное коварство царя. Вместо того чтобы использовать своих людей для осуществления этого плана, царь приказал жителям каждого сообщества, каждого поселения эолийских, ионийских или дорийских греков самим совершить расправу. Многие области встретили указ с ликованием – там не оказалось недостатка в добровольцах, жаждущих убивать своих римских угнетателей. Но в других областях указ вызвал ошеломление и ужас – жители сочли невозможным склонять своих соплеменников убивать римлян. В городе Траллы этнарх был вынужден воспользоваться услугами фригийцев-наемников для казней от имени и по поручению города. Другие упрямые области последовали этому примеру, надеясь, что вина за содеянное падет на головы чужеземцев.
Восемьдесят тысяч римских граждан, латинян и италиков вместе с их семьями погибли в один день, а также семьдесят тысяч рабов. Массовые убийства происходили на территориях от Никомедии в Вифинии вплоть до Книда в Карии и вглубь до Апамеи. Не пощадили никого. Никого не спрятали, никому не помогли бежать. Страх перед царем Митридатом был намного сильнее жалости и сострадания к несчастным. Используй Митридат собственных солдат для этой кровавой расправы, вина и ответственность за содеянное целиком и полностью легла бы на него. Но теперь он разделил ее и с греческими гражданами, которых Митридат принудил делать за него грязную работу. Греки прекрасно поняли ход царских мыслей, разгадали царскую логику. Несмотря на освобождение от налогов, жизнь при царе Понта Митридате вдруг перестала казаться им лучше той, что была при Риме.
Жертвы искали убежища в храмах. Но не нашли. Их вытаскивали наружу и убивали – плачущих, моливших богов о защите. Они цеплялись за жертвенники и статуи с нечеловеческой силой. Некоторым отрубали руки, а затем выволакивали с освященной земли и предавали смерти.
Самым страшным был заключительный пункт указа царя о казнях: ни один римлянин, латинянин или италик, также и ни один раб римлянина, латинянина, италика не должен был быть сожжен или похоронен.
Тела были отвезены подальше от населенных мест и брошены гнить в ущельях, долинах, на вершинах холмов и на дне моря. Восемьдесят тысяч римлян, латинян и италиков и семьдесят тысяч их рабов. Сто пятьдесят тысяч человек. Пожиратели падали – птица, зверь и рыба – получили сытное угощение в тот секстилий, ибо ни в одном населенном пункте, ни в одной общине жители не посмели ослушаться приказа и похоронить казненных. Царь с наслаждением путешествовал с места на место, любуясь грудами мертвецов.
Смерти избежали всего лишь несколько римлян. Это были изгнанники, лишенные гражданства и приговоренные к жизни на чужбине. Одним из них был некий Публий Рутилий Руф, некогда друг великих римлян, в настоящее время гражданин Смирны, почитаемый и уважаемый, автор насмешливых литературных портретов таких мужей, как Катул Цезарь и Метелл Нумидийский Свин.
«Ну что же, – думал царь Митридат в начале месяца антестериона, римского секстилия, – все идет как нельзя лучше».
Его сатрапы уверенно держали бразды правления повсюду от Милета до Адрамитиона в провинции Азия и по ту сторону границы в Вифинии. Никто более не позарится на Вифинию. Единственный претендент, которому Митридат мог позволить взойти на трон, был мертв. После того как Сократ вернулся в Понт, он раздражал царя тем, что беспрестанно канючил и распускал нюни, – пришлось его умертвить. Чтобы не ныл. Вся Анатолия к северу от Ликии, Памфилия и Киликия теперь принадлежали Понту, и остальные земли тоже очень скоро будут его.
Ничто, однако, не доставило царю такого наслаждения, как расправа над римлянами, латинянами и италиками. Каждый раз, когда он попадал в очередное место, где разлагались, сваленные в кучу, тысячи тел, он сиял, смеялся, ликовал. Он не делал различия между римлянином и италиком, несмотря на то что знал: Рим и Италия воюют друг с другом. Явление, которого никто не понимал лучше самого Митридата: брат шел на брата, и наградой была власть.
Да, все складывалось превосходно. Его сын Митридат-младший остался регентом в Понте. Правда, предусмотрительный царь забрал с собой в азиатский поход жену сына и детей, так, в качестве гарантии, чтобы юный Митридат хорошо себя вел. Ариарат был царем Каппадокии. Фригия, Вифиния, Галатия и Пафлагония – все были его царскими сатрапиями, правили которыми его старшие сыновья. А его зять, армянский царь Тигран, мог делать все, что пожелает, в землях, лежащих к востоку от Каппадокии, при условии, что не будет наступать Понту на пятки. Дадим Тиграну завоевать Сирию и Египет. Так он будет при деле. Но при этой мысли Митридат нахмурился. Египетская чернь не потерпит чужеземного царя. А это означает, что нужен ставленник, марионетка Птолемей. Если, конечно, удастся найти такого. Но несомненно, царицами Египта должны быть отпрыски Митридата. Никакая дочь Тиграна не займет место, предназначенное для дочери Митридата.
Наиболее впечатляющим был успех царских кораблей – если не принимать в расчет позорную неудачу Аристиона и его «превосходного военачальника и искусного флотоводца» Апелликона. Афинское вторжение на Делос окончилось поражением. Но флотоводец Архелая Митрофан, захватив острова Киклады, пошел дальше, на Делос, и предал там смерти еще двадцать тысяч римлян, латинян и италиков. Затем понтийский командующий отдал Делос Афинам, дабы не порочить Аристиона, который должен был оставаться у власти. Понтийскому флоту нужен был Пирей – западная морская база.
Эвбея была теперь в руках Понта, так же как остров Скиатос и большая часть Фессалии вокруг Пагасского залива, включая жизненно важные порты Деметриаду и Метоны. Благодаря своим северным греческим завоеваниям, понтийские силы смогли заблокировать дороги из Фессалии в центральную часть Греции – и это неудобство склонило многих греков на сторону Митридата. Пелопоннес, Беотия, Лаконика и вся Аттика истово приветствовали царя Понта как своего избавителя от римлян. Теперь они могли устроиться поудобнее, словно зрители в амфитеатре, и наблюдать со своих мест, как войско Митридата на море и на суше раздавит Македонию, словно жука.
Но спектакля не получилось. Завоевание Македонии, в настоящий момент во всяком случае, оказалось невозможным. Зажатые между внезапно ставшей враждебной им Грецией и наступающим по Эгнациевой дороге понтийским войском, Гай Сентий и Квинт Бруттий Сура не стали паниковать и не признали себя побежденными. Они действовали энергично, набрали вспомогательное войско – собрав всех, кого могли, – и присоединили его к двум имеющимся у них римским легионам. Они готовы встретить Митридата. Захват Македонии дорого обойдется Понту.
К концу лета Митридат, теперь обосновавшийся в Пергаме, неоспоримый хозяин Малой Азии, заскучал. Единственным оставшимся развлечением было посещение гор человеческих тел, но наиболее впечатляющие из этих монументов он уже видел. Ведь есть же еще, вдруг спохватился он, область вверх по реке Каик, на которой стоял Пергам. В провинции Азия было два города, называвшихся Стратоникея. Тот, что был больше, находившийся в Карии, все еще упрямо держался, не сдаваясь понтийским осаждающим силам. Маленькая Стратоникея, удаленная от моря, лежала дальше на Каике, за Пергамом. Она поклялась в верности Митридату. Так что, когда царь въехал верхом в город, его жители скопом повалили навстречу, громко приветствуя своего властителя и усыпая лепестками цветов дорогу перед его триумфальной процессией.
Одна греческая девушка в толпе привлекла внимание царя, и он велел немедленно привести ее к нему. Удивительно бледным было ее лицо, и волосы казались совсем белыми, а брови и ресницы невидимыми. Какая диковинная неприкрашенная красота! И какие необычайные блестящие темно-розовые глаза. Один пристальный взгляд – и к многочисленным царским женам добавилась еще одна. Царь не встретил никаких возражений со стороны ее отца Филопемена. Тем более что он взял и Филопемена, и Мониму – так звали девушку – с собой на юг, в Эфес, где царь назначил своего нового тестя сатрапом области.
Наслаждаясь увеселениями, которыми славился Эфес, проводя время в любовных утехах со своей невестой-альбиноской, царь не забывал о делах. Он отправил лаконичное послание на Родос, требуя, чтобы остров добровольно сдался и выдал ему наместника-беглеца Гая Кассия Лонгина. В ответном послании, молниеносно доставленном, содержалось твердое нет на оба требования. Родос был другом и союзником римского народа – его жители готовы принять смерть, если будет необходимо.
В первый раз с того времени, как Митридат начал кампанию, у него случился приступ дурного настроения. Царя охватили раздражение и гнев. Весь понтийский двор и наиболее предприимчивые эфесские льстецы пригибались и вздрагивали, когда царь в припадке бешенства разражался гневными тирадами, брызгая слюной направо и налево в зале для аудиенций, пока его ярость наконец не перегорела, – и он умолк. Как будто сдулся. Царь сидел на троне, подперев рукой подбородок, надув губы, сердито глядя перед собой. На его мясистых щеках были размазаны слезы.
С этого момента он потерял интерес ко всем другим делам и затеям. Теперь его энергия была направлена исключительно на то, чтобы добиться подчинения Родоса. Как они посмели сказать «нет» ему! Неужели такой маленький лоскут земли, как Родос, думает, что может устоять против мощи Понта? Ну что ж, скоро они поймут, каковы их шансы.
Его корабли были заняты в западной части Эгейского моря. Не стоило выдергивать даже часть из них оттуда ради такой незначительной кампании, как захват маленького Родоса. Поэтому царь потребовал, чтобы Смирна, Эфес, Приена, Милет, Галикарнас и острова Хиос и Самос предоставили необходимые ему корабли. Что касается сухопутных сил, их было достаточно, так как он держал две армии в провинции Азия. Но из-за упорного сопротивления ликийской Патары и Термеса он не мог перебросить войско в такое место, откуда было бы разумно начать наступление на Родос, а именно на ликийское побережье. Родосские корабли заслуженно имели грозную репутацию и были сосредоточены у западного побережья Родоса, со стороны Галикарнаса и Книда. Но, не имея возможности использовать Ликию как исходный пункт для захвата Родоса, Митридату и его кораблям пришлось пойти этим опасным путем.
Он потребовал сотни транспортных судов и столько военных галер, сколько провинция Азия могла найти, приказав сосредоточить их в Галикарнасе – так полюбившемся Гаю Марию. Сюда Митридат и привел одну из своих армий для погрузки на суда. В конце сентября он наконец вышел в море. Легко было опознать его гигантскую, со всех сторон защищенную гексеру в самом центре флотилии. На корме под балдахином был установлен золотой с пурпуром трон. На троне восседал царь, хозяин всего, что видел взгляд, – и наслаждался зрелищем.
Хотя крупные военные корабли были неуклюжими и медлительными, они все же двигались быстрее, чем транспортные суда, которые являли собой пеструю смесь разнообразных каботажных судов, не предназначенных для дальних плаваний и в основном державшихся у береговой линии. Поэтому суда растянулись по всей длине пути до самого Галикарнаса. Когда головные корабли уже обогнули оконечность полуострова Книд и вышли в открытое море, последние грузовые суда, заполненные оторопелыми понтийскими солдатами, только выходили из гавани.
Легко укомплектованные и очень быстрые триеры появились на горизонте и устремились прямо на неповоротливый понтийский флот. Родосцы не использовали такие тяжелые суда, на каком плыл цаь Митридат. Эти крупные боевые корабли могли, конечно, нести огромное число людей и артиллерийских орудий, но родосцы в морских баталиях не полагались на артиллерию. К тому же они долго не оставались на месте. Флотилия Родоса заслужила свою репутацию благодаря скорости и подвижности, чрезвычайной маневренности судов, способных в любой момент ринуться в просвет между неуклюжими боевыми кораблями. Команда могла решительно пойти на таран – скорость компенсировала недостаток веса, а армированные бронзой дубовые носы родосских триер могли запросто протаранить бок гексеры. Только тараня корабли, можно было одержать убедительную победу на море, говорили родосцы.
Заметив вражеские корабли, понтийцы приготовились к великому сражению. Но похоже было, что родосцы вовсе не собирались ввязываться в бой. Они покружили вокруг понтийских кораблей, ошеломив их своей скоростью, после чего развернулись и отступили, не причинив, в общем, особого урона, кроме того что пробили бока двум неуклюжим гигантам. Однако за это короткое время родосцы успели не на шутку напугать царя Митридата. Вообще-то, он первый раз участвовал в морском сражении. До этого он плавал только в Эвксинском море, где даже самый дерзкий пират никогда не посмел бы атаковать понтийский корабль.
Возбужденный и завороженный происходящим, царь восседал на своем пурпурно-золотом троне, пытаясь смотреть во все стороны сразу. Ему даже не пришло в голову, что он мог подвергаться опасности. Он сместился в левую сторону, насколько возможно, чтобы наблюдать за родосской галерой, легко скользящей по воде на некотором расстоянии от кормы его корабля, когда тот вдруг накренился, раздался звук ломавшихся, словно хворостинки, весел, смешавшийся с испуганными и отчаянными криками гребцов.
Он быстро справился с приступом внезапной паники. Но все-таки недостаточно быстро. В тот момент, когда его настиг смертельный ужас, царь Понта обмарался. Хлынувшая из него коричневая смердящая масса оказалась повсюду. Она залила расшитую золотом пурпурную ткань подушек, стекала по ножкам трона, ползла по его ногам, пятная гривы золотых львов на отворотах сапог, – образовала лужицы и зачавкала на палубном настиле вокруг ног, когда он вскочил. И деваться было некуда! Он не мог скрыть свой позор от изумленных слуг и свиты, не мог скрыть этого от моряков, которые инстинктивно подняли глаза, дабы убедиться, что их царь невредим.
Тут он понял, что корабль даже не получил пробоины. Одно из его судов, большая и неуклюжая гексера с острова Хиос, ударило, просчитавшись, бортом по его кораблю, в месте поперечного бруса, и срезало все весла на столкнувшихся боках обоих судов.
На лицах подданных было потрясение? Или удовольствие?
Глаза навыкате бешено сверкали, царь в гневе переводил взгляд с одного лица на другое и видел, как каждое лицо вспыхивало, затем делалось бесцветным, как кубок, из которого внезапно выплеснули вино.
– Мне плохо! – закричал он. – Со мной что-то случилось, я болен! Помогите мне, вы, глупцы!
Безмолвие лопнуло. Со всех сторон к нему бросились его люди, свежие одежды возникли, казалось, ниоткуда, двое особо сообразительных нашли бадьи и окатили царя морской водой. Холодная вода оказала отрезвляющее действие на царя, и его осенило, как выйти из этой отвратительной ситуации. Он запрокинул голову и разразился смехом:
– Шевелитесь, болваны, вымойте меня!
Царь подобрал золотые птериги и полы пурпурной туники, выставив напоказ свои могучие ляжки, крепкие ягодицы и мощное орудие, породившее полсотни ядреных, пышущих здоровьем сыновей. Когда нижние части царя были вымыты, нечистоты удалены, он скинул с себя всю одежду до последнего предмета и стоял теперь обнаженным на возвышающейся части кормы, демонстрируя своей ошарашенной команде, каким бесподобным был их царь. Он продолжал смеяться, отпускать шутки и периодически хватался за живот и стонал для пущего эффекта.
Но позже, когда родосская флотилия исчезла, оба понтийских корабля-гиганта разъединились, а слуги уложили чистые подушки на его тщательно отмытый трон, царь, облаченный в свежие одежды, жестом подозвал к себе капитана.
– Схватить впередсмотрящего и лоцмана, вырвать им языки, кастрировать, выколоть глаза и отрубить руки. А потом повесить им на шею чашку для подаяний и отпустить, – велел Митридат. – Такое же наказание должно постичь впередсмотрящего, лоцмана и капитана хиосского корабля. Все остальные на его борту должны быть казнены. И никогда-никогда не подпускай ко мне хиосца и не проходи поблизости от этого поганого острова! Понял меня, капитан?
Капитан сглотнул слюну, закрыл глаза:
– О да, великий царь! Я понял.
Он попытался совладать со спазмом в горле и героическим усилием воли выдавил из себя вопрос, который должен был задать:
– Не разрешит ли великий царь зайти в какой-нибудь порт взять еще весел? Без этого мы не можем двигаться дальше.
Казалось, царь воспринял эту новость спокойно. Он спросил вполне дружелюбно:
– Где ты советуешь нам пристать к берегу?
– В Книде или на Косе. Но не южнее.
Впервые после его публичного унижения в глазах царя сверкнул интерес к чему-то еще.
– Кос! – воскликнул он. – Веди нас на Кос! Мне есть что сказать жрецу Асклепиона. Они укрывали римлян. И я бы хотел взглянуть на их сокровища. Интересно знать, сколько у них золота. Да, капитан, плыви на Кос.
– Благородный Пелопид желает видеть тебя, великий царь!
– Если он хочет видеть меня, то чего он ждет?
Никогда царь не был опаснее, чем в тот момент, когда смеялся, но не от души. Все, что угодно, могло взорвать его: слово, взгляд, предположение. Пелопид возник перед троном в мгновение ока. Он был скован страхом, но приложил нечеловеческое усилие, чтобы этого не показать.