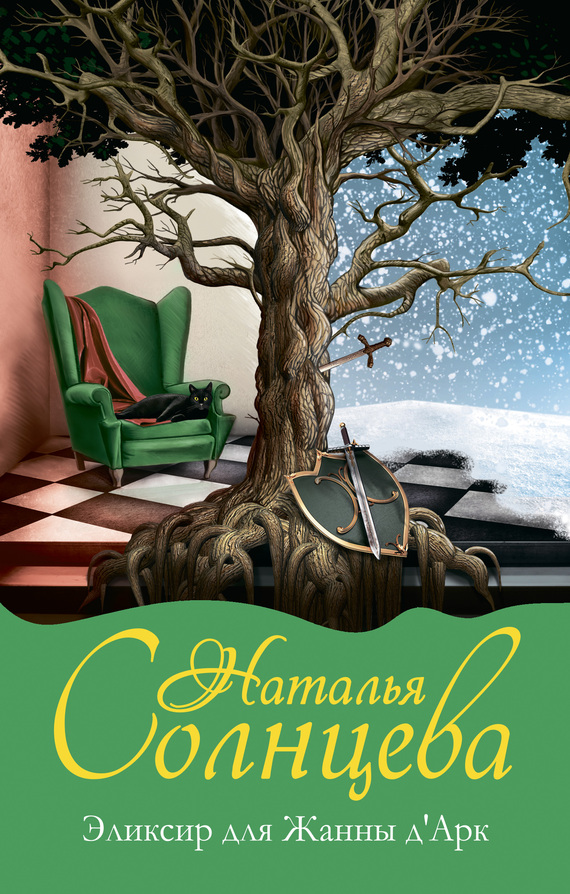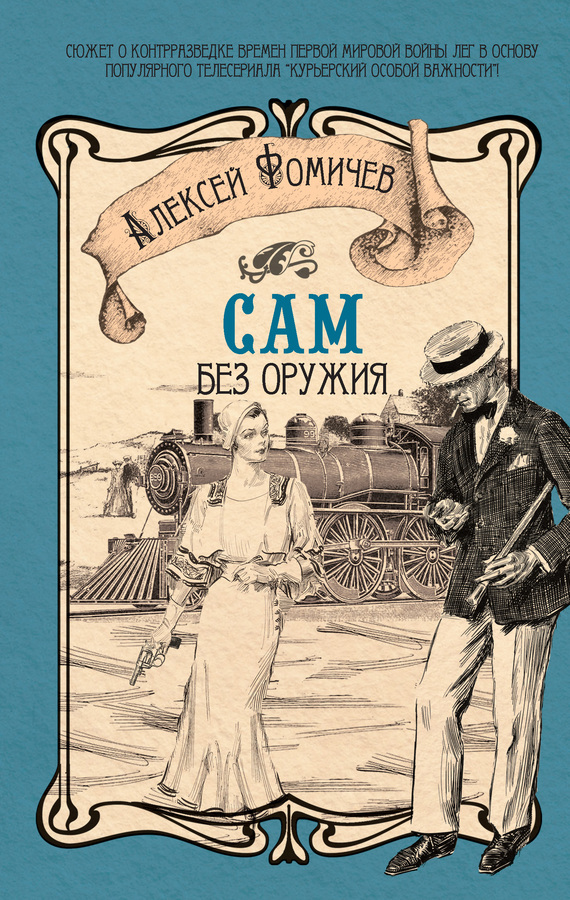Наперекор судьбе Винченци Пенни

Но зачем? Зачем ей это понадобилось? Барти знала ответ, но жестоко и безжалостно загоняла его в самые глубины сердца. Они с Джоном провели в Эшингеме замечательное Рождество, прихватив и следующий день, после чего отправились в ее лондонский домик.
Вскоре Джон уехал. Их последняя ночь была нежной и грустной, полной заверений в любви и обещаний.
Она такая счастливая. Невероятно счастливая. И Джон очень любит ее. По-настоящему. Искренне. Возможно, у нее нет никакой депрессии. Просто усталость. Дикая, нечеловеческая усталость. Она устала от бесконечных ограничений и лимитов, ставших еще жестче, чем в начале войны. Больше всего нареканий вызывали у людей лимиты на чай и сахар. На неделю – всего две унции чая. Много ли полноценных заварок сделаешь из этих двух унций?
– Это хорошо, Миллер, что вы решили повременить со свадьбой, – весело заявила ей Парфитт, когда в один из вечеров они встретились в Лондоне. – А то пришлось бы тебе делать фальшивый свадебный пирог из картона и раскрашивать его. Сейчас все невесты этим занимаются. У меня на прошлой неделе подружка замуж выходила. Собиралась, как и ты, дожидаться конца войны, да пузо помешало. Подзалетела девка. Это ты у нас внимательная и осторожная.
Может, и ей нужно было бы появиться в Эшингеме с пузом? «С начинкой», как выражаются близняшки. Вот тогда все наверняка подумали бы, что Джон не такой уж замечательный парень. Или замечательный, но в ином смысле.
Боже мой, что с ней? Почему ей в голову лезут такие мысли?
Взросление Иззи замечали все. Ей шел четырнадцатый год. Она вытянулась, стала стройнее. Ее фигура начала приобретать женские формы. Она больше не выглядела ребенком. У Себастьяна это вызывало странное, двойственное отношение. С одной стороны, он гордился, что его дочь взрослеет и становится еще красивее. С другой – в нем снова вспыхнуло желание опекать ее и контролировать каждый шаг, но уже по иным причинам. Себастьян словно пытался отрицать ее созревание и недовольно поглядывал на маленькие острые груди, как-то «внезапно» появившиеся на плоском детском теле. Ему не нравилось, что Иззи стала часто расплетать косу, давая свободу своим чудесным волосам. Однажды вечером, когда она вышла к ужину в шелковом вечернем платье, выпрошенном у Адели, он не выдержал и сорвался:
– Ты во что вырядилась? Посмешище и позор. Ты пока еще ребенок и нечего напяливать на себя одежду взрослых.
Вспыхнувшая Иззи пулей вылетела из комнаты.
– Себастьян, ну нельзя же так рычать, – упрекнула его Адель. – Ей тринадцать лет. В таком возрасте, естественно, появляется желание выглядеть красивой и чуть более взрослой.
– А я не хочу такого ускоренного взросления. Ей всего тринадцать лет. Пока что она ребенок. И тебе нечего потакать ее глупостям.
– Себастьян, остынь, – велела ему леди Бекенхем. – Ты как будто живешь в Средние века. Правильнее сказать, не живешь, – усмехнувшись, добавила она. – Моя бабушка вышла замуж в четырнадцать лет. Тебе бы радоваться, что Иззи из красивого ребенка превращается в красивую девушку.
– Нечего поощрять преждевременное развитие, – упрямо гнул свое Себастьян. – И я предпочел бы, чтобы вы не вмешивались. Изабелла – мой ребенок. У нее нет матери, способной направить и подать пример. Этим приходится заниматься мне.
– Не сказала бы, что ты очень уж успешно справляешься с этим делом. – И леди Бекенхем отправилась искать Иззи.
Девочку она нашла в библиотеке. Она сидела на диванчике у окна и горько плакала. Кит был рядом, одной рукой он обнимал ее за талию, а другой нежно гладил по щеке.
– Боже мой, – прошептала леди Бекенхем, спешно отступая в коридор. – Боже мой, – повторила она, и на ее лице появилась непонятная озабоченность.
Джайлза тяжело ранило. Он лежал в полевом госпитале близ Неаполя, ожидая санитарного парохода, который должен был забрать его в Англию. Ранили его во время ожесточенного, кровопролитного сражения на берегу реки Гарильяно. Его ротный командир был убит. Джайлзу невероятно повезло, что он остался жив. Хелена почти ликовала: если Джайлз в госпитале, значит он в безопасности. Она еще ничего не знала ни о самом ранении, ни о том, насколько оно опасно. Сведения, полученные ею, были скупыми, и она со смешанным чувством надежды и ужаса ждала дальнейших известий. Однако у нее исчез постоянный страх за мужа.
Адель отдала бы что угодно за весть о возвращении Люка домой. И даже известие о его ранении и нахождении в госпитале было бы куда предпочтительнее этих коротких посланий, приходящих раз в полгода. Иногда они казались ей изощренным видом пытки. Письма были посланиями из прошлого. Около шести месяцев назад, когда Люк писал эти строчки, он был жив и здоров. Но всего через день или даже через час могло произойти что-нибудь ужасное.
Слава богу, что у нее есть работа. Адель не представляла, как она раньше могла жить без работы. Работа отвлекала, когда ей становилось совсем страшно. Работа утешала, когда наваливалась беспросветная тоска. Казалось бы, глупо рассчитывать, что острый, пронзительный страх можно унять подбором нарядов, болтовней с моделями, установкой освещения и задников, подбором стилей и оттенков цвета. Но это помогало, в чем Адель даже себе признавалась с изрядной долей стыда. Ей становилось легче на душе, прибавлялось смелости, и снова откуда-то появлялась надежда.
Теперь она ездила в Лондон практически еженедельно, оставаясь ночевать на Чейни-уок. Время было плотно заполнено встречами с редакторами отделов моды, моделями, художественными редакторами и дизайнерами. Поначалу Адель работала преимущественно стилистом, но иногда делала фотографии. Однако ее уверенный глаз, способность не только организовать сцену для съемки, но и провести саму съемку укрепили ее в мысли, что она тоже может быть фотографом. Она легче, чем Седрик, находила общий язык с моделями и могла уговорить их проделывать трудные и неожиданные трюки. Теперь она хорошо разбиралась даже в правильной установке освещения. Определение выдержки и диафрагмы тоже перестали быть для нее непостижимыми тайнами. Одним из наиболее известных снимков в ее портфолио был снимок девушки в шубке, осторожно пробиравшейся по узкому проходу между громадными грядками в Гайд-парке. Под эти грядки городские власти Лондона отдали значительную часть парка, позволив лондонцам выращивать овощи, чтобы разнообразить их скудный рацион. Тот снимок быстро стал классикой. Художественные редакторы постоянно просили Адель сделать «еще что-нибудь в том же духе».
Желания перебираться в Лондон у нее не было. Адель считала, что жизнь в нынешнем Лондоне только травмирует ее детей. Эшингем оставался для них наилучшими местом, а два-три дня без нее они вполне выдержат.
Из скучающей, беспокойной, одолеваемой разными мыслями, Адель вернулась к себе прежней: уверенной, быстро соображающей, целиком поглощенной тем, чем в данный момент она занималась. Постепенно она вновь стала встречаться со старыми друзьями и как-то незаметно вошла в светскую жизнь Лондона, хотя ограничения существовали и здесь. Адель снова стали заботить ее наряды и внешний вид. Появилась даже тяга к шику. Венеция этому только радовалась и старалась везде брать сестру с собой. Как-то во время их ланча в «Рице» они услышали:
– Близняшки Литтон вернулись.
Они переглянулись и рассмеялись. Так оно и было.
В один из теплых весенних дней, когда Адель играла в саду с детьми, ей принесли знакомый уже конвертик немецкого Красного Креста.
Это письмо Люк написал по-английски. Адель присела на скамейку и прочла письмо. Ей сразу показалось, что вокруг сгустились сумерки и подул холодный ветер. «Моя дорогая! Возможно, какое-то время я не смогу тебе писать. За меня не бойся. Я в полной, совершенно в полной безопасности. Я люблю тебя. Люк».
Адель читала эти бодрые слова и почему-то чувствовала, что письмо, пришедшее от Люка, – последнее.
Венеция спустилась в столовую дома на Чейни-уок, собираясь ехать на работу. Теперь она туда ездила на велосипеде. Это был самый удобный и быстрый способ передвижения. Ездить на велосипеде Венеции очень нравилось, если только не лил дождь. Свою дорогую сумочку она засовывала в велосипедную корзину, портфель привязывала к багажнику. Однако на работу она приезжала с растрепанными ветром волосами. К тому же велосипед плохо ладил с чулками, и спущенные петли были обычным явлением. Венеция довольно скоро отказалась от чулок и стала просто покрывать ноги… тоном для лица. Карандашом для бровей она рисовала на ногах «стрелки», усиливая иллюзию надетых чулок. Эту хитрость Венеция переняла от фабричных работниц. Ей и Адели такая уловка очень нравилась. Селия же называла это «плебейством».
Лондон был полон велосипедистов. Теперь большинство предпочитали этот вид транспорта. Велосипеды были одним из многих явлений, изменивших облик английской столицы. Поэт Чарльз Грейвз писал: «Если бы не обилие людей в военной форме, можно было бы подумать, что Лондон – вполне мирный город». Венеция не могла с этим согласиться. Город лишился былой ухоженности и чем-то напоминал лоскутное одеяло. Самые крупные завалы успели расчистить, однако следы разрушений и запустения попадались на каждом шагу. Окна разбомбленных домов были наспех заколочены досками. Фасады были похожи на улыбающиеся беззубые рты. Красивые террасы в таких местах, как Риджент-парк, пустовали и буквально гнили. Трава на газонах Лестер-сквер была вытоптана. В Лондоне, кроме привычных красных автобусов, появились коричневые и зеленые, присланные из провинции.
Более приятное, хотя и еще более странное зрелище представляли собой хаотичные лужайки, пестрящие цветами, среди которых поднимались молодые деревца. На месте уничтоженных бомбежками церквей устраивали сады. Развалины вокруг собора Святого Павла, включая и место, где было здание «Литтонс», густо покрывали ночные фиалки, а на разбомбленном перекрестке Бонд-стрит и Братон-стрит кто-то насчитал четыре разновидности ивы. Там же росли и тополя. Над центром города весело порхали бабочки. Подруга Венеции, жившая возле Терлоу-сквер, рассказывала, что рядом с их домом выросло какое-то экзотическое растение. Ботаники узнали в нем перуанский кустарник и предположили, что его могло занести сюда из разрушенного ботанического сада Кью-Гарденс.
Еще одной принадлежностью Лондона стали овощные грядки. Их можно было встретить повсюду: в больших парках, на газонах между домами, перед Британским музеем. На подоконниках стояли горшки и ящики с землей, в которых тоже росло что-то съедобное. Однако самым диковинным зрелищем, пожалуй, была крыша новозеландской миссии, превращенная в пшеничное поле.
С продуктами было туго. Никто не голодал, но желудки лондонцев тоже ощущали на себе тяготы войны. В неделю на одного человека полагалось две унции сливочного масла, четыре унции бекона, ветчины и сыра, что делало завтраки, обеды и ужины весьма скромными. Еда превратилась в навязчивую мысль. Люди больше всего сетовали именно на нехватку еды. Богатым было легче, чем бедным: они могли сытно поесть там, где карточки не спрашивали.
– В «Беркли» и сейчас можно получить отличный обед из четырех блюд, – говорила Селия Литтон. – Да и в старом добром «Дорче» тоже.
Услышав это в очередной раз, Адель ткнула локтем Венецию и прошептала:
– Еще немного – и наша мама скажет: «Кому не хватает хлеба, пусть едят пирожные» [83] .
Правительство, пытаясь регулировать цены, установило максимальную плату в пять шиллингов за любой обед в ресторане. Все крупные лондонские отели моментально добавили еще шесть шиллингов за привилегию пообедать в их ресторанах. За копченую семгу нужно было заплатить пять шиллингов и шесть пенсов. Даже за возможность потанцевать брали два шиллинга и шесть пенсов.
Что же касается американских солдат и офицеров, их можно было встретить в любом районе Лондона. Многие из них были чернокожими. Они ходили в отутюженных мундирах из превосходного сукна. Если раньше лондонцы слышали сочный американский акцент лишь в кино, теперь он звучал чуть ли не повсюду. Казалось, американцы не испытывали недостатка в деньгах, которые щедро тратили в барах, ресторанах и танцевальных залах. Это автоматически добавляло им великолепия.
А рядом было полным-полно уставших от войны и неженской работы англичанок. Они водили автобусы и машины «скорой помощи», дежурили на пунктах противовоздушной обороны, разносили письма и молоко. И управляли компаниями. Эта мысль вертелась в голове Венеции, когда она утром просматривала записи в деловом календаре. Война дала женщинам невиданное равноправие, которое и не снилось феминисткам. Она же позволила им преуспеть там, где потерпела неудачу мать Венеции. Селия учила дочь, что от жизни можно получить гораздо больше и иным способом, нежели тот, который подруга Венеции Банти называла «домашней проституцией».
– Ты спишь с ними и за это получаешь хорошую еду, а если повезет, то и несколько красивых платьев.
Венеция не представляла, как бы она сейчас жила без работы. И почему она так долго и упорно противилась работе? Она с ужасом вспоминала себя в годы замужества: отупевшее, не имеющее цели существо. Естественно, Бою с ней было невыразимо скучно. Венеция намазала маслом ломтик поджаренного хлеба и просмотрела почту, нет ли писем для нее. Ее ждало одно письмо: от Боя. Он сообщал, что примерно через месяц приедет в отпуск на две недели, и писал о необходимости встретиться и серьезно обсудить разные вопросы. В том числе и заботу об их детях.
Венеция дважды прочла письмо (оно было очень коротким), после чего бросила лист на стол и заплакала.
Барти несла караульную службу, которую люто ненавидела. Стоя за воротами, вооруженная винтовкой с примкнутым штыком, она чувствовала себя совершенной идиоткой. В кармане у нее лежало пять патронов, но заряжать винтовку было запрещено. Вдруг она еще кого-нибудь застрелит? Само дежурство представлялось ей дурацким спектаклем. Всякий раз, когда она произносила: «Стой! Кто идет?» – ее охватывало нестерпимое желание захихикать. Несколько раз так оно и было: Барти действительно расхохоталась, за что ее здорово отругал командир. Часовым она была никудышным. Однажды она пропустила вестового, даже не потребовав у него документов. Ей «показалось», что она его узнала. А это как раз была проверка состояния караульной службы. Барти получила дисциплинарное взыскание. Потом она часто говорила, что не удивилась бы, если бы первый вторгшийся немец, появившийся перед нею, был бы одет и загримирован под Уинстона Черчилля и она бы его тоже пропустила, не спросив документов.
Шел дождь, и капли с противной регулярностью попадали ей за воротник прорезиненного плаща. Невзирая на апрель, было холодно. У Барти жутко болела голова и гудели уставшие ноги. К тому же она была настолько уставшей, что боялась не выдержать и заснуть прямо на посту.
Еще немного потерпеть, и она получит сорок восемь часов свободы, поедет домой и отоспится. Кройдон был очень удобным местом. Даже в самое короткое увольнение она могла съездить домой.
Утром от Джона пришло письмо. Оно лежало у нее в кармане нераспечатанным. Барти собиралась прочесть его дома. Джон всегда писал ей длинные, забавные, полные любви письма. Он обладал потрясающей наблюдательностью. Нельзя сказать, чтобы он был особо остроумным, но он умел из любой мелочи сделать веселую историю.
Время ползло еле-еле. Нет ничего противнее монотонности стояния в карауле. Барти взглянула на часы. Еще двадцать минут. Голова просто раскалывалась. Барти мечтала поскорее оказаться у себя на кухне и выпить чашку крепкого, сладкого чая. Селия называла это «чаем для рабочих». Сама она пила слабенький «Эрл Грей» с лимоном и без сахара.
К воротам подъехала машина. Барти выпрямилась и крикнула:
– Кто идет?
Она пыталась не обращать внимания на ледяную воду, капавшую с плаща прямо ей в ботинки.
Домой Барти добралась лишь в одиннадцатом часу. Самочувствие у нее было препаршивое. Ее бросало то в жар, то в холод. Возможно, грипп. Ей бы помогла горячая ванна. Барти вскипятила чайник, проглотила две таблетки аспирина и заварила чай. Заварочный чайник вместе с чашкой она понесла в ванную, прихватив и письмо Джона. Барти погрузилась в ванну. Увы, не в довоенную, когда можно было наливать столько воды, сколько пожелаешь. Теперь это дрязганье только называлось принятием ванны, поскольку уровень воды в ней не должен был превышать пяти дюймов. Утверждали, будто даже король приказал отметить в его ванне пятидюймовый уровень, ибо дисциплина обязательна для всех.
Барти уселась в ванну, постоянно брызгая на себя горячей водой, чтобы не замерзнуть, – у нее в доме было очень холодно. Затем она положила под голову ванную подушечку – рождественский подарок Венеции. («Ты даже не представляешь, насколько они удобны, когда читаешь в ванной».) Надорвав конверт, она достала письмо Джона. Ей сразу же стало лучше и даже теплее.
Моя любимая!
Интересно, что ты делаешь, читая мое письмо? (Барти подумала, что он немало бы изумился. В последний раз, когда Джон был здесь, они попытались устроить «романтическое купание», но пять дюймов воды быстро охладили романтический пыл. Со смехом они решили мыться обычным образом. Джон остался в ванне, а когда настал черед Барти, вода уже была чуть теплой.) Я сижу в крайне неудобном грузовике и еду по весьма неудобной дороге из пункта А в пункт Б. То, что я сейчас вижу, можно увидеть на любой здешней дороге. Собачонка задрала ногу и помочилась прямо на ноги мужчине, стоящему на обочине и глазеющему на нас (местный спорт). Мужчина еще не осознал этот прискорбный факт. Полагаю, собачонку потом ждет какое-то наказание. Я люблю собак. Когда мы поженимся и у нас будет дом, сад и яблоня (в последний раз мы об этом говорили 1 января 1943 года в 3 часа ночи; ты же знаешь, везде, где возможно, я стараюсь быть точным), очень неплохим дополнением к нашей семье мог бы стать красивый золотистый лабрадор. Что ты думаешь по этому поводу?
Я так скучаю по тебе. Скучаю целиком и полностью, но особенно в этот момент, когда ты…
Чтение прервал резкий звонок телефона. Барти нахмурилась. Ей уже было холодно. Но если она вылезет из этой мелкой тепловатой лужи, станет еще холоднее. Пусть себе трезвонит. В такое время ей могла позвонить только Селия. Или Парфитт. Ничего. Подумают, что ее еще нет дома, и позвонят снова.
Телефон умолк. Вот и хорошо. Барти продолжила чтение. Джон скучал по ней. Целиком – это понятно. Но он умел скучать и «частями», находя весьма странные места и черты ее характера. Например, он мог скучать по ее ушам, которые называл «особенно сладостными». Или вдруг основанием для скучания становилась ее почти фотографическая память на даты. Или ее способность смеяться его шуткам. Кое-что она уже слышала от него, но Джон был неутомим в поиске новых поводов…
Опять этот чертов телефон. Придется ответить. Барти положила письмо Джона на табуретку с пробковым сиденьем, вылезла из ванны и только сейчас сообразила, что не захватила купальный халат. Она не взяла даже полотенце, которое оставила в сушильном шкафчике, чтобы согрелось. Ладно, можно вылезти и голой. Никто ее не увидит.
Барти, дрожа от холода, быстро прошла через гостиную. Кто бы ни позвонил, по закону «телефонной вежливости» она должна перезвонить, чтобы не вводить человека в лишние расходы. Снимая трубку, она успела посмотреться в зеркало, висящее над камином. Ну и вид у нее! Абсолютно голая, волосы разметались по плечам, хотя она и закалывала их. И лицо красное. Наверное, у нее все-таки температура. Это не от тепла. Вся дрожит, как в лихорадке.
– Алло, – довольно неуверенно произнесла она в трубку.
Барти продолжала смотреться в зеркало и увидела, как мгновенно побледнело ее лицо, глаза потемнели и ввалились, а тело застыло.
– Барти? Полагаю, это все-таки ты? Да? Привет, Барти. Как ты? Это я, Лоренс.
Глава 39
Ну вот это и произошло. Все, что могло произойти. Она это предчувствовала. Исключительно правильные слова, за которыми последовали исключительно неправильные действия.
Она сказала, что им незачем встречаться, но он приехал к ней домой. Она противилась открытию бутылки с шампанским, которую он привез с собой. Им нечего праздновать. Она не собиралась с ним целоваться. Им было нечего обсуждать. Никаких обедов и уж тем более никаких танцев в отеле «Гросвенор-хаус». Зачем ей встречаться с ним снова на следующий вечер? Им нечего вспоминать и не о чем говорить. И уж абсолютно незачем выслушивать его нескончаемые рассказы о неудачной женитьбе, признания в том, что с момента их расставания у него не было ни одного счастливого дня. И нет никакого смысла в его раскаяниях задним числом и всех этих дурацких сожалениях. Она говорила, что не верит, будто с тех пор он сильно изменился, стал более чутким и внимательным. И незачем пытаться снова заманить ее в постель. Пусть не думает, что у нее хотя бы на мгновение могут вспыхнуть к нему какие-то чувства. Мало ли какие мужчины нравились ей в прошлом, пять долгих лет назад. Он всего лишь один из ее знакомых мужского пола.
Но она впустила его в свой дом, ощущая противную слабость во всем теле и шокированная своими чувствами. Она выдержала его незабываемый, пристальный взгляд. Она робко улыбнулась, когда он протянул ей фужер с холодным как лед шампанским.
– В вашей Англии чертовски трудно найти по-настоящему холодное вино. И как вы только это выдерживаете?
Она позволила себя поцеловать, хотя поцелуй был недолгим, не более чем легкое касание ее губ. Она позволила себя обнять, и его объятие было по-братски теплым, не более того. Она согласилась надеть единственное приличное платье, которое у нее было – черное, шелковое, с серебристым отливом, – и согласилась поехать с ним обедать. Она танцевала с ним в зале ресторана «Гросвенор-хаус», склонив голову, закрыв глаза и замирая под напором старых, забытых уже ощущений, вновь нахлынувших на нее. Она согласилась встретиться с ним и на следующий вечер.
– Может, отправимся в «Савой»? – предложил он. – Мне говорили, там совсем недурно и у них даже есть лед.
Она выслушала историю его крайне неудачного брака, изо всех сил заставляя себя не верить тому, что слышит.
– Я женился на ней только потому, что не мог жениться на тебе, и ты это знаешь.
Она пыталась поверить, что он изменился в лучшую сторону, стал более чутким и внимательным. А потом… потом случилось то, что уже не могло не случиться: она оставила его у себя на ночь, и они провели эту ночь в одной постели. Он овладел ею… правильнее сказать, вторгся в нее. Там было мало нежности, но много силы и страсти… Он по-прежнему оставался превосходным любовником.
На следующий день, когда он ушел, а она переодевалась в свою аккуратно выглаженную форму – ни обнаженных плеч, ни глубокого выреза, – ей понадобился носовой платок. Она выдвинула ящик комода и увидела письмо Джона. То самое, что она читала в холодной ванной, когда позвонил Лоренс. Она тогда спешно спрятала письмо, поскольку до прихода Лоренса оставалось не более пяти минут и ей нужно было спешно одеться. Потом она забыла о письме. Напрочь забыла. И вот теперь она сидела, охваченная стыдом и отчаянием, и смотрела на конверт. У нее не хватало смелости дочитать письмо, прочесть слова любви от человека, за которого она обещала выйти замуж и которого так легко и быстро предала. Ей не верилось, что события двух неполных дней не плод ее воспаленного, больного воображения. Неужели она способна на такое?
Лоренс был расквартирован в Лондоне. Это отсекало все надежды, что вскоре он отправится на север Шотландии или в Ирландию – две основные базы американцев – и снова исчезнет из ее жизни. Он, если так можно выразиться, был не совсем на военной службе, хотя и имел почетное звание полковника и ходил в военной форме. Лоренс утверждал, что это сделано для «упрощения вещей». Он был прикомандирован к штабу Эйзенхауэра и работал в военной разведке переводчиком.
– По возрасту я уже не гожусь в солдаты, – объяснял он ей. – Но я нашел свою дорожку в армию. Я занимаюсь очень интересной работой.
У него были потрясающие способности к языкам. На некоторых он говорил очень хорошо, включая и русский. Он даже мог объясняться на японском.
– Но командование в основном интересует мой немецкий и, возможно, французский.
Барти удивляло, что он вообще пошел в армию, да еще добровольцем.
– Зачем? Твой возраст уже не подлежит призыву. Тебе ведь сейчас…
– Сорок пять, – подсказал Лоренс. – Правда, невероятно?
– Тогда…
– Я захотел сам. Мне это представлялось головокружительным приключением.
Его слова не были пустой бравадой. Он всегда охотился за новыми впечатлениями, а его смелость граничила с безрассудством.
– А еще, – добавил он, улыбаясь своей медленной, словно неохотной улыбкой, которую она никогда не могла забыть, – я хотел попасть в Англию и найти тебя. Туристом сейчас не приедешь. Смерть казалась мне куда меньшим злом, чем перспектива никогда больше тебя не увидеть.
Подумав над услышанным, Барти улыбнулась и спросила:
– Неужели это так опасно? Чем же ты занимаешься?
– В данный момент наслаждаюсь твоим обществом и болтаюсь по Лондону. А потом моя работа может стать опасной.
– Почему?
– Допрос пленных. Мы будем рядом с передовой.
– Теперь понятно. А как ты меня нашел?
– Это оказалось совсем просто. Позвонил в «Литтонс». Мне ответили, что ты ушла в армию, потом спросили, кто я такой. Я назвался одним из американских Литтонов, который давным-давно не виделся со своей английской родней. Девушка, с которой я говорил, оказалась очень любезной. Она сообщила мне твой адрес и дала номер телефона.
– Ясно, – пробормотала Барти, решив при первой же возможности поговорить с Верой Мартин – новой секретаршей издательства, сильно отличающейся от бдительной Дженетт Гоулд.
– Остальное ты знаешь. А как твои армейские будни? Твой род занятий опасен? Мне кажется, что да.
– Такое бывает, но редко, – ответила Барти. – Сейчас это обычные рутинные дежурства.
Если бы и все другие стороны ее жизни состояли из подобной рутины!
Лоренс практически не изменился. Пять лет не оставили на нем никакого отпечатка. Его волосы по-прежнему были золотисто-рыжими, а глаза – все того же сине-зеленого цвета. Он немного похудел, но оставался мускулистым. От него так и веяло силой и здоровьем. Поскольку Лоренс рассчитывал отправиться с ней на обед, то приехал в гражданской одежде – в элегантном смокинге. На следующий вечер он предстал перед ней в такой же элегантной форме американского офицера.
– Пришлось сшить ее на заказ. Та, что выдали, ужасно на мне сидела.
Приехав, Лоренс долго вглядывался в нее, потом сказал, что она тоже ничуть не изменилась.
– Помню, у тебя волосы были подлиннее. Настоящая львиная грива. Кстати, это не мои слова, а леди Селии. Пожалуй, я бы не прочь встретиться с ней. И глаза у тебя те же. Твои изумительные глаза. И шея, длинная, грациозная шея. Она мне снилась. Барти, ты стала еще красивее. Намного красивее, чем была.
Лоренс много говорил о своем браке, о годах, прожитых без нее.
– Это был ад. Сущий ад. Несчастливый брак подобен тюремной камере, которую ты вынужден делить с тем, кого терпеть не можешь.
– Тебя никто не вынуждал жениться на этой женщине.
– Я должен был на ком-то жениться.
– Но зачем?
– Чтобы показать тебе свое отчаянное положение.
– Лоренс, но ведь это просто смешно.
– Только не для меня. Ты знала, как сильно я тебя люблю и как сильно тебя хочу. Это было самой наглядной декларацией моего отчаяния. Я показывал тебе, до чего мне худо и на какой новый отчаянный шаг готов пойти.
– Ты говоришь совершенно абсурдные вещи. До сих пор я слышала только о твоих страданиях. А каково твоей жене? Думаешь, ей легко жить с тобой, зная, что ты ее не любишь?
– Когда она за меня выходила, ей меньше всего была нужна любовь. Ей хотелось моих денег. Шикарного дома. И разумеется, детей.
– Конечно детей. И сколько их у вас?
– Двое. Замечательный сынишка, которого зовут Бартоломью.
– Бартоломью?
– Да. В честь тебя. Тебе нравится?
– Ты назвал в честь меня сына, родившегося от другой женщины?
– Да, и мне очень понравился сам замысел. В этом есть что-то очень извращенное, ты не находишь?
– Не знаю, – пробормотала откровенно шокированная Барти. – Мне это кажется… чрезвычайно странным.
– Тебе, может, и кажется. А мне ничуть. Мы зовем его Бифом. А еще у меня дочка. Кэтрин. Кейт. Вылитая мать и так же себя ведет. Очень избалованная.
– Иными словами, совсем не в отца.
– Барти, я никогда не был избалованным, – с легким раздражением напомнил ей Лоренс.
Она не спорила. Спорить с ним было бессмысленно.
– Я люблю тебя, – сказал он, и тон его стал вдруг серьезным. – Моя любовь к тебе абсолютна. Не могу поверить, что я снова тебя обрел.
– Лоренс, ты меня не обрел.
– Обрел, – сказал он, глядя на нее своими удивительными глазами. Потом взял ее руку и стал целовать. – Я обрел тебя и на этот раз уже не отпущу. Тут просто нечего обсуждать. Ты должна согласиться. И ты согласишься, я знаю.
– Лоренс…
– Не надо слов. Не будем терять время понапрасну. Если ты говоришь, что через полтора часа должна ехать к себе в часть, нам надо успеть заняться очень важным делом. Прежде всего, мы оба снимем с себя всю одежду.
– Лоренс, я совсем не хочу.
– Нет, ты хочешь. Очень хочешь. Я помню твои жесты, Барти. Когда ты увиливаешь, ты начинаешь теребить волосы.
– Теребить волосы? – изумленно переспросила она.
– Да. А когда ты нервничаешь, то чешешь нос. Когда читаешь, то постоянно откашливаешься. Когда голодна, делаешься весьма раздражительной. И это еще не все наблюдения. Если ты опаздываешь, то становишься неуклюжей, на что-нибудь натыкаешься и за что-нибудь задеваешь. А когда тебе хочется секса, ты затихаешь. Становишься все тише и тише. Обожаю эту тишину.
– Надо же, как старательно ты изучил мои повадки. Лучше, чем кто-либо.
– Сущая правда, – согласился Лоренс и принялся расстегивать ее платье. – Все эти годы, живя без тебя, я каждый день очень старательно и последовательно вспоминал каждую черточку твоего характера. У меня был целый мысленный список, и я проходил его от начала до конца, чтобы только ничего не забыть. Не упустить ни одной мелочи…
– Боже мой, – прошептала она, чувствуя свою беспомощность.
Рядом с ним она всегда чувствовала свою беспомощность.
Поезд шел в Кройдон. Унылые пригородные домишки, подцвеченные заходящим солнцем, казались Барти на редкость красивыми. Ее тело пело, вспоминая недавние наслаждения. В голове царила полная неразбериха. Барти было и радостно, и невыразимо грустно.
Как она справится со всем этим? Ради всего святого… или во имя адских бездн… как ей теперь жить?
В середине лета Иззи приехала в Эшингем на каникулы.
– Как приятно сюда вернуться, – призналась она Киту, когда они пили чай на террасе. – Челтенхем мне нравится. Пожалуй, я даже люблю школу. Но здесь такой покой. Мне очень не хватало тишины и покоя.
– А мне кажется, что я несколько переел того и другого, – сказал Кит.
– Неужели? Я думала, ты здесь счастлив.
– Я счастлив. Конечно, в другом месте обо мне бы так не заботились. Я с удовольствием болтаю с мальчишками и со всеми детьми Литтонов. Дед и бабушка просто замечательно ко мне относятся. Но факт остается фактом. Иззи, мне всего двадцать три года, а я живу жизнью человека среднего возраста. Иногда я думаю: что будет со мной дальше?
– Ты встретишь замечательную девушку, которая крепко тебя полюбит. Вы поженитесь, и у вас будет много детей.
– Которых я никогда не увижу.
– Да, ты их не увидишь, – искренне, без лживых утешительных слов сказала Иззи. Она была одной из очень немногих людей, перед кем Кит раскрывал свое сердце. – Но ты сможешь их обнять и поцеловать. Ты сможешь говорить с ними. Они будут расти, зная, какой замечательный у них отец. Они вырастут такими же умными и талантливыми, как ты, и очень красивыми.
– Ты находишь меня красивым? – удивился Кит. – Что, в самом деле? С моей тростью?
– Да, Кит. Ты ничуть не изменился. Может, тебе и трудно поверить, но ты остался таким же, каким был. Ты самый красивый мужчина в мире. Я так всегда думала. Может, за исключением моего отца.
– Да, – согласился Кит. – Я помню, как замечательно выглядел твой отец. Близняшки рассказывали: когда он был помоложе, у него был облик кинозвезды.
– Я это могу подтвердить. У нас дома в Примроуз-Хилл я нашла несколько папиных фотографий, где он совсем молодой. Я привезла их сюда. Хочу показать Адели. Может, ей будет интересно. Это любительские моментальные снимки. Не черно-белые, а коричневатые. Как рисунки сепией. На одном папа играет в теннис, а на другом – сидит в лодке. Что это за место, я не знаю. Его сфотографировали в белых брюках и джемпере для игры в крикет. В зубах у него зажата сигарета. И он смеется, на самом деле смеется. Сейчас он редко смеется.
– Да. Раньше он чаще смеялся, я помню. Я бы с удовольствием взглянул. – Кит замолчал и вздохнул. – До сих пор у меня проскальзывают такие слова. Правда, глупо?
– Совсем не глупо, – возразила Иззи. – Ничуть не глупо. Твой мозг тоже остался прежним, как и твое лицо. Он и думает прежним образом… Кит, твоя новая книга такая чудесная, – помолчав, добавила она. – Должно быть, ты ужасно рад.
– Здорово, когда можешь что-то делать, в чем-то добиваешься успеха, чем-то гордишься. Я с большим удовольствием этим занимаюсь. И знаешь, что странно? Я не представляю, как бы я создавал эти книги, если бы мог писать их на бумаге. Почему-то, когда диктуешь их, они становятся более яркими и живыми.
– Я очень рада за тебя… А вот и Нони к нам пришла. Привет, Нони. Как поживаешь?
– Благодарю, очень хорошо, – ответила Нони. – ПБ послала меня сказать, что Кит может выпить рюмочку хереса.
С легкой руки юных Уорвиков, они все за глаза называли леди Бекенхем не прабабушкой, а ПБ.
– Херес нынче становится все хуже и хуже, – совсем по-стариковски заметил Кит. – Теперь он напоминает микстуру от кашля.
– Так тогда не пей, – предложила Иззи.
– Не могу. Бабушка расстроится.
– Уже идем… Ой, подожди минутку, мне соринка в глаз попала. Сейчас достану платок, вытащу соринку и пойдем.
Иззи полезла в кожаную сумку, где лежали книги и журналы, которые она обещала почитать Киту. Оттуда выпала пара фотографий.
– Вот и те снимки. Я их захватила, чтобы показать Адели. Те самые.
Но тут Нони подхватила снимки, вгляделась в них, а потом сказала:
– Кит, а я и не знала, что ты умеешь грести.
– Какой же это Кит? – улыбнулась Иззи. – Это мой папа. Его зовут Себастьян. Помнишь, он сюда приезжал? А эти фотографии сделаны, когда ему было столько лет, сколько Киту сейчас.
– До чего же он похож на Кита, – сказала Нони. – Ну совсем-совсем похож. Ты уверена, что это не Кит?
– Конечно. Снимки старые. Кит тогда еще не родился.
Наконец Иззи вытащила соринку.
– Ну вот, соринки больше нет. Нони, положи снимки обратно в сумку и пойдем с нами за хересом. Кит мечтает поскорее выпить рюмочку.
Естественно, Кит слышал слова Нони. Он терпеливо ждал, когда Иззи возьмет его за руку и отведет в столовую. Он не особо задумывался над тем, что болтала племянница, но в глубине разума всплыло какое-то неясное воспоминание. Всплыло и стало отчетливее. Сам Кит этого даже не заметил. Но воспоминание притаилось, дожидаясь своего часа и зная, что однажды оно очень понадобится Киту.
– Как подумаю, что на следующей неделе Бой будет уже здесь, – вздохнула Венеция. – Мне почему-то страшно. Не знаю, как себя с ним вести, о чем говорить, что рассказывать.
– Хочешь, чтобы я…
– Нет, спасибо. Это мой удел, перепоручить не могу. Он предложил в среду прийти на ланч.
– И куда?
– В «Дорч». Неплохая нейтральная территория. Боже мой…
– Не хочешь захватить с собой несколько снимков Фергала? Так, на всякий случай.
– Даже не знаю. Пожалуй, возьму. А на выходные он собирается в Эшингем. Хочет увидеть детей. Мальчишки к тому времени тоже приедут. Так что увидит Фергала живьем. Как это все смешно и глупо. Нужно было ему сказать еще в самом начале. Ну почему я…
– Слушай, если ты еще раз произнесешь эти слова, я закричу во все горло, – радостным тоном пообещала Адель. – Если твоя голова еще способна думать на другие темы… Словом, мне нужно найти длиннополую норковую шубу. Я с ума схожу. Где? В наши-то дни!
– Ой, не знаю. Ты спрашивала…
– Само собой. И у бабушки тоже. Боюсь, в этот раз мне придется объявить себя проигравшей. Такой позор. Это затея нового художественного редактора «Стайла». Потрясающий человек. Седрик в этот раз на меня жутко рассердился. Хотел все съемки заграбастать себе. А я ему такой подарок делать не собираюсь.
Долгожданный отпуск не оправдал ожиданий Боя. Первые дни все было просто замечательно. Он просыпался, радуясь утренней прохладе. Теперь даже самые жаркие дни английского лета казались ему прохладными. Ему была доступна немыслимая роскошь: возможность принимать ванну, когда пожелает, хотя и он не имел права превысить пятидюймовый лимит уровня воды. Последний раз он плескался в ванне, попав ненадолго в Каир… Здесь в воздухе не носилась песчаная пыль, не донимали насекомые-кровососы… Словом, отдыхай и радуйся.
Но очень скоро Бой почувствовал одиночество. Он остановился у себя на Понт-стрит. Поначалу ему нравилось, что рядом – никого. А потом он затосковал по общению. Он слишком привык сутками находиться среди людей. Среди тех, с кем вместе ходил в бой, выдерживал тяготы жизни в пустыне, радовался победам и глотал горечь поражений. Но всего тяжелее было терять друзей. Они стали его семьей, и он не делил их на офицеров и солдат. Во многом все они были ему гораздо ближе, чем его настоящая семья.
Казалось бы, глупо тосковать по теплому пиву и вечным консервам, а также по жутким условиям, в которых они жили, однако всего через несколько дней лондонской жизни Бой почти затосковал. Войну в пустыне называли очень личной войной. Все, кто там побывал, соглашались с этим определением. Сражавшиеся в пустыне чувствовали себя отрезанными от остального мира. Это было сравнимо с одиночеством в масштабе Вселенной. Такие мысли часто посещали Боя, особенно по ночам, когда над головой вспыхивали крупные яркие звезды. Тогда одиночество ощущалось буквально всем телом.
Он позвонил своим прежним лондонским друзьям. Практически все они где-то работали и были поглощены делами и собственной жизнью. Даже его знакомые женщины. Точек соприкосновения было очень мало. Все только и говорили о трудностях и жаловались на лишения, но по сравнению с тем, через что прошел и что пережил он, это казалось мелким и незначительным. У Боя это вызывало только раздражение. Однажды он не выдержал и сорвался. Это было в доме его хорошей знакомой, которая из лучших побуждений пригласила его на обед, однако за столом без конца говорила о необходимости растягивать талоны на бензин и самой готовить еду. Уходил он с тяжелым чувством, досадуя на свою несдержанность и зная, что больше его сюда не позовут.
Лучиком света оставалась для него скорая встреча с детьми, но даже она была омрачена необходимостью лицезреть Фергала. Но вначале ему предстояло увидеться с Венецией, и необходимость этой встречи ужасала Боя. Он до сих пор злился на бывшую жену и презирал ее. Впрочем, за что? Как бы глупо это ни звучало, за наставленные ему рога. Умом Бой понимал, что не вправе ни злиться, ни осуждать ее. Сам он обманывал Венецию гораздо чаще и при гораздо более серьезных обстоятельствах. Однако, как он ни пытался, он ничего не мог с собой поделать. Он не знал, какой будет их встреча и разговор, не знал, ждать ли, пока она сама затронет щекотливые темы, или заговорить о них первому…
Он уже начинал сожалеть, что предложил встретиться в «Дорчестере», а не в каком-нибудь более тихом месте. Там могут быть общие друзья, которые вклинятся в разговор и ненароком упомянут имя любовника Венеции, кем бы тот ни был. С другой стороны, это лучше, чем разговор с глазу на глаз, где никто не помешает выяснять отношения. Ему не хотелось говорить с ней наедине, почему он и предложил встретиться в «Дорче».
Ведь это всего лишь ланч. А потом… потом они расстанутся на конструктивной и дружественной основе.
– Миллер, ты выглядишь усталой, – сказала Парфитт, озабоченно глядя на боевую подругу. – Что стряслось? По милому дружку затосковала?
– С чего ты взяла? Нет, конечно, – поспешно отмахнулась Барти.
Эх, знала бы прямолинейная, бесхитростная Парфитт, что с ней на самом деле стряслось!
Находясь с Лоренсом, Барти могла думать только о нем. Это с ней бывало и раньше: он заставлял ее целиком сосредоточиваться на нем и отметать все прочие мысли и потребности. Но сейчас, когда Лоренса не было рядом, когда исчезло манящее и тягостное состояние наслаждения и боли, ей показалось, что она почувствовала незримое присутствие Джона. Шокированного, уязвленного, понимающего, что она его предала.
Как вообще она могла допустить такое? Она, всегда отличавшаяся щепетильностью в вопросах морали и твердостью своих принципов. Как могла она обмануть человека, за которого обещала выйти замуж и которому признавалась в своей любви? Человека, всегда бывшего с ней нежным, внимательным и заботливым. Барти не могла припомнить ни одного случая, когда Джон рассердил бы ее или вызвал хотя бы малейшее раздражение. Она удивлялась и ужасалась самой себе. Пробормотав какие-то неубедительные протесты, почти не колеблясь, она легла в постель с тем, кто причинил ей столько горя и страданий. С тем, кто женился на другой, нелюбимой женщине только ради того, чтобы побольнее ударить Барти. Откуда в ней такая неразборчивость? Почему она так легко позволила ему снова ее соблазнить?
Ее поступку не было никаких оправданий. Совершенно никаких. Она ведь не была одинокой. Ее никто не унижал, над ней никто не издевался. Ее любили, о ней заботились, ею восхищались. Охваченная жгучим раскаянием, Барти подумала об Адели. Та несколько лет ждала, чтобы соединиться с любимым человеком, согласившись на достаточно унизительные отношения. А Венеция? Из капризной пустышки она превратилась в женщину, знающую себе цену. На долю Барти не выпало и сотой доли тех тягот, что стойко выносили близняшки. Ей было некогда скучать. Она занималась тем, что приносило ей радость и удовлетворение. Она жила в тепле, ела досыта. Ее окружали подруги.
Под каким углом зрения ни посмотри, увидишь вероломную, эгоистичную, потакающую своим страстям женщину, в которой Барти со стыдом узнавала себя.
Может, у нее есть некий серьезный дефект психики или психологический изъян, о котором она не подозревала? Только этим еще как-то можно объяснить – но не оправдать – ее отвратительное поведение. Душевные терзания не могли не сказаться на физическом состоянии Барти. Ей было просто худо. Настолько худо, что ее одолевала бессонница. Есть не хотелось. Она пребывала в отрешенном состоянии, с трудом сохраняя внешнюю видимость прежней Барти. Так продолжалось до очередной встречи с Лоренсом. Тогда она оживала, подавленность сменялась бурным, неуправляемым счастьем. И снова весь мир замыкался на Лоренсе. Она забывала постоянно даваемые себе обещания расстаться с ним и даже прогнать его, объявив, что между ними все кончилось еще пять лет назад. Откуда у него эта смехотворная уверенность, будто он снова может подчинить ее своей воле?
Однажды Барти все же попыталась сказать ему об этом. Он только улыбнулся:
– Неужели ты думаешь, я позволю тебе снова исчезнуть из поля моего зрения? Я и так потерял без тебя столько лет.
В чем-то он действительно изменился. Стал менее требовательным, научился хотя бы немного идти на уступки. Он больше прислушивался к ее словам и суждениям и даже допускал, что в данной ситуации она вполне может чувствовать себя виноватой и испытывать эмоциональный дискомфорт.
– Одного я в толк не возьму: совершенно не представляю, как ты могла собраться замуж за другого, когда на самом деле по-настоящему любишь только меня?
– Лоренс, да как у тебя язык поворачивается меня упрекать? Ты женился на другой женщине, и у тебя от нее есть дети.
– Я тебе уже объяснял: я это сделал, только чтобы тебя позлить.
– Ты спятил, – сказала Барти, но потом увидела, что он улыбается.
– Я люблю тебя, Барти. Я тебя очень, очень люблю.
Она молчала. Лоренс смотрел на нее и больше не улыбался.