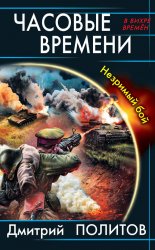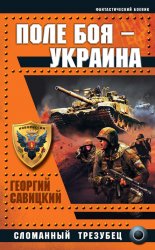Князь оборотней Волынская Илона

Аякчан старалась, у Дьайык выторговывала. Надо надевать. Штаны оказались холодными и неприятно липли к ногам. Хадамаха вздохнул… и перекинулся. Негромко рыкнул — от удивления. На Хадамаху уставились пять с половиной пар любопытных глаз. Заяц двумя глазами сразу глядеть не мог и поэтому поглядывал то одним, то другим.
— Хвост… придавило… — выворачивая голову и разглядывая действительно растянувшиеся на весь зад штаны, рыкнул медведь.
— Для хвоста можно дырочку прорезать! — решительно объявила Аякчан. — Ну-ка перекинься обратно!
Хадамаха перекинулся. Штаны послушно стянулись.
— Какой-то у них бабский вид. — Хадамаха уставился на свои волосатые ноги, торчащие из коротких штанин.
— Зато без них, в голом виде, у тебя вид очень даже мужской! — ехидно хмыкнула Аякчан. — Не ошибешься! Что я тебя уговариваю? Не хочешь — не бери, я другое желание загадаю!
— Он хочет, — твердо сказала Дьайык.
Хадамаха неуверенно кивнул: лучше такие штаны, чем после каждой смены облика голым задом светить!
— Однако, злым духом займемся? — напомнил Донгар.
— Да-да, мы уже уходим. Удачи тебе, черный, и друзьям твоим. — Верхний дух убрался куда-то в глубь чума, утащив за собой Дьайык. Заяц прижался мохнатой спинкой к ноге Аякчан и ускакал следом.
Донгар направился к сундуку, и Хадамаха пошел за ним, все еще оглядывая обновку и то и дело оттягивая верхний край штанов. Этот самый край не больно, но гулко шлепал по животу.
— Какой зверь ходит в такой шкуре? Странное место тот, другой мир! — наконец заключил он.
— Однако странное! — откликнулся Донгар.
— Может, Канда и не хотел Эндури своим подарком обижать? — продолжал рассуждать Хадамаха. — Если в том мире столько странностей, вдруг у них икра такой ценной едой считается, что ее в железные банки кладут?
Донгар даже споткнулся на этих словах:
— Ты еще скажи, что они простую кильку по железным банкам раскладывают!
Хадамаха еще подумал — и согласно кивнул. Да уж… Такое даже не вообразишь!
— Злой дух Канду подбил еду другого мира простой икрой подменить, над Верховным посмеяться, — солидно пояснил Донгар. — Природа у него такая — от пакости удержаться не может!
— Знаешь, что за дух? — заинтересовалась Аякчан.
— Догадаться нетрудно. На том его и брать будем! Лавку тащите! — Донгар кивнул на сохранившую гигантские размеры скамью.
Пыхтя и ругаясь, приволокли лавку к сундуку — Аякчан суетилась вокруг, то подскакивая сбоку, то налетая сверху. Вскарабкались на скамью, взялись за крышку сундука… Хадамаха напружинил мышцы, уперся ногами… Рядом от усилий захрипел Хакмар… Хадамаха чувствовал, как жилы вздуваются на шее, а на руках пробивается медвежья шерсть… Уперся сильнее…
Крышка сундука со скрипом поднялась… и отлетела назад. В сундуке бушевала Бездна. Варево всех цветов сполохов струилось, перетекало, и в этом сводящем с ума скольжении чудились жестко спрессованные тела. Мелькнули переплетенные руки, жуткий глаз пристально уставился на Хадамаху, моргнул недоуменно и пропал, на его месте возник жадный плямкающий рот…
— Хадамаха, хватит пялиться! — Донгар присел на корточки под прикрытием стенки сундука. — На кромку сундука садитесь! — шепотом скомандовал он. — Аякчан рядом с Хадамахой, Хакмар — в сторонке. Хадамаха с Аякчан целуются, а ты делай вид, что против!
— Я против! — немедленно вскинулся Хакмар.
— Чего это я должна с ним целоваться?
— Делайте, так надо! — Донгар больше скукожился под прикрытием сундука.
— Совсем обнаглел, шаман! — Аякчан наконец уселась рядом с Хадамахой. Ворчащий Хакмар пристроился поодаль.
— Ну? — требовательно прошипел Донгар.
Хадамаха торопливо отвернулся, снова поймав на себе любопытный взгляд плавающего в цветном месиве глаза. Придвинулся к Аякчан. Их лица сблизились, губы оказались совсем рядом… и они замерли, в упор разглядывая друг друга.
— Что вы как дети малые, целоваться не умеете, однако?
— Сам-то ты со своей Нямкой и своей Тасхой хоть раз целовался? — возмутилась Аякчан, схватила Хадамаху за уши, как кувшин за ручки, прижалась губами к его губам.
«Она мне сейчас зубы в глотку вдавит!» — в панике подумал Хадамаха… и тут же чуткий медвежий слух поймал шепот.
— Что сидишь, смотришь? — шептал кто-то рядом с Хакмаром. — Это ж твой вроде как друг целует твою вроде как девушку! Все жрицы Храма — предательницы, нельзя им верить! — шелестел вкрадчивый, убедительный шепот. — А парень из Мапа — просто животное! У тебя меч на боку — отомсти им, если ты мужчина!
Поверх головы Аякчан Хадамаха видел, как глаза Хакмара полыхнули красным, а ладонь легла на рукоять меча. Хадамаха дернулся, пытаясь высвободится из рук Аякчан… Мелькнула стремительная тень, и Донгар хлопнулся животом на край сундука, по плечо запуская руку в кипящее там жуткое варево.
— Попался, однако! — В руке черного шамана что-то билось и дергалось, норовя утащить в глубину. Опомнившийся Хакмар изо всех сил вцепился Донгару в парку, не давая свалиться в сундук… Донгар захрипел… и выволок на поверхность…
Хадамаха отпрянул! Именно эту гнусную рожу он смог разглядеть сквозь расплывающиеся черты шамана Канды: с торчащим из перекошенной пасти клыком, одним глазом прижмуренным, вторым — безумно выкаченным.
— Так я и знал, что вылезет! Против своей природы не попрешь! — устало выдохнул Донгар. — Вот он, эми-гэт шамана Канды! Илбис, дух раздора и кровопролития!
Свиток 47,
повествующий об эпической битве со злым духом раздора Илбисом и славной победе
Пойманная Донгаром тварь пронзительно завизжала и рванулась. Черный шаман булькнул в сундук, как неудачливый рыболов за слишком крупной рыбиной. Что-то с бешеной силой ударило в борт гигантского сундука. Кромка сундука ушла из-под Хадамахи, и он полетел вниз, прямо навстречу пялящемуся на него громадному глазу. И ухнул точно в середину зрачка. Стало темно, будто глаз испуганно зажмурился. Зато вокруг все вспыхнуло блеклыми, но пестрыми красками, точно он плавал среди сполохов в темном небе. Варево в сундуке оказалось теплым, как едва начавшая нагреваться вода в котелке, вязким и странно слоилось, распадаясь на цвета. Чпок! Сквозь пленку красного цвета прорвались Аякчан с Хакмаром и, изо всех сил работая руками и ногами, двинулись на глубину. Хадамаха рванул следом — плыть сквозь цветные слои было все равно что мешать лапами ягодный кисель. Разве что не сладко совсем. Сквозь пленку изумрудно-зеленого цвета Хадамаха прорвался к молочно-белой, потом к солнечно-желтой… Ему казалось, он видит странных существ: человека с головой ворона, карлика в кухлянке цвета Рыжего пламени, коня со змеями вместо гривы…
Впереди мелькнули ноги Аякчан, Хадамаха наддал и, будто брошенная в воду деревяшка, выскочил на поверхность… Великой реки! Хадамаха поднатужился, вылез и встал — черная вода по-прежнему его держала. Хоть больше и не была черной. Точно ленты в девичьей косе, антрацитовую гладь вод перевивали алые струйки. Как после большой охоты, сильно и остро пахло свежей кровью. Серая мгла вокруг тоже вся пропиталась кровью — у берегов капало, как с тряпки. Посреди Реки стоял шаман Канда. У ног его плавал изорванный в клочья харги. Хадамахе даже стало жаль хищного харги, натолкнувшегося на хищника покрупнее.
— Выс-с-следили! — прошипел шаман. Его лицо больше не было пустым туманно-серым овалом — Хадамаха увидел перекошенный рот и выпученный глаз Илбиса, духа раздора и кровопролития. — Плох-хо, ш-што вас, черных ш-шаманов, не видно и не слыш-шно, пока вы близко не подберетес-сь! Ведь знал же, чш-што ты меня ищешь, а все равно попался! — В такт речи кровь приливала к его единственному глазу. Прильет и отхлынет, делая его из алого и выпученного пустым и ссохшимся, и снова прильет… — Думаеш-шь, Верховный дух от такого умения твоего счастливый очень? — оскалился дух раздора. — Вдруг ты и к нему так подберешься да за шкирку ухватишь? Один раз вас, черных шаманов, верхние духи извели — трудно им снова это сделать? Теперь, когда ты один!
— Я не один, однако! — Донгар кивнул, и Хадамаха как-то сразу понял, что надо делать. Он оттолкнулся от поверхности Черной реки и заскользил назад и вбок, совсем как по обычному льду. Увидел, тем же манером разъезжаются в стороны Хакмар и Аякчан, четко становясь на вершины невидимого ромба, в центре которого был заключен дух. Стоящий на дальней вершине Донгар покачал головой, как Хадамахина мама перед шкодливым медвежонком — не может не шкодничать, неслух, такая уж его природа! Только природа наказания не отменяет. В руках Донгара оказался деревянный идольчик с ладонь величиной. И голосом, каким набезобразничавших медвежат зовут подставлять лохматый зад под тяжелую материнскую лапу, позвал Илбиса к себе:
— Иди сюда!
— Впрямь обнаглел, черный, как твоя голубоволосая подружка про тебя говорит… — начал дух раздора… Вода взбурлила, и, повинуясь подманивающему пальцу шамана, поток понес духа к Донгару. — А ну, стой! — гаркнул дух, падая на карачки. В этой позе он совсем не казался смешным, как не кажется смешным изготовившийся к атаке дикий кабан. Вода замерла, точно испугавшись. Дух раздора поднял голову — единственный клык ярко блестел в его ухмыляющейся пасти.
— Что бы он ни творил, не сходи с места! — прошелестел голос Донгара прямо Хадамахе в уши, хотя сам Донгар и стоял далеко.
— А чего он может? — немедленно поинтересовался Хадамаха.
— Ай-ой, он же дух раздора, — снова неслышным шепотом откликнулся Донгар. — Все, что раздирает, — в его власти! — Донгар отпустил зажатого между пальцами идола, и тот завис в воздухе над Черной рекой, точно на невидимой подставке. Донгар снял с пояса бубен, и туго натянутая кожа зарокотала под его пальцами. — Эдим болган, малым болган Эрээн шокар ээрен дезум… — негромко запел шаман. — Мой корень, мой пестрый идол, он стал моим оружием, моим скотом…
Идол начал разрастаться. Вот он уже с человеческую голову величиной, вот уже с половину человеческого роста, вот стал размером со столб идолов перед входом в шаманский чум.
— Заставил дрожать шею и плечи, хребет и лопатки, руки и ноги… — пел шаман.
Стоящего на четвереньках духа пронзила дрожь. Моталась, как у пьяного, голова, тряслась спина, по ней точно пробегали волны, начинаясь от лопаток и скатываясь вниз по хребту. Руки подломились в локтях, подогнулись колени, и дух распластался на антрацитовой речной глади. Деревянные губы идола потянули воздух в себя. Илбис заскользил к нему, как по льду.
— Не пойду! — Между идолом и духом точно невидимый канат натянулся. Пару мгновений они тягались — деревянный идол и упирающийся дух. Скольжение остановилось. Не вставая, дух начал отползать назад — медленно, мучительно, будто разрывая клейкие нити. Губы идола скривились в гримасе разочарования и снова застыли в неподвижности. Сказал бы одеревенели, так они всяко деревянные.
Донгаров бубен зарокотал громче и настойчивей:
— Этот дух был из Нижней земли, кыыт-кыыт, потом из Верхней земли, кыыт-кыыт, у него румяное от крови лицо, кыыт-кыыт, от него везде большая беда, кыыт-кыыт, я поймаю этого духа!
Из груди, ладоней, стоп и коленей Хадамахи, извиваясь, как змеи, поползли туманные веревки и медленно потянулись к духу раздора. Аякчан и Хакмар стояли далеко, но было видно, что веревки ползут и от них, сплетаясь вокруг Илбиса.
— Шаман вас высосет… Насмерть изведет… — цепляясь удлинившимися когтями за поверхность Черной реки, прохрипел дух. — Он же черный, вы ему нужны, чтобы силу брать!
Хадамаха понял: когда сеешь раздор, главное — искренность, правдивость и убедительность. Донгар сейчас тянул из них силу, правда? Правда! Хадамаха даже чувствовал слабость, как бывает от голода. Донгар — черный шаман, которому ни друзей заводить, ни заботиться о них не положено. И снова правда! А уж сколько искреннего беспокойства за судьбу троих несчастных, попавших в лапы черного, звучало в голосе Илбиса — не измерить и не сосчитать.
Хадамаха почуял, как гнев на черного шамана вспыхивает в его груди. Туманные нити, ползущие от Аякчан и Хакмара, вдруг замерли, обвисли, как дохлые змеи. Хакмар потянул из ножен меч, а в руке Аякчан вспыхнуло Голубое пламя. Хадамаха сам готов был сорваться с места и кинуться к Донгару, бить морду предателю…
— Стоять! — От пронесшегося над Черной рекой рева заложило уши — так сильно, что Хадамаха не сразу понял: ревет он сам. — Мы Донгара давно знаем; кого будем слушать: его или эту тварь?
— Давно знаем. Тысячу Дней… — тихо, но отчетливо слышно даже издалека прошептала Аякчан.
— Это — наш Донгар! — внушительно рыкнул Хадамаха… и стихший бубен снова зашелся быстрой дробью.
— Злой дух не хочет покорным быть, прошу вас о помощи… — пел Донгар, и тянущиеся из тел его друзей призрачные нити начали сплетаться вокруг Илбиса в плотный невод, как на крупную рыбу.
— Разум вам черный шаман затуманил, души захватил! — Дух раздора отчаянно рвался, пытаясь отклеиться от поверхности Реки.
— Упорный, — похвалил его Хадамаха. Тянущиеся от него и ребят нити прошили ткань Черной реки, подводя сеть под духа раздора. Горловина пока еще призрачной, как паутинка на ветру, сети тянулась к Донгарову бубну, подрагивая в такт быстрым ударам.
— Я загоню духа в идола, кыыт-кыыт, пойду в край, где леса, кыыт-кыыт, с пойманным духом вернусь домой…
Дух раздора вдруг перестал дергаться. Точно смирился. Нет. Точно сосредоточился. Хадамаха успел предостерегающе заорать и перекинуться. В черной воде у его ног распахнулась пасть, усеянная острыми игольчатыми зубами. Медведь качнулся назад — отпрыгнуть скорее! И замер, отчаянно балансируя лапами, башкой и хвостом. Ни за что не сходить с места, так сказал Донгар! Пасть впилась зубами в переднюю лапу. Боль была раздирающей. Что раздирает, то во власти духа раздора! Медведь ударил лапой — когти вошли в мягкое, слабо чвякнувшее. Нанизанное на когти розовое гладкое тело громадного, в медвежью лапу толщиной, червя показалось над водой, но страшные зубы только вгрызлись глубже. Медведь тащил… но червь растягивался, растя-ягивался… От боли мутилось в голове. Сквозь пляшущие перед глазами цветные круги он увидел Хакмара, отмахивающегося мечом от мелких черных тварей, вооруженных жуткими крюками для раздирания мяса. Вокруг Аякчан сияющим хороводом носились Огненные шары и бабахали взрывы. На медведя нахлынуло отчаяние — и он вдруг понял, что отчаяние не его. Лапа горела, как в Огне, боль лишала сил, а ему чудилось, что это болят руки под тяжестью бубна и колотушки, что вместо рева в горле клокочет шаманская песнь, и, срывая голос, он выкрикивает почти бесполезные слова, понимая, что все, не сладили! Твари раздора рвут ребят, и истончается, слабеет сплетенная шаманством сеть, и кривится в мерзкой ухмылке дух раздора, готовый вырваться на волю…
Медведь разозлился и… багровая ярость племени Мапа хлынула из него — да в шамана, а оттуда в шаманский бубен, а оттуда в сеть. Тонкие, почти прозрачные нити налились густой чернотой, уплотняясь прямо на глазах и стягиваясь вокруг пронзительно завопившего духа. Медведь увидел, как там, где сражалась Аякчан, полыхнуло Пламя — и ощутил себя легким и прекрасным, как пляшущий в костре Огонь. Его тело вдруг охватил Жар, убийственный для любого, но в тот миг он наслаждался Жаром, как теплом разогретого чувала. Жар пронесся сквозь него — Пламя взвилось вокруг Донгара и ударило из шаманского бубна, разливаясь по уже накачанным медвежьей силой и яростью нитям. Оплетающая Илбиса сеть полыхнула сапфировым Огнем. И в тот же миг медведь ощутил тяжесть меча в лапе и прежде, чем он успел разобраться, откуда взялся меч, почувствовал, как бушует в его жилах Алое пламя, способное плавить металл. Новый шквал Огня, по-мальчишески дерзкого, уверенно-деловитого, как горские мастера, и стремительного, как горские мечники, пронесся сквозь тело медведя. Из Донгарова бубна выплеснулся столб Алого пламени, и рубиновые нити вплелись в ловчую сеть шамана, соединяясь с сапфировыми. Донгар, дымящийся, в горелой парке и странно лохматый, будто медведь, лихо крутанул бубен, затягивая горловину сети. Напитанные силой и двойным Пламенем веревки облепили духа раздора, сжимаясь вокруг него в тугой кокон. Донгар рванул бубен на себя, и бьющийся и визжащий сверток поволокло к идолу.
Разомкнулись деревянные губы, идол гулко захохотал. Похожая на дупло глотка раскрывалась все шире и шире.
— Это еще не все! — визжал дух раздора. — Раздор легко разжечь — трудно потушить! Вы еще пожалеете-е-е! Не хочу-у!
Донгар взмахнул бубном. Сеть со спутанным духом описала широкую дугу… и вопящий Илбис с размаху влетел в раззявленный деревянный рот.
«Метко вбросил, не хуже, чем я!» — мысленно похвалил медведь.
Идол вспыхнул изнутри. Потоки двухцветного красно-сапфирового Огня вырывались у него из грубо прорезанных глаз и едва намеченных ушей, рой ярко-алых, голубых, золотых и серебрянных искр взвился плотным облаком, потом бабахнуло… и маленькая, до черноты закопченная и обожженная деревянная фигурка упала на подставленную ладонь черного шамана. У идола был перекошенный жабий рот с торчащим из него единственным клыком и безумно выкаченным глазом. Другой глаз был плотно зажмурен.
— Зря я, однако, у Канды в учениках маялся? — сам себя спросил Донгар. — Нашел ведь таки! В этом самом идоле отец Канды духа раздора Илбиса держал, а до него — его отец, а до того — дед да прадед. Только Канда слаб оказался — торговец он, не шаман. Против природы не попрешь.
— Тебя послушать, так на Сивире раздоров не было, потому что семейство шамана Канды братца Илбиса в идоле держало, а вовсе не благодаря постоянным усилиям Храма? — возмутилась Аякчан, но как-то слабо, без Огонька. Только искры на пальцах сверкнули.
— Вот только не надо про Храм! — скривился Хакмар. — Я, кажется, только что был тобой! Я теперь про ваш проклятый Храм столько знаю! Слово егета, быть медведем и шаманом мне понравилось больше!
— А мне не понравилось побывать тремя парнями по очереди! — взвилась Аякчан. — Медведь и правда среди вас самый приятный! Лохматенький…
— Вот сейчас Хадамаха скажет, кем ему хуже всего пришлось! — пригрозил Хакмар, поворачиваясь к уже принявшему человеческий облик Хадамахе. — Хадамаха, что скажешь?
— Скажу, что понял! — откликнулся Хадамаха. Он держал на вытянутых руках дохлого червя с зубастой пастью. Потянул… червь послушно растянулся чуть не вдвое. Отпустил… чпок! Червь стянулся обратно. Хадамаха поднял полные благоговейного ужаса глаза. — Понял, из чего жители другого мира шьют штаны! — он похлопал по даренным на Верхних небесах штанам. — Из червяков!
Свиток 48,
рассказывающий о бесславном мордобое и скандале
Отец, ты что делаешь?! — отчаянно закричал Хадамаха.
Только что в сером туманном берегу Черной реки распахнулся лаз, и Хадамаха прыгнул туда вместе с ребятами. Мир привычно перевернулся перед глазами — к чему только не привыкнешь, если дружишь с черным шаманом! — и Хадамаха грянулся об землю. Об среднюю Сивир-землю. Поднялся, с усилием подбирая под себя руки-ноги, и понял, что шарахнулся даже сильнее, чем думал. До цветных маячек перед глазами. Маячилось ему несусветное — вырубка перед Буровой, по которой словно прокатилась битва. Валялся знакомый Хадамахе дед, тот самый, что с ковриком. Сейчас он сам походил на свой коврик — безжалостно скомканный и отброшенный прочь.
«Пьяный, хмельной аракой напоили!» — роем болотной мошкары звенело в голове у Хадамахи, но парень уже видел, что смешной и вредный старик безнадежно мертв. Хадамахин отец в медвежьем облике драл когтями толстого младшего жреца с Буровой. Жрец орал, пытаясь вырваться из медвежьей хватки, отец торжествующе ревел. Брызги теплой крови ударили Хадамахе в лицо.
— Отпусти, отец, ты же убьешь его! — Хадамаха прыгнул вперед.
Молодой черный медведь грудью ударил старого вожака. Окровавленный жрец вылетел из свалки. Упал на колени, завывая от боли и зажимая измочаленное медвежьими когтями предплечье. Сверху спланировал крылатый — удар клюва пришелся жрецу в лоб, тот упал и замер без движения. Люди бежали к Буровой. Беглецы проскакивали в приоткрытые створки, а перед воротами отчаянно отмахивались копьями стражники, удерживая узкий проход от напирающих с двух сторон тигров и медведей. Разъяренные крылатые стаей вились над головами, оглушая стражников ударами клювов и крыльев. В просвет между копьями ринулась Белоперая и тут же взлетела, волоча в когтях дядьку Бата. За бегущей к воротам бабой молча и неумолимо гнались тигрица и медведица. Золотая и… перекинувшаяся Хадамахина мама!
Молодой медведь яростно взревел, выдираясь из хватки старого, матерого зверя. Меховым шаром откатился прочь — обхватил обеими лапами настигающую бабу-медведицу. Тигрица замешкалась на миг, пытаясь понять, что за вой и крики… Баба вильнула, уворачиваясь от кинувшегося наперерез тигра, проскочила стражникам за спину…
— Аа-а-а! — Белоперая швырнула дядьку Бату на выставленные копья. Стражники шарахнулись, пытаясь пропустить летящее тело. С диким ревом тигры и медведи смяли их и ринулись к воротам.
Пш-шш! — волна Голубого огня прокатилась перед самыми мордами бегущих впереди Амба. Тигры с воем метнулись назад, кое-кто катался по земле, сбивая Пламя с шерсти. Напирающие следом медведи врезались в тигров, два племени сбились в мохнатый клубок.
— Что встали, бегите! Скорее! — проревел молодой черный медведь.
Стражники подхватили на руки раненых и вломились в ворота Буровой. Створки с грохотом захлопнулись. Стая пронзительно вопящих крылатых перелетела острые колья забора — выставив когти, они пикировали на бегущих через двор людей.
Ручейки Рыжего огня, точно яркие змейки, побежали по решетчатой вышке Буровой, перескакивая с одной перекладины на другую. Буровая засветилась на фоне неба, будто нарисованная пылающей Огненной кистью. И вспыхнула. Огненные стрелы ударили во все стороны, раздались хриплые вопли… Стая крылатых снова просвистела над забором — в обратную сторону. Хвосты дымились, наполняя воздух смрадом жженых перьев.
Тигры и медведи ответили яростным ревом.
— Медведи, навались! Прорвемся! — проревел старый медведь Эгулэ.
И тут же рухнул — из толпы словно вылетело мохнатое ядро. С неимоверной силой врезалось в вожака, сбило с ног… Молодой черный медведь совсем по-человечески подхватил вожака обеими лапами, вскинул над головой, размахнулся… и швырнул в толпу.
— Стоять, я сказал! — Рев, накрывший толпу, заставил распластаться на брюхе, цепляясь когтями за раскисшую грязь. Просвистевший над головами яростный ветер трепал уши, вышибал слезы из глаз и полоскал в воздухе тигриные хвосты. Черный шаман вернул колотушку обратно на пояс. Вырезанный на колотушке дух недовольно кривился: — Я п-привык к т-тонким п-переговорам, а н-не глоткой брать!
— Иногда глоткой понятнее, однако! — шепнул в ответ шаман, становясь бок о бок с медведем.
Сверху мелькнул голубой росчерк, и рядом опустилась Аякчан. В несколько прыжков Хакмар прорвался сквозь ошеломленную толпу. Четверка замерла перед воротами.
Хадамаха аккуратно перетек из медвежьего облика обратно в человеческий. Из толпы выбрался встрепанный Эгулэ — измазанная грязью шерсть старого вожака стояла дыбом.
— Р-родителем кидаешься? Не пр-робросайся! В медвежье бешенство впал — на отца лапу поднял?
— Я уверена, он ничего плохого не имел в виду! — Маме, как всем медвежьим женкам, второй облик достался после свадьбы, и голос ее больше походил на человечий. — Он просто не разобрался…
— А-р-р, родню в шерсти не признал! — издевательски рыкнул старый вожак.
— Хватит дурь молоть! — рявкнул Хадамаха, и в голосе его и без медвежьего облика, и без духа-помощника с шаманской колотушки клокотала такая громовая ярость, что над толпой ворчащих и порыкивающих сородичей повисла тишина. — Чем вы тут занимаетесь, пока мы со злым духом сражались? — Теперь голос Хадамахи скрежетал, как вскрывающийся на реке лед.
— Я же говорила, что он не понял! — возрадовалась мама. — Мы тебе помогаем, сыночек!
— Дети… непонятливые! — проворчал отец. — Брат тоже не понял!
— Где Брат? — вскинулся Хадамаха.
— Там! — отец ткнул лапой в сторону Буровой. — Обшаманил сына злой шаман… не в обиду господину черному шаману! Как мы с Черной реки вывалились, так и решили с шаманской тварью расквитаться — снова не в обиду господину черному! — что нас на Реку закинул да насмерть зашаманить хотел. И уж начали, да твой Брат Канду на плечо, дочку его — под мышку… и к Буровой. Пр-редатель медвежьего народа!
— Говоришь, как братья Биату, когда он Белого тигренка спас!
— То Кандины происки были! А сейчас — справедливо! — упрямо рыкнул отец. — Кандину женку малодневную с собой прихватил, перед крылатыми неудобно!
— Моя лишенная крыльев сестра предала крылатое племя! Ей нет больше места среди нас! — проклекотала Белоперая.
— Черноперый ваш, который ее Канде продал, тоже так говорил! — напомнил Хадамаха.
— Тогда было неверно, а сейчас — верно! — вскрикнула Белоперая.
— А у тигров кто теперь там, за воротами? — искренне поинтересовался Хадамаха.
— Тасха! — рявкнула Золотая тигрица. — Она и раньше была предательница, и сейчас предательница, это и тогда было верно, и сейчас — верно! А жрец с Буровой им ворота открыл, «сюда бегите!» кричал. Тоже предатель!
— Умгум! — кивнул Хадамаха. — С Кандой ясно, чего на людей взъелись?
— Так тебя ж послушались! — изумился отец.
— Меня? — Хадамаха почувствовал, что аж злость спадает, настолько он ничего не понимал! — Пап, а давай ты перекинешься — и мы поговорим по-человечески? И остальные тоже…
— Еще чего! — возмутился отец. — Чтобы ты один в штанах с толпой голых разговаривал? Где такие штаны взял, Хадамаха? — с обыкновенным любопытством, словно и не было ничего — ни убегающих людей, ни старика со свернутой шеей, ни драки с сыном, — спросил отец.
— На Верхних небесах подарили, — буркнул Хадамаха.
— Большая честь для всего племени! — солидно объявил отец. — Мой сын — первый Мапа, что не останется голым после превращения! — И старый вожак издал торжествующий рев, который подхватили остальные Мапа, а заодно и тигры. крылатые заклекотали, хлопая крыльями.
В его честь кричат все три племени! Последний раз так кричали древнему великому Князю-Медведю, тому, что побывал в Верхнем мире и получил эти уединенные земли для Мапа. Амба уже потом по следам пришли, а крылатые прилетели. И вот теперь кричали ему… за штаны из Верхнего мира. За оградой Буровой люди глядят да трясутся — уговорит он своих сильно озверевших сородичей вернуть себе человеческий облик или пойдут Мапа с Амба ворота ломать да тела человеческие когтями рвать? Хадамаха невольно прислушался… За оградой никого не было. Никто не глядел сквозь щели забора, не потел от страха и не изнывал надеждой. Буровая, куда на его глазах забежала толпа народа, казалась пустой и мертвой.
— …не прав я был, признаю! Слушать тебя сразу надо было, чем Амба да крылатых подозревать, — давно бы всех людишек перебили!
— За что? — Хадамаха дико поглядел на отца.
— Так это ж все они! — возмутился отец.
— Это духи, — тихо сказал Донгар. — Дух Илбис завладел телом шамана Канды, когда дух приказывал, Канда большое зло творил… Даже в Верхнем мире от его камлания раздор вышел.
— А когда не приказывал? — заинтересовался старый Эгулэ.
— Ай-ой, когда не приказывал, Канда делал, что хотел! — Донгар смутился. — Скупал меха по дешевке, продавал плохое железо задорого. Девочек в жены за долги брал.
— У шамана всегда духи виноваты, и в третий раз не в обиду господину черному сказано! — усмехнулся Эгулэ. — А я вам скажу по-простому, по-медвежьи! Если беда на Сивире, нечего на духов пенять. Во всех бедах Сивира всегда люди виноваты!
Ребята, все трое, невольно покосились на Хадамаху. Тот сделал каменное лицо: да помнил он, помнил, что всегда и сам так говорил, еще в городе Сюр-гуде. Но он-то всех людей имел в виду, и которые с хвостами тоже!
— Ты ж, сынок, говорил — люди, а я, пень лохматый, не верил! А ведь то они — и обозников пожгли, и нас голодом морили, и вот, убивать пришли! А мой-то сын их гнилые душонки сразу распознал — недаром в страже служил! Вот перебьем всех людей — и кончатся наши беды, — с глубокой убежденностью сказал отец.
— Отец! — охнул Хадамаха. — Я тебе говорил, что Амба не виноваты, и крылатые не виноваты, и Мапа не виноваты!
— Ну нас-то никто и подозревать не мог! — возмутился отец.
Золотая ехидно ухмыльнулась во всю пасть.
— А теперь говорю, что люди не виноваты! Их Канда обшаманил, а того дух… Папа… Людей убивать нельзя! Да что мне вас, опять каменным мячом разгонять?!
— Если ты в городе был, так теперь станешь указывать отцу, что можно, а что нельзя? Хвост не дорос! Капризничаешь, как медвежонок малый. Мы хотели Амба убивать — ты был недоволен. Мы с Амба да крылатыми подружились, пришли людей убивать — ты опять недоволен! Что за дети у меня! Отойди в сторонку, Хадамаха. И друзья твои тоже. Мы их очень уважаем и за спасение от злого Канды благодарны, но дальше мы уж как-нибудь сами разберемся.
— Слушайся папу, Хадамаха, папа прав! — мягко и ласково рыкнула мама.
— Отойди, Хадамаха, — мурлыкнула Золотая. — Нас с Мапа ты помирил, на что тебе людишки? У них хвостов нет — даже таких, как у вас!
— И крыльев! Чего ожидать от бескрылых, кроме подлости? — проклекотала Белоперая. — Отойди, Хадамаха!
— Отойди! Отойди! — кричали, визжали, ревели, рычали и щелкали голоса. — Пропусти нас, Хадамаха! Так папа сказал! Так мама просит! Это я, Золотая, твой друг, пусти меня в ворота, Хадамаха! Человечий шаман подговорил братьев Биату убить меня, пусти нас, это я, Белый тигренок, пропусти! Люди подтолкнули крылатого убить моего отца-шамана, я должна отомстить! Они снова захотят убить нас, если мы не убьем их первыми, мы должны защитить наших птенцов… наших тигрят… наших медвежат… мы твои родичи, твое племя, ты же не предашь, впусти нас, Хадамаха!
Хадамаха чувствовал, как плывет под его ногами земля, а воздух становится густым, забивает горло, не дает вздохнуть. Мапа, Амба придвигались все ближе, и исчезало молодое солнце над головой, закрытое крыльями. Он видел вокруг не лица — морды. Такие знакомые, родные, лохматые морды: мама, отец, Золотая, Белый… И у каждого один глаз был чуть прижмурен, а второй страшно выкачен, а из оскаленных пастей торчал один-единственный клык.
— Раздор легко начать и трудно закончить, — тихо сказал Донгар. — Даже если духа раздора загнать в идола.
— Это мои родичи! Мои мама с папой! — Хадамаха пятился, с ужасом глядя на надвигающиеся на него жуткие рожи — нормальными мордами их уже и не назовешь!
— Значит, жечь всерьез их нельзя? — деловито поинтересовалась Аякчан. — Тогда нам будет труднее держать эти ворота, пока они не очухаются!
— А если они целый День не очухаются? — переводя взгляд с одного охваченного жаждой крови сородича на другого, спросил Хадамаха.
— Тогда мы станем держать ворота, а Айка летать за едой! — вытаскивая меч из ножен, объявил Хакмар. — Предупреждаю всех — усы и хвосты буду рубить безжалостно!
Донгар лишь молча кивнул. Четверо отступили еще на шаг и встали перед воротами, за которыми одни одурманенные люди прятались от гнева других, таких же одурманенных.
— Мама… Папа… Я… Очень вас уважаю… Ну и… люблю, конечно. — Хадамаха смутился — вот еще для нежностей место нашел! — Но… Идите лучше домой. Сюда я вас — таких — не пущу.
Свиток 49,
в котором Хадамаха, спасая Сивир, жертвует бесценным даром верхних духов, то есть опять остается с голым задом
Мать и отец дружно издали рев — и качнулись к Хадамахе.
Замерли, словно оледенев. Хадамаха видел совершенно человеческое выражение — смесь недоумения и страха — на медвежьих мордах. Взгляды были устремлены поверх головы Хадамахи на решетчатую вышку Буровой. В спину Хадамахе дохнуло теплом. В закрытые ворота что-то ударило, стремясь вырваться на волю. Качнулись створки. Буровая снова зловеще светилась — Алые огни стремительно пробегали по опорам, будто кто-то невидимый развешивал зажженные фонари, только начиненные Рыжим огнем вместо привычного Голубого.
— Там мой Брат! — взревел Хадамаха, поворачиваясь к курящимся черным дымом воротам.
Сквозь створки проступили два круглых, алых, пышущих жаром пятна. Удар! Удар! Бревна вспучились, оскаливаясь острыми щепками разломов. Нечто яростное, дышащее Алым пламенем ворочалось позади ворот, норовя выбраться наружу. Снова удар! Громадное бревно переломилось пополам, как сухая веточка, и в пролом высунулся… пятак! Здоровенный, с ладонь, свиной пятак зашевелился, принюхиваясь… и из дырок ноздрей вытекли струи Алого пламени.
— Отойти от ворот! — Голос Губ-Кин-тойона, старшего жреца Буровой, гремел не хуже, чем у его сына Донгара, когда ему помогал Кээлээни, дух из шаманской колотушки. Казалось, говорит сама светящаяся громада Буровой — столько в этом голосе было металлического лязга и Жара Пламени! — Приказываю немедленно отойти на сто шагов от Храмовой собственности! Любой, кто останется, будет атакован!
Словно в подтверждение его слов раздался новый удар. Ворота качнулись, как из бересты сделанные, еще одно бревно хрустнуло, и, расширяя пролом, в дыру протиснулась кабанья башка. Обыкновенного кабана из тех, что Хадамаха заламывал по весне в лесу… только глаза, как у дяргулей — провалы Алого пламени, а с клыков сыпались искры.
— Огненный кабан! — охнул Хакмар. — Мне его показывали, когда я на Буровую ходил. У них мастерские внизу — он там в клетке сидел. Говорят, хуже получился, чем пчелы, — неуправляемый совсем, как дяргули, которых Канда себе подчинил. То есть не Канда, а Илбис…
«А как Илбис себе Огненных дяргулей подчинил?» — вдруг промелькнуло в голове у Хадамахи. Он ведь не дух Огня! Хотя Огонь раздорам и кровопролитию родич, городская стража всегда со жрицами из Храмовой пожарной службы вместе работала — где беспорядки, там и пожары.
— И ты молчал? — заорала на Хакмара Аякчан.
— Он в клетке сидел, с вот такенными прутьями! Кто ж знал, что Донгаров папаша его выпустит! — гаркнул в ответ Хакмар.
Огненный пятак исчез из пролома и ударил снова.
— Ты еще людей защищаешь, сынок! — неодобрительно сообщил старый Эгулэ. — А они нас свиньями травят!
— Что ж им, однако, ждать? Пока вы их затравите? — вдруг разозлился Донгар.
— Не ори на моего отца! Своего бы лучше к порядку привел! — рыкнул на Донгара Хадамаха.
— Что еще ты нам про Буровую не сказал? — налетала на Хакмара Аякчан. — Дружков своих покрываешь, таких же Храмовых преступников, как и ты?
— Я не обязан тебе отчитываться, ведьма голубоволосая!
Хадамаха вдруг замер с раскрытым ртом. Они собачились, как поганые пустолайки в упряжке — как ругались по пути сюда, как ссорились между собой окрестные племена! Только теперь в их ругань втянулся Донгар. Хадамахе вдруг почудилось, что из Донгаровой сумки, где спрятан идол, донесся едва слышный скрипучий смешок.
— Немедленно отойти на сто шагов от Храмовой собственности! — надрывался Донгаров отец из Буровой.
Ревущий кабан ворочался в дыре, Алое пламя текло с клыков, прожигая проплешины в дереве.
— Уходите отсюда! — косясь на отца, рявкнул Хадамаха.
— Медведи от людей и свиней не бегают! — с достоинством сообщил старый Эгулэ. Правда, договаривать ему пришлось в удаляющуюся спину — Хадамаха метнулся к пролому. Пылающие глазищи кабана уставились на парня так жадно, что сразу ясно — одними желудями такого не прокормишь, он и медведем закусит — не поперхнется. Еще поглядим, кто кем закусит! Хадамаха качнулся влево, уходя от вылетевших из пятака Огненных струй, и зажал башку кабана под мышкой.
— Донгар, хватит ругаться, вышибай из него Огненного духа! — заорал он.
Донгар, видно, и сам успел очухаться — отшвырнул сумку с идолом и с колотушкой наперевес метнулся к кабану. Кабан взревел и рванулся так, что вцепившегося ему в загривок Хадамаху приложило об ворота и вдавило в створку.
— Ах ты ж, свинья копченая! — процедил он, изо всех сил удерживая кабана. Кожу невыносимо пекло — кабан плевался Пламенем не хуже Аякчановой мамаши Уот в облике шестилапой драконицы.
Донгар замахнулся и… Бах! Колотушка опустилась кабану точно на пятак! Кабан сдавленно хрюкнул… Пламя рвануло у него из всех отверстий — из ноздрей, ушей, глаз… Кабана раздуло, как накачанный дымом мешок… Грохнуло! Горящие бревна просвистели над пригнувшимися родовичами. Хадамаха ухнул на землю вместе с вывороченными из ворот бревнами и перемолотой щепой. В ушах звенело, перед глазами плясало бешеное Алое пламя. Постанывая, Хадамаха поднялся.
Донгар спокойно, вдумчиво топтался на своем дорожном мешке. Из мешка слышался жалобный скулеж и скрипучее кряхтение. В тех самых ста шагах, что требовал жрец Губ-Кин, стояли Хадамахины родичи и соседи и потерянно оглядывали разгромленную вырубку, точно никак не могли вспомнить, что здесь произошло.
— Еще какое-нибудь переделанное зверье на Буровой осталось? — вытирая кровь со лба, мирно спросила Аякчан.
— Огненные ежики. Жрецы у них на колючках грибы жарят, — устало ответил Хакмар. — Только… только это не ежики! — Голос его вдруг изменился — в нем звучал непривычный для бесстрашного кузнеца ужас.
Буровая была как раскрывающийся весенний цветок — алые Огненные лепестки взмывали из-под земли и окружали ее со всех сторон. Над первым ярусом лепестков раскрылся второй, над ними — еще один… Пламя поднималось все выше и выше, охватывая Буровую ярус за ярусом. Вышка пылала на фоне неба, как громадный костер!
— Бегите! — успел заорать Хадамаха.
Вал Огня ринулся в ворота, снося уцелевшую створку. Хакмар с мечом в руках метнулся навстречу, над плечом у Хадамахи просвистел Голубой шар — Аякчан пыталась встретить один Огонь другим…
Перед глазами вспыхнул ослепительный свет, раскаленный ветер дохнул в лицо, Хадамаху подняло, закружило… Ему казалось, что все происходит ме-е-едленно! Алые Огненные ленты, словно щупальца подводных чудищ Седны, Повелительницы Океана, хищно потянулись к Хадамахиным родичам. Родовичи отчаянно мчались прочь, к лесу. А Хадамахе казалось, они едва-едва перебирают лапами! Вот какой-то Амба запутался в пеньках вырубки и кубарем покатился по земле. Вот второй кинулся ему на помощь…
— Нее-т! — успел заорать Хадамаха, летя вниз, к земле.
Рыжее пламя накрыло обоих тигров!
Плечо Хадамахи рвануло, едва не выворачивая из сустава — налетевшая Аякчан успела поймать его за руку, смягчая падение у самой земли. Но Хадамаха не чувствовал боли, не ощущал удара… Пойманные тигры пылали, их плоть растворялась, как брошенная в чувал свечка, обнажая скелет. Сквозь Огненно-рыжую завесу видно было, как чернеют в Огне кости, точно их заливают черной краской! Это было даже красиво…
— Мама! — с ужасом выдохнула Аякчан.
— Думаешь, услышит? — дрожащим голосом откликнулся Донгар.
Словно в ответ на его сомнения взмывший над Буровой язык Алого пламени прямо в воздухе слизнул отставшего от стаи крылатого. Тот заверещал… И растворился в Огне.
Сквозь непрерывное кружение Пламени начали проступать контуры гибких стремительных тел. Из Огня выступили тигры! Они не походили ни на дяргулей, ни на пчел с Огненными жалами, ни на прихлопнутого Донгаровой колотушкой кабана! Они даже на накачанных черной водой чудовищ из Сюр-гудского храма ничуть не смахивали! Они были полностью, целиком, до самой последней шерстинки сотканы из Огня!
— А-р-р-р! — взревели Огненные тигры.
И ринулись к кромке леса, туда, где еще качались ветки за скрывшимися между стволами сосен родичами.
Ужас, обессиливающий человеческий ужас окатил Хадамаху. И тут же нерассуждающая и невыбирающая медвежья ярость ударила изнутри Огненным взрывом, шибанула в мозг, швырнула вперед!
— Куда, сгоришь! — дружно заорали Хакмар и Аякчан, вцепляясь Хадамахе в плечи…
Стремительно мчащееся время снова замедлило свой бег, позволяя видеть и чувствовать каждый миг, каждый удар сердца. За спиной глухо ударил бубен Донгара.
- Хадамаха, Старший Брат!
- Могучего зверя пылающие когти у него,
- Мощного зверя Огненные клыки у него…
На бегу преображаясь в медведя, Хадамаха кинулся Огненным тиграм наперерез.
Пытавшиеся его удержать Аякчан с Хакмаром словно оцепенели: так и замерли с протянутыми ему вслед руками, а с их пальцев сбегало Пламя — Голубое и Рыжее!
— Голубое пламя вливается ему в жилы… — пел Донгар.
Хадамаха бежал, а плечи его раздавались вширь, тело покрывалось медвежьей шерстью, и сапфировое сияние волнами прокатывалось по шкуре.
— Рыжее пламя бушует в его теле, в его голове… — пел шаман, а Хадамахе казалось, что его погружают в кипяток, Огонь горит и внутри и снаружи, двойное Пламя ревет под черепом, сплетаясь с шаманской песней и обуревающей его яростью.
Огненные тигры были уже возле самого подлеска, сейчас они ринутся меж сосен, и многодневные стволы вспыхнут, как пропитанные жиром палочки для растопки. Пламя покатится по земле, нагоняя родовичей, пожирая мясо, испаряя кровь, плавя кости, оставляя после себя серое одеяло пепла… Пламя на верхушке Буровой полыхнуло двумя гигантскими крылами, и над лесом взмыла Огненная птица.
Хадамаха прыгнул, сам не веря, что дотянется… но Жар толкнул его в голову, ударил в плечи, он увидел свои вытянутые в прыжке лапы. Медвежьи лапы, но шерсть на них была из рыжих завитков Огня, а когти пылали чистейшим сапфиром! Его понесло вперед, легко и стремительно, как разносит подхваченное ветром Пламя.
— Со страшным ревом, готовым пожрать город, со страшным ревом, готовым пожрать деревню, он поднимается…