Невероятные похождения Алексиса Зорбаса Казандзакис Никос
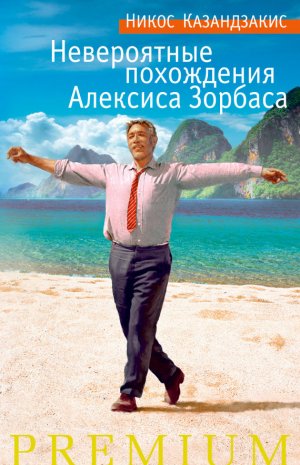
–Снова жениться, хозяин? Надоело уже.
Запах парфюмерного мыла становился сильнее.
–Держись, Зорбас!
Я поспешил уйти, потому что снаружи уже слышалось дыхание старой русалки.
XVII
На рассвете следующего дня меня разбудил крик Зорбаса.
–Что это с тобой с самого утра? Почему ты кричишь? – спросил я.
–Так дело не пойдет, хозяин! – ответил он, укладывая в торбу съестные припасы. – Я приготовил двух мулов, поднимайся, съездим в монастырь – подпишем бумаги и запустим подвесную дорогу. Лев только одного боится – вшей. Вши нас заедят, хозяин!
–Почему это ты называешь вошью бедную Бубулину? – спросил я, засмеявшись, но Зорбас сделал вид, будто не слышит.
–Пошли, пока солнце не поднялось высоко, – сказал он.
Мне захотелось подняться в горы, подышать воздухом, пропитанным запахом сосны. Мы отправились на мулах вверх, сделали небольшую остановку у шахты, и Зорбас отдал распоряжения рабочим – долбить «Настоятельницу», проложить канавку в «Мочегонной» и отвести воду…
День сиял, словно гладко отшлифованный бриллиант. Мы поднимались вверх, и вместе с нами поднималась вверх, очищаясь, душа. Я снова испытал, сколь важны для души чистота воздуха, легкость дыхания, широта горизонта. Кажется, будто душа – дикое животное, которое обладает легкими и ноздрями, нуждается в обилии кислорода и страдает среди пыли и дыхания многих существ…
Солнце поднялось, когда мы въехали в сосновый лес. Пахло медом, ветерок веял над нами, шумя, словно море.
В течение всего пути Зорбас присматривался к склону горы, мысленно забивая через каждые несколько метров столбы, а поднимая глаза, видел, как проволока уже блестит на солнце, уходя линией вниз, к берегу, и подвешенные на ней, очищенные от ветвей стволы летят стрелами.
Он потирал руки и говорил:
–Отличная работа! Золотое дно! Деньги будем лопатами загребать, а потом сделаем то, о чем говорили.
Я удивленно глянул на него.
–Не притворяйся, будто ты забыл! Перед тем как построить наш монастырь, отправимся на большую гору, как там ее называют, Фивы?
–Тибет, Зорбас, Тибет… Но только вдвоем. Тамошние места не для женщин.
–А кто говорит о женщинах? Хороши они, несчастные, хороши, не надо от них отказываться, когда у мужчины не окажется мужской работы – добывать уголь, захватывать крепости или разговаривать с Богом. Что тогда делать, чтобы с тоски не помереть? Вот он и пьет вино, играет в кости, ласкает женщин. И ожидает. Ожидает, пока придет его час. Если придет.
Зорбас немного помолчал и снова сказал, уже сердито:
–Если придет! Потому что можт и не прийти. – А затем добавил: – Не могу я больше, хозяин, не могу. Или земля должна стать больше, или я – меньше. Иначе – пропал я.
Из-за сосен вышел монах – рыжий, с пожелтевшей кожей, в сутане с закатанными рукавами и черной закругленной скуфье. В руке у монаха была железная палица, которой он ударял о землю, торопливо шагая вперед. Увидав нас, монах остановился, поднял железный посох и спросил:
–Куда путь держите, благослови вас Бог?
–В монастырь, – ответил Зорбас. – В монастырь помолиться.
–Возвращайтесь обратно, христиане! – воскликнул монах, и его голубые навыкат глаза налились кровью. – Возвращайтесь обратно, для вашего же блага! Не сад это Богородицы, но владения Сатаны. Бедность, послушание, целомудрие приличествуют монаху?! Ложь! Ложь все это! Возвращайтесь обратно, да поскорее: мошна, содомский грех да то, как стать настоятелем, – вот их Святая Троица!
–С этим не соскучишься! – радостно сказал, повернувшись ко мне и присвистнув, Зорбас.
Затем он спросил монаха:
–Как тебя зовут, старче? И куда, скажи, будь добр, путь держишь?
–Захарий. Взял я котомку и ушел оттуда. Ушел, не могу больше. А твое имя как, земляк?
–Канаваро.
–Не могу я больше, брат Канаваро. Христос всю ночь напролет стенает, не дает мне уснуть. И я тоже стенаю вместе с ним. А настоятель – чтоб ему в огне гореть! – позвал меня сегодня на рассвете и говорит: «Ты, Захарий, братьям спать не даешь. Прогоню тебя!» – «Это я им спать не даю? Я или Христос? Это он стонет», – отвечаю я. Поднял тогда настоятель свой посох и вот, вот – глядите!
Монах снял скуфью и показал запекшуюся на волосах кровь.
–Отряхнул я прах с ног моих и отправился в путь.
–Пошли с нами обратно в монастырь, – сказал Зорбас. – Я тебя с настоятелем помирю. Пошли. Составишь нам компанию и дорогу покажешь. Сам Бог тебя послал.
Монах немного подумал, глаза его блеснули, и он спросил:
–А что вы мне дадите?
–А ты что хочешь?
–Оку соленой трески и бутылку коньяка.
Зорбас внимательно поглядел на него:
–Не пребывает ли в тебе какой-нибудь дьявол, Захарий?
Монах вздрогнул.
–Откуда ты знаешь? – спросил он изумленно.
–Я на Афоне бывал, кое-что знаю, – ответил Зорбас.
Монах опустил голову и еле слышно пробормотал:
–Да. Пребывает.
–Это ему хочется трески и коньяку?
–Да, будь он трижды проклят!
–Хорошо, согласны! Может быть, он еще и курит?
И Зорбас бросил монаху сигарету, которую тот вожделенно схватил.
–Курит, конечно же, курит, будь он проклят! – сказал монах, вытащил из-за пазухи кремень с фитилем, высек огонь и затянулся, насколько позволяли легкие.
–Во имя Христа! – провозгласил он затем, переменив решение, поднял свою железную палицу и пошел впереди.
–А как зовут этого дьявола, что внутри тебя? – спросил Зорбас, подмигнув мне.
–Иосиф, – не оборачиваясь, ответил монах.
Общество полоумного монаха было мне не по душе. Искалеченный разум, как и искалеченное тело, вызывает у меня смешанное чувство антипатии, жалости и отвращения. Однако я ничего не сказал, предоставив Зорбасу полную свободу действий.
На свежем воздухе разыгрался аппетит. Проголодавшись, мы устроились под огромной сосной и открыли торбу. Монах с жадностью наклонился и заглянул, что там внутри.
–Нечего облизываться, отче Захарий! – воскликнул Зорбас. – Завтра – Чистый понедельник. Мы – масоны, потому подкрепимся мясом и цыпленком, и Бог нас простит. А для тебя, святой отец, есть у нас халва и маслины, пожалуйста!
Монах погладил свою засаленную бороду и сокрушенно сказал:
–Я, Захарий, пощусь. Поем маслин и хлеба, выпью водицы… Но Иосиф – дьявол, он не постится. Он тоже поест мяса и хлебнет вина из вашей фляги, проклятый!
И, перекрестившись, монах жадно заглотил хлеб, маслины, халву, утер рот ладонью, выпил воды, а затем снова перекрестился, как после еды.
–А теперь черед трижды проклятого Иосифа…
И монах набросился на цыпленка.
–Жри, проклятый, – зло рычал монах, уплетая огромные куски. – Жри! Жри!
–Молодец монах! – восторженно воскликнул Зорбас. – И Богу свечка, и дьяволу кочерга! – Затем он повернулся ко мне и спросил: – Как он тебе, хозяин?
–На тебя похож, – ответил я, засмеявшись.
Зорбас протянул монаху флягу с вином:
–Хлебни, Иосиф!
–Пей, проклятый! – сказал монах, схватил флягу и прильнул к ней губами.
Солнце палило нещадно, и мы забрались подальше в тень. От монаха несло кислым потом и ладаном. Захария разморило на солнце, и Зорбас оттащил его в тень, чтобы ослабить смрад.
–Как ты стал монахом? – спросил Зорбас, которому захотелось поболтать после сытной еды.
Захарий хихикнул:
–Думаешь, от святости? Ничуть не бывало! От бедности, брат, от бедности. Есть было нечего, и подумал я: пойду-ка в монастырь, чтобы не подохнуть с голоду!
–И остался доволен?
–Слава богу! Я часто хнычу, но ты не обращай внимания. Не об этой земле скорблю я: ее я имею и каждый день на нее… Но скорблю я о небе. Я все шучу да кувыркаюсь, монахи смеются, глядя на меня, говорят, что семь бесов во мне, и ругаются. Но я говорю: «Нельзя так, Бог смех любит. „Иди-ка сюда, дурачок, – скажет он мне когда-нибудь, – иди повеселишь меня!“ И так вот попаду я в рай шутом».
–Да ты, я вижу, себе на уме! – сказал Зорбас и поднялся. – Идем, чтобы не опоздать.
Монах снова пошел впереди, указывая дорогу. Я поднимался в гору, и казалось, будто душа моя поднималась среди пребывавших внутри меня пейзажей – перемещалась от низких забот к высоким, от удобных равнинных догм к обрывистым теориям.
Вдруг монах остановился.
–Богородица Мстительница! – сказал он, указывая на небольшую часовню с изящным круглым куполом, опустился на колени и перекрестился.
Я спешился и вступил под прохладный свод. В нише стояла почерневшая от дыма старинная икона, увешанная обетными дарами, а перед ней горела неугасимо серебряная лампадка.
Я внимательно осмотрел икону. Суровая, воинственная Богородица с высоко поднятой головой и строгим беспокойным взглядом девы, не с Божественным младенцем, а с длинным прямым копьем во длани.
–Горе тому, кто потревожит монастырь! – в благочестивом волнении сказал монах. – Она сразу же устремляется на святотатца и пронзает его этим вот копьем. В старые времена алжирские пираты сожгли монастырь, но погоди, послушай только, что с ними потом случилось! Когда они уже уходили и были у часовни, ее милость рванулась, вышла из иконы, бросилась наружу и принялась разить копьем, пока всех их не перебила. Мой дед помнил еще, как кости их в лесу находили. С тех пор и стали называть ее Богородицей Мстительницей, а раньше называли Милосердной.
–А что ж она не сотворила чуда до того, как пираты сожгли монастырь, отче Захарий? – спросил Зорбас.
–На то воля Всевышнего! – ответил монах и трижды перекрестился.
–Ну и Всевышний! – пробормотал Зорбас, снова сел на мула, и мы отправились дальше.
Вскоре показался стоящий на горном плато в окружении высоких скал и сосен большой монастырь Богородицы. Тихий, приветливый, уединившийся от мира в высокогорной зеленой котловине, мудро сочетающий благородство вершины и нежность равнины, этот монастырь казался мне убежищем, исключительно удачно выбранным для людских раздумий.
Здесь трезвая и жизнерадостная душа могла бы привести религиозный подъем в согласие с высотой человеческого роста: ни стремительной сверхчеловеческой вершины, ни любящей наслаждения ленивой равнины – именно то, что нужно и сколько нужно, чтобы душа вознеслась, не утратив при этом своей человеческой нежности. Такой пейзаж создает не героев и не скотов, а совершенных людей.
С этим пейзажем в совершенстве гармонировали бы и жизнерадостный античный храм, и мусульманская мечеть: Бог снизошел бы сюда в своем простом человеческом облике, ходил бы босиком по весенней травке и спокойно беседовал с людьми.
–Какое чудо, какая уединенность, какое счастье! – прошептал я.
Мы спешились, миновали стрельчатые ворота, поднялись в гостиную, гденас угостили ракией, вареньем, кофе. Пришел гостинник, монахи окружили нас, завязалась беседа. Лукавые глаза, ненасытные губы, бороды, усы, смрад из-под мышек.
–Газеты у вас нет? – спросил гостинник.
–Газеты? – удивился я. – Зачем она вам?
–Из газеты, брат, мы узнаем, что творится в мире! – возмущенно воскликнули несколько монахов.
Вцепившись в деревянные поручни балкона, они кричали, словно вороны, возбужденно говоря об Англии, о России, о Венизелосе, о короле. Мир отвернулся от них, но они не отвернулись от мира. В глазах у монахов были города, магазины, женщины, газеты…
Тучный волосатый монах поднялся и прогундосил:
–Хочу кое-что показать тебе. Интересно, что ты об этом скажешь. Пойду принесу.
Сложив свои короткие, поросшие волосами руки на животе, он прошлепал в войлочных тапках к двери и исчез за ней.
Монахи злорадно захихикали.
–Отец Дометий снова притащит свою глиняную монахиню, – сказал гостинник. – Сатана припрятал ее для Дометия в земле, и однажды тот, вскапывая сад, нашел ее. Принес ее, несчастный, к себе в келью и с тех пор уснуть не может. Скоро вообще с ума сойдет.
Зорбас поднялся, ему было не по себе.
–Мы пришли повидать настоятеля и подписать бумаги, – сказал он.
–Святого настоятеля нет, – ответил гостинник. – Он с утра отправился на подворье. Придется потерпеть.
Отец Дометий вернулся с каким-то предметом в горстях, вытянув руки, словно нес чашу для причастия.
–Вот она! – сказал он, бережно раскрывая ладони.
Я подошел ближе. Небольшая терракотовая статуэтка кокетливо улыбалась, лежа на жирных ладонях. Единственной сохранившейся рукой женщина касалась головы.
–Если она указывает на голову, – сказал отец Дометий, – значит там, внутри есть какой-то драгоценный камень – может быть, бриллиант или жемчужина. А твоя милость что скажет?
–А я считаю, – встрял ехидный монах, – что у нее голова болит.
Но тучный Дометий смотрел на меня, встревоженно ждал ответа, и его козлиные губы дрожали.
–Разобью ее, – сказал он, – разобью и посмотрю, что там внутри. Она мне спать не дает… Что, если там – бриллиант?
Я смотрел на изящную девушку с маленькими тугими грудками, которая оказалась в изгнании среди пропитанных ладаном распятых богов, проклинающих тело, радость и поцелуй.
О, если бы я мог спасти ее!
Зорбас взял статуэтку, ощупал изящное нагое женское тело, и пальцы его задержались на стройной груди:
–Разве ты не видишь, старче, что это – Сатана? – спросил он. – Это он сам, точь-в-точь. Берегись, я его, богопротивного, хорошо знаю. Погляди на его грудь, отче Дометий, – круглая, тугая, свежая. Такова, старче, грудь дьявола!
На пороге показался смазливый молодой монашек. Солнце осветило его золотые волосы и круглое, обрамленное нежным пушком лицо.
Монах с желтой кожей подмигнул гостиннику, оба они лукаво усмехнулись и сказали:
–Отче Дометий, пришел твой послушник Гавриил.
Монах тут же схватил глиняную женскую статуэтку и покатился, словно бочонок, к двери. Монашек шел перед ним, молча виляя телом, и вскоре оба они исчезли на протяженной, готовой развалиться веранде.
Я кивнул Зорбасу, и мы вышли во двор. В воздухе было разлито нежное тепло, посреди двора стояло благоухающее апельсиновое дерево. Рядом из античного фонтана в виде бараньей головы, журча, текла вода. Я подставил голову под струю, освежился.
–Что это за существа здесь собрались? – с чувством гадливости сказал Зорбас. – Не мужчины, не женщины. Мулы. Тьфу, пропади они пропадом!
Он тоже подставил голову под прохладную струю, засмеялся и снова сказал:
–Пропади они пропадом! В каждом из них пребывает особый дьявол: одному хочется женщины, другому – трески, третьему – денег, четвертому – газет… Ну и дураки! Спустились бы лучше в мир, насладились бы всем досыта, и мозги бы прочистились!
Зорбас закурил сигарету и уселся на каменной скамье у цветущего апельсинового дерева.
–Когда мне сильно хочется чего-то, знаешь, что я делаю? – продолжал он. – Наедаюсь до отвала, чтобы избавиться от этого и не думать больше. Или думать уже с отвращением. Как-то, еще в детстве, был я без ума от черешен. Денег у меня почти не было, я покупал их совсем понемногу, ел и от этого хотелось еще больше… День и ночь только о черешнях и думал, слюнки изо рта текли, настоящее мучение! И вот в один прекрасный день взяло меня зло! Стало мне стыдно: я понял, что черешни совсем меня одолели и опозорили. И что же я делаю? Встаю потихоньку ночью, шарю в карманах у отца, нахожу серебряную монету и вытаскиваю ее. Рано утром поднимаюсь, иду к одному хозяину, у которого был сад, покупаю корзину черешен, забираюсь в овраг и принимаюсь за них. Ел я их, ел, живот стало пучить, желудок свело, а затем и вырвало. Вырвало меня, хозяин, и с тех пор избавился я от черешен, даже смотреть на них противно. Стал я свободным человеком. После этого как видел я черешни, то говорил: «Мне вас совсем не хочется!» То же было у меня с вином, то же с сигаретами. Я еще пью и курю, но стоит мне захотеть, и я тут же бросаю. С ума я сходить не буду. То же и с родиной – любил я ее страстно, приелась мне она, вырвало, и пришло избавление.
–А с женщинами? – спросил я, засмеявшись.
–Придет и их черед – будь они прокляты! – придет! Но не раньше, чем стукнет мне семьдесят.
Зорбас призадумался на миг, этого возраста показалось ему недостаточно.
–Восемьдесят, – поправился он. – Ты вот смеешься, хозяин, но дело это не шутейное! Так и освобождается человек, послушай меня, только так – для этого нужно стать мотом, а не монахом. Разве можно освободиться от дьявола, если сам не станешь более дьявольским, чем сам дьявол?
Во дворе появился тяжело дышащий Дометий, а за ним – русый монашек.
–Точь-в-точь гневный ангел… – пробормотал Зорбас, восхищенный его юношеским пылом и изяществом.
Они подошли к каменным ступеням, ведущим к верхним кельям. Дометий обернулся, глянул на монашка, что-то сказал ему, монашек тряхнул было головой, словно отказываясь, но тут же покорно склонил голову, обнял старика за талию, и они поднялись по лестнице.
–Ты понял? – спросил Зорбас. – Понял? Содом и Гоморра.
Показались два монаха. Они подмигивали друг другу, шептались и смеялись.
–Сколько злости! – прорычал Зорбас. – Ворон ворону глаз не выклюет, а монах монаху вышибет. Погляди на них: одна другой глаза выцарапает.
–Один другому… – поправил я, засмеявшись.
–Здесь это одно и то же, не ломай понапрасну головы! Здесь мулы живут, хозяин! Здесь можно говорить и «Гавриил», и «Гавриила», и «Дометий», и «Дометия», как тебе угодно! Уйдем лучше отсюда, хозяин. Подпишем бумаги и уйдем поскорее: побудешь здесь и, ей-богу, станешь испытывать отвращение и к мужчине, и к женщине.
Затем он сказал тише:
–Есть у меня план, хозяин…
–Опять какая-нибудь выходка? Ну что же, говори, Зорбас!
Зорбас пожал плечами:
–Что тут сказать, хозяин! Ты, прости меня, человек честный. Даже мухи не обидишь. Случится тебе поймать зимой клопа поверх одеяла, так ты его к себе под одеяло возьмешь, чтобы тот не мерз. Где уж твоему благородию понять меня, непутевого! Мне если клоп попадется, я тут же – хлоп! – и конец ему, ягненок попадется – я его – хвать! – на вертел и пировать с друзьями. Если ты скажешь: «Это же не твой ягненок!», я соглашусь, только сначала мы съедим его, а затем сядем спокойно да потолкуем о том, что есть мое, а что – твое. Ты мне будешь говорить да толковать, а я буду мясо из зубов выковыривать.
И раскатистый смех прокатился по двору.
Показался испуганный Захарий. Приложив палец к губам, он подошел к нам на цыпочках и сказал:
–Тише! Не смейтесь! Там, наверху, за открытым окошком работает митрополит. Там у нас библиотека, и он работает в ней все дни напролет.
–Ты-то мне и нужен, отче Иосиф! – сказал Зорбас и схватил монаха за локоть. – Пойдем в твою келью, потолкуем. А ты, хозяин, – обратился он ко мне, – пойди-ка лучше осмотри церковь и старинные иконы. Я дождусь настоятеля, куда бы он ни отлучился. Только не вмешивайся, а то все спортишь! Предоставь лучше действовать мне – у меня уже план есть! – Он наклонился к моему уху. – Лес получим за полцены… И молчи!
С этими словами Зорбас поспешно удалился, держа полоумного монаха под руку.
XVIII
Я перешагнул через порог церкви и углубился в благоухающий прохладный полумрак.
Спокойствие, тускло сияющие серебряные светильники, резной иконостас по всей ширине, тяжелые грозди, свисающие с золотых лоз, стены, от самого основания украшенные наполовину выцветшими фресками: суровые отшельники, богоносные Отцы Церкви, Страсти Христовы, кудрявые ангелы с широкими вылинявшими лентами на волосах.
Вверху, на своде, – молящаяся Богородица с широко раскрытыми руками. Перед ней горел массивный серебряный светильник, и его дрожащий свет нежно и ласково гладил удлиненное исстрадавшееся лицо. Это, говорил я, совершенно удовлетворенная, совершенно, даже в мученическом страдании своем, счастливая Мать, потому как ей известно, что из бренной утробы ее явилось нечто бессмертное…
Когда я вышел из церкви, солнце уже шло на закат. Счастливый, я присел на каменной скамье у апельсинового дерева. Купол церкви был розовым, словно на рассвете. Монахи отдыхали, удалившись в кельи. Ночью предстояло бдение, и нужно было набраться сил: в тот вечер Христос отправлялся на Голгофу, и нужно было выдержать восхождение вместе с Ним. Две черные свиньи с множеством розовых сосков уже спали под цератонией, голуби на террасах занимались любовью.
«Доколе буду я жить и радоваться нежности земли, воздуха, тишины и благоухания цветущего апельсинового дерева?» – подумалось мне. Увиденная в церкви икона святого Вакха исполнила сердце мое блаженством. То, что волнует меня более всего – единство, непрерывность стремлений, последовательность желаний – снова явилось передо мной. Спасибо этой небольшой изящной иконе христианского святого с юношескими кудрями, свисающими по обе стороны чела, словно черные грозди. Эллинский Дионис и святой Вакх сливались друг с другом, обретая одно лицо, а под виноградными листьями и рясой волновалось все то же желанное, загорелое на солнце тело – Греция.
Во дворе появился Зорбас.
–Настоятель пришел, – торопливо сказал он, – мы с ним поговорили, он сопротивляется – плата, говорит, совсем ничтожная, хочет больше – но ничего, я своего добьюсь.
–Что еще за сопротивление? Разве мы не договорились?
–Только не вмешивайся, хозяин, не то все испортишь! – умолял Зорбас. – Вот, пожалуйста, ты уже о старом договоре заговорил – нет его! Нечего хмуриться – нет его! Лес мы получим за полцены.
–Что ты еще задумал, Зорбас?
–Это уж мое дело. Смажу колесо получше, и покатится, понятно?
–Но зачем все это? Не понимаю.
–Да затем, что в Кастро у меня были лишние расходы! Потому что Лола обошлась мне (то есть тебе) в несколько тысяч. Думаешь, я про то забыл? У меня ведь тоже честолюбие есть, а ты как думал? Расчет должен быть чистым, до последнего гроша. Я растратил, я и плачу. Я подвел итог: Лола обошлась в семь тысяч. Я это погашу за счет леса. За Лолу будут платить настоятель, монастырь и Богородица. Таков мой план. Ну как, нравится?
–Нисколько. Разве Богородица виновата в твоих грехах?
–Виновата, да еще как! Она родила сына – Бога, а Бог сотворил меня и снабдил прибором, сам знаешь каким. Этот вот проклятый прибор и есть причина того, что стоит мне увидеть женское племя, как голова у меня идет кругом, и я тут же открываю кошелек. Понятно? Так что виновата, еще как виновата Богородица. Пусть она и расплачивается!
–Не нравится мне все это, Зорбас.
–Это уже другой вопрос, хозяин. Сперва спасем семь тысченок, а затем поговорим. «Сначала потрудись, сынок, потом я – снова тетя». Слыхал эту песенку?
Появился толстозадый гостинник и медовым поповским голосом возгласил:
–Пожалуйте, стол накрыт.
Мы спустились в трапезную – большое, сильно вытянутое помещение с длинными столами и лавками. Стену в глубине украшала полувыцветшая фреска Тайной вечери: одиннадцать верных учеников сгрудились вокруг Христа, а напротив, спиной к зрителю, в полном одиночестве стоял рыжебородый, со лбом неправильной формы и орлиным носом Иуда, и Христос смотрел только на него.
Я сел справа от гостинника, Зорбас – слева.
–Пост, поэтому извиняйте: ни масла, ни вина, хотя вы и с дороги. Добро пожаловать!
Мы перекрестились, молча протянули руки к маслинам, зеленому луку, рыбьей икре и моченым бобам, и все трое принялись медленно, без аппетита жевать.
–Такова жизнь земная, – сказал гостинник. – Пост. Наберемся же терпения, и придет Воскресение с барашком. Придет и Царство Небесное.
Я кашлянул. Зорбас наступил мне на ногу, призывая к молчанию.
–Видел я отца Захария… – сказал Зорбас, желая переменить разговор.
Гостинник насторожился и обеспокоенно спросил:
–Уж не наболтал ли вам чего окаянный? Он одержим семью бесами, не слушайте его! Душа в нем нечестивая, вот он и видит нечестивство.
Скорбно прозвенел колокол, призывая к ночному бдению. Гостинник перекрестился, поднялся и сказал:
–Пойду я. Начались Страсти Христовы – пойдем же и примем распятие вместе с ним. Сегодня вы с дороги и можете отдохнуть, но завтра – к заутрене…
–Негодяи! – процедил Зорбас сквозь зубы, едва монах удалился. – Негодяи, обманщики, человекомулы, мулочеловеки!
–Что с тобой, Зорбас? Уж не сказал ли тебе чего Захарий?
–Оставь, хозяин! Пошли все это к дьяволу! Пусть только не подпишут – попляшут они у меня!
Мы пошли в келью, где нам постелили на ночлег. В углу была старинная икона: Богородица тесно прижалась щекой к щеке Сына, и в ее больших глазах были слезы.
Зорбас покачал своей огромной головой:
–Знаешь, почему она плачет, хозяин?
–Нет.
–Потому что видит. Если бы я был иконописцем, то рисовал бы Богородицу без глаз, без ушей, без носа, потому что жаль мне ее.
Мы улеглись на жестких постелях. Балки пахли кипарисом, через открытое окошко долетал насыщенный запахами весенний ветерок. Время от времени со двора доносились, словно дуновение ветра в вышине, звуки, скорбные мелодии. У окна запел соловей, а затем, где-то вдали, другой – ночь наполнялась любовью.
Я не мог уснуть. Пение соловья сливалось с оплакиванием Христа, и среди апельсиновых деревьев я пытался взойти на Голгофу, следуя за крупными каплями крови. В голубой весенней ночи я видел, как по телу Христа течет освежающими, извивающимися струйками холодный пот, видел, как он простирает руки, словно умоляя, словно прося о подаянии… Торопливо шедшие за ним галилеяне восклицали: «Осанна! Осанна!», держа пальмовые ветви и устилая одеждами своими путь Христа. Он смотрел на дорогих ему людей, никто из них ни о чем не догадывался, и только он один знал, что идет на смерть. Плачем и молчанием под звездами он утешал трепетавшее человеческое сердце свое: «Словно зерно, должно опуститься ты в землю и умереть, сердце. Не бойся. Иначе, сердце, разве ты сможешь стать колосом, разве сможешь накормить людей, умирающих от голода?»
Но человеческое сердце в груди его трепетало, не желая умирать…
Постепенно лес вокруг монастыря утонул в соловьиных трелях. Исполненное любви и страсти пение поднималось от свежей листвы, а вместе с ним трепетало, плакало, вздымалось, переполнялось сердце человеческое.
И вот, сам не знаю как, со Страстями Христовыми и пением соловья погрузился я в сон, подобно тому, как душа моя войдет в рай.
Не поспав даже часа, я вскочил в испуге и закричал:
–Зорбас! Ты слышал? Выстрел из пистолета!
Но Зорбас уже сидел на постели и курил.
–Не беспокойся понапрасну, хозяин, – сказал он, стараясь сдержать раздражение. – Пусть они сами перегрызут друг другу глотки.
В коридоре раздались голоса, тяжелый топот ног, открывались и закрывались двери, кто-то вдали стонал, словно раненый.
Я вскочил с постели и открыл дверь. Тощий старик в белом островерхом колпаке и белой рубахе до колен бросился ко мне.
–Кто ты?
–Митрополит… – ответил тот дрожащим голосом.
Я чуть было не расхохотался. Золоте ризы, митра, митрополичий жезл, разноцветные поддельные самоцветы… Впервые я видел митрополита в ночной рубахе.
–Кто стрелял из пистолета?
–Не знаю… Не знаю… – пробормотал он, заталкивая меня обратно.
Зорбас засмеялся, сидя на постели:






