Невероятные похождения Алексиса Зорбаса Казандзакис Никос
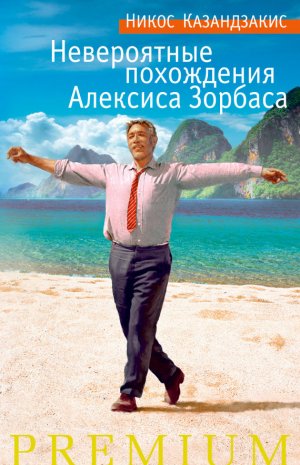
А когда и меня от чрезмерных благодеяний разобьет паралич и отдам я концы, откроет мне ключник Петр врата рая и скажет: «Заходи, Зорбас-страдалец, заходи Зорбас-великомученик, пойди приляг рядом со своим коллегой Зевсом, отдохни и ты, благословенный, ибо много вытерпел ты в жизни твоей!»
Зорбас говорил, воображение расставляло ему ловушки, в которые он тут же попадался, мало-помалу уверовав в свою сказку. В ту ночь, когда Зорбас уже закончил ее и мы проходили мимо смоковницы архонтовой дочки, он вздохнул и воздел руки к небу, словно давая клятву:
–Будь спокойна, моя Бубулина, прогнившая, измученная шхуна! Будь спокойна, не оставляю я тебя без утешения, нет, не оставлю! Четыре державы тебя оставили, молодость тебя оставила, Бог тебя оставил, но я, Зорбас, тебя не оставлю!
Уже миновала полночь, когда мы добрались до нашего берега. Поднялся южный ветер, его жаркие порывы долетали из Африки, наливая соками деревья, виноград и груди земли критской. Простирающийся в море остров, содрогаясь, принимал на себя жаркое оплодотворяющее дыхание ветра. Зевс, Зорбас, любовный южный ветер соединялись в моем воображении, принимая тяжелое мужское лицо с черной бородой, черными засаленными волосами, и оно припадало ярко-красными губами к мадам Ортанс – к земле.
XX
Мы улеглись на наших постелях. Зорбас довольно потирал руки.
–Хороший был день, хозяин. Что значит «хороший»? – спросишь ты. Полный! Сам подумай: утром мы были у чертовой матери – в монастыре и засунули настоятеля в мешок – да будет на нас его проклятие! Затем спустились в наше логово, встретили госпожу Бубулину, обручились, и вот, пожалуйста, – кольцо. Золотое, первый сорт: было у нее, говорит, два золотых английских фунта, которые дал ей в конце прошлого века английский адмирал. Мадам держала их на похороны, но теперь отнесла – в добрый час! – к ювелиру, и сделал тот кольца. Человек – таинство!
–Спи, Зорбас, – сказал я. – Угомонись, наконец, будет. Завтра предстоит торжественная церемония – установим первый столб подвесной дороги. Я и отца Стефана пригласил.
–Правильно ты поступил, хозяин, очень умно! Пусть придет козлиный поп, пусть придут старосты, раздадим свечки, и пусть их зажгут – это производит впечатление и поможет делу. Не смотри на меня так: у меня свой, персональный бог и персональный дьявол, а у людишек…
Зорбас засмеялся. Ему не спалось, мысли его бушевали буйным вихрем.
–Эх, дедушка! – сказал он немного погодя. – Бог да благословит его косточки! Был он распутник и капитан Пройдоха, как и я, но сходил паломником к Гробу Господню и стал хаджи[45]. Бог знал, что делал. Когда вернулся он в село, кум его, козокрад непутевый, говорит: «Эх, кум, не принес ты мне кусок Честного Креста от Гроба Господня!» – «Как это не принес, кум? – отвечает хитрый дед. – Тебя разве можно забыть? Приходи вечером ко мне домой и попа захвати – освятит он дерево, и возьмешь его. И жареного поросенка принеси, и вина – отпразднуем!»
Вернулся вечером дед домой, отломил от изъеденной шашелем двери кусок дерева – совсем крохотный, величиной с рисовое зернышко, завернул его в вату, капнул чуточку масла и стал ждать. И вот немного погодя приходит кум с попом и поросенком. Надел поп епитрахиль, совершил освящение, состоялась передача честного дерева, и все набросились на поросенка. И вот – представь себе, хозяин, – поклонился кум честному дерев, повесил его себе на шею и стал с того дня другим человеком. Совсем изменился. Ушел он в горы, присоединился к повстанцам, жег турецкие села, шел под пули, ничего не боялся. Да и чего было ему бояться? На нем было честное дерево, и свинец его не брал.
Зорбас засмеялся.
–Все дело – в идее, – сказал он. – Щепка от старой двери стала честным деревом. А не веришь – весь Честной Крест становится старой дверью.
Стоило только коснуться души Зорбаса, и она сразу же так и сыпала искрами.
–А на войне ты бывал, Зорбас?
–А я почем знаю? – ответил он, насупившись. – Не помню. На какой войне?
–Ну, за родину сражался?
–Стоит ли об этом болтать? Глупости все это – прошло и забылось.
–Это ты называешь глупостями, Зорбас? И не стыдно? Так ты говоришь о родине?
Зорбас вытянул шею и посмотрел на меня. Я тоже лежал на кровати, а над головой у меня горел светильник. Зорбас долго и серьезно смотрел на меня, теребя свои усы.
–Незаконченная вещь… – сказал он наконец. – Учительское тело, учительские мозги… Что бы я тебе ни говорил, все впустую, ты уж извини, хозяин.
–Но почему же? – запротестовал я. – Я понимаю, Зорбас, клянусь, понимаю!
–Да, умом понимаешь. И говоришь: это – правильно, это – неправильно. Это – так, это – не так. А что из этого следует? Когда ты говоришь, смотрю я на твои руки, на твои ноги, на твою грудь, и все это молчит, не говорит ни слова. Будто все это бескровное. Как же ты можешь понять? Головой, что ли? Пф!
–Говори, Зорбас, не уходи в сторону! – крикнул я, чтобы раззадорить его. – Думаю, что тебе, бессовестный, до родины и дела нет!
Он разозлился и так стукнул кулаком о стену, что канистры загрохотали.
–Не смей так говорить! – крикнул Зорбас. – Я – вот этот самый, что перед тобой, – вышил из собственных волос Святую Софию и носил ее, повесив на шею как талисман. Да, вот этими самыми ручищами вышил, из этих вот волос, которые тогда были черными как вороново крыло. Бродил и я вместе с Павлосом Меласом[46] по македонским горам – храбрец, зверь лютый, в фустанелле[47], с амулетами, в красной феске, с цепями, с пистолетами и кобурами. Был я весь в железе, серебре и заклепках, а когда шел – грохотал, словно кавалерия на марше. Вот смотри!.. Здесь, здесь… Сюда посмотри!.. Сюда!..
Он распахнул рубаху, сбросил штаны.
–Посвети! – велел Зорбас.
Я поднес светильник к его худому, с задубевшей кожей телу и увидел глубокие шрамы и следы от пуль, когда-то продырявивших его.
–А теперь сюда погляди! – Он повернулся, показывая спину. – Есть хоть одна рана на спине?.. Понятно? Теперь поставь светильник на место!
Зорбас надел рубаху и штаны и уселся на постели.
–Чушь! – сердито прорычал он. – Позор! Да когда же, наконец, человек станет человеком! Мы носим штаны, воротнички, шляпы, но до сих пор остаемся мулами, волками, лисами, свиньями. Мы, говорят, подобие Божье… Кто? Мы? Тьфу на наши морды!
В мыслях Зорбаса возникали жуткие воспоминания, и он разъярялся все больше. Из-за покрытых слюной дырявых зубов вырывались какие-то неразборчивые слова. Зорбас поднялся, схватил кувшин с водой и принялся пить, пока не утолил жажду и не пришел в себя.
–К какому месту на мне ни притронься – буду стонать от боли: я весь в ранах, – продолжал Зорбас. – Это не про баб болтать! Как почувствовал себя настоящим мужчиной, так в их сторону даже глядеть перестал. А если и глядел, то для того только, чтобы взять, поиграть чуток, как петух, и уйти прочь. «Эти куницы смердящие, грязные попадьи только силу хотят у меня отнять, – говорил я. – Тьфу, чтоб им пропасть!»
Взял я ружье, и вперед! Пошел к повстанцам, стал комитадзисом. Однажды в сумерках пробрался я в болгарское село и спрятался в хлеву. Дом тот принадлежал болгарскому попу, свирепому, кровожадному комитадзису. Вечером снимал поп рясу, одевался пастухом и с оружием в руках отправлялся в греческие села. Утром на рассвете возвращался он домой, смывал грязь и кровь и приступал к литургии. В те дни убил он греческого учителя прямо в постели, во время сна. Спрятался я, значит, в хлеву у попа и жду. Лежу ничком на навозе за двумя быками и жду. И вот вечером входит поп накормить скотину. Бросился я на него и зарезал, как ягненка. Отрезал ему уши и взял с собой. Собирал я, видишь ли, болгарские уши. Так вот, взял я поповские уши и ушел.
Через несколько дней снова пришел я в то же село среди бела дня, будто бродячий торговец. Оружие я оставил в горах, а в село пришел купить хлеба, молока да обувь для наших молодцов. И вот вижу у одного из домов босых ребятишек во всем черном: держали они друг дружку за ручонки и просили милостыню. Три девочки и два мальчика. Старшему еще десяти не было, младший – совсем младенец: старшая девочка держала его на руках, целовала и ласкала, чтобы он не плакал. Сам не знаю как – видать, озарение Божье, – подошел я к ним и спрашиваю по-болгарски:
–Чьи вы, ребятки, будете?
Старший мальчик поднимает свою маленькую головку и говорит:
–Попа, что на днях в хлеву зарезали.
В глазах у меня помутилось, земля пошла кругом, словно мельничный жернов. Прислонился я к стене, земля остановилась.
–Подойдите ко мне, ребятки, – говорю я. – Подойдите ближе!
Вытащил я из патронташа кошель, битком набитый турецкими лирами да медзитами[48], опустился на колени и высыпал все на землю.
–Берите! – закричал я. – Все берите!
Дети бросились на землю и стали собирать ручонками лиры да медзиты.
–Берите! Это все ваше! – кричал я.
Оставил я им и короб с товаром.
–Это все ваше! Берите все!
И пустился оттуда со всех ног. Выбежал я из села, распахнул рубаху, вытащил вышитую моими же руками Святую Софию, разорвал ее, выбросил прочь и бежал, бежал…
До сих пор бегу!
Зорбас прислонился к стене, повернул голову и посмотрел на меня:
–Так я спасся.
–От родины спасся?
–Да, от родины, – спокойным, твердым голосом ответил Зорбас и, чуть погодя, добавил: – Спасся от родины, от попов, спасся от денег – все это я отсеял, пропустил через сито. Чем больше отсеиваю, тем легче мне становится. Как тебе объяснить? Освобождаюсь, становлюсь человеком.
Глаза Зорбаса сияли, широкие губы радостно улыбались.
Помолчав немного, он распалился снова: сердцу его стало тесно в груди, и оно уже не повиновалось никаким приказам.
–Когда-то я говорил: этот вот – турок или болгарин, а этот – грек. Ради родины, хозяин, я таких дел наделал, что у тебя, как послушаешь, волосы встанут дыбом: резал, грабил, жег села, насиловал женщин, уничтожал дома… Почему? Потому что они были болгарами да турками. «Чтоб ты пропал, сволочь! – нередко говорю я сам себе и сам же ругаю себя последними словами. – Чтоб ты сгинул, безмозглый!» Теперь, когда я набрался наконец ума, я говорю: этот вот – хороший человек, а этот – плохой. Что значит «болгарин» или «ромей»? Для меня это одно и то же. Единственное, что имеет значение, – плох он или хорош. А теперь, чем больше я старею, – клянусь хлебом, который я ем! – мне все более кажется, что даже это перестает меня интересовать. Да и что значит «плохой» или «хороший»?! Мне их всех жаль, душа за всех болит, хоть я и делаю вид, что мне до них никакого дела нет. Вот, говорю я себе, этот бедняга ест, пьет, любит, боится, имеет своего бога и дьявола, и он тоже загнется, и он тоже в землю ляжет, и сожрут его черви… Эх, несчастный! Все мы – братья… Мясо для червей!
А если речь идет о женщине, ну, так тут уже – ей-богу! – рыдать хочется. Твое благородие то и дело смеется надо мной за то, что я люблю женщин. Да как же их не любить?! Создания они слабые, сами не знают, что с ними происходит, возьмешь их за грудки – они тут же раскрываются и отдаются без остатка!
Пошел я однажды опять-таки в болгарское село. Подлый ромей, сельский староста, выдал меня, и вот окружили меня в доме, где я прятался. Выскочил я на террасу, перебираюсь с крыши на крышу – ночь была лунная, – прыгаю, словно кот, по крышам, ытаюсь уйти. Тень мою заметили, поднялись на крыши и стали палить из ружей. Что делать? Прыгнул я в какой-то двор. А во дворе том болгарка спала. Вскочила она в одной рубахе, увидела меня и открыла уж было рот, чтобы закричать, но я протянул руку и говорю ей: «Помолчи! Ради бога, помолчи!», а затем – хвать за груди. Женщина побледнела, сникла. «Пойдем в дом, – говорит мне тихо. – Пойдем в дом, чтобы нас не увидели…» Вошли мы в дом, сжала она мою руку и спрашивает: «Ты – ромей?» – «Да, ромей. Не выдавай меня!» Обнял я ее за талию, она – ни звука. Переспал я с ней, и сердце от наслаждения трепетало. «Вот, Зорбас, – сказал я себе, – вот что значит женщина, вот что значит человек. Болгарка она? Ромейка? Тарабарка?[49] Все равно! Она – человек. Человек! Так не стыдно ли тебе убивать? Пропади ты пропадом!»
Так говорил я, пока был с ней, у ее теплой груди. Но разве родина – сука бешеная – отпустит?! Утром ушел я в болгарской одежде, которую дала мне болгарка-вдова: вынула она из сундука одежду покойного мужа, стала целовать мне колени и просила вернуться.
Как же! Вернулся я на следующую ночь, так сказать, патриотом – зверем неукротимым, вернулся с канистрой нефти и сжег село. Должно быть, и она сгорела, несчастная. Звали ее Людмила…
Зорбас вздохнул, закурил сигарету, затянулся пару раз, затем отшвырнул ее и сказал:
–Родина, говоришь… Читаешь всякую дрянь в своих бумажках… Ты меня послушай: до тех пор пока существует родина, человек остается зверем, неукротимым зверем… Но я – слава богу! – спасся. Спасся! А ты?
Я не ответил. Все вопросы, которые я пытался развязать узел за узлом в своем одиночестве, прикованный к креслу, этот человек решил мечом в горах на свежем воздухе.
Я безутешно закрыл глаза.
–Уснул, хозяин? – устало спросил Зорбас. – А я, болван, все рассказываю да рассказываю!
Он, ворча, улегся на постели, и вскоре раздался его храп.
Всю ночь я не смог глаз сомкнуть. Соловей, впервые певший тогда в нашем одиночестве, наполнил сердце мое невыносимой тоской, и вдруг я почувствовал, как из глаз моих текут слезы.
На рассвете я поднялся, стал у двери, посмотрел на море и на землю, и показалось мне, будто мир за ночь изменился. Росший на песке кактус, вчера еще совсем убогий, покрылся крохотными белыми цветами, а воздухе был разлит идущий издали сладостный аромат цветущих лимонных и апельсиновых деревьев. Я сделал несколько шагов по новой, разубранной земле и все не мог насытиться вечно обновляющимся чудом.
Вдруг за спиной у меня раздался крик. Я обернулся и увидел обнаженного до пояса Зорбаса, который стоял в дверях и тоже зачарованно созерцал весну.
–Что это, хозяин?! – воскликнул он потрясенно. – Ей-богу, сегодня я вижу мир впервые. Что за чудо, хозяин, эта синева, которая колышется там вдали? Как ее зовут? Море? Море? А это что – в зеленом переднике с цветами? Земля? Какой мастер сотворил все это?! Клянусь, хозяин, я впервые вижу мир!
На глазах у него были слезы.
–Эй, Зорбас! – воскликнул я. – Ты что, сдурел?
–Не смейся! Разве ты сам не видишь? Колдуют над нами, хозяин!
Зорбас выскочил из дому и пустился в пляс, катаясь по траве, словно жеребенок весной.
Взошло солнце, и я подставил ладони погреться под его лучами. Деревья расцветали, грудь расширялась, душа расцветала, словно дерево, и чувствовалось, что душа и тело созданы из одного и того же материала.
Зорбас уже поднялся с травы. Его волосы были все в росе и в земле.
–Поторапливайся, хозяин! – закричал он. – Давай оденемся и принарядимся – сегодня у нас освящение. В любую минуту могут нагрянуть поп со старостами. Если они увидят, что мы катаемся по траве, позор компании! Так что надеть рубахи с накрахмаленными воротничками и галстуки! Сделай рожу посерьезнее! Ничего, если головы нет, достаточно, чтобы шляпа была… Эх, люди!
Мы оделись, приготовились, пришли рабочие, появились и старосты.
–Потерпи, хозяин, не вздумай смеяться, не то – опозоримся!
Впереди шел отец Стефан в засаленной рясе с бездонными карманами. При освящении, на похоронах, на свадьбах, на крестинах он бросал в эти бездны все, чем его только благодарили, – изюм, бублики, пироги с творогом, огурцы, котлеты, кутью, конфеты, а вечером старая попадья надевала на нос очки и, жуя, принималась за разбор…
За отцом Стефаном шли старосты – Контоманольос, хозяин кофейни, который повидал мир, потому что ездил до самой Ханьи и даже видел принца Георгия; спокойный и радушный дядюшка Анагностис в белоснежной рубахе с широкими рукавами; строгий и официальный учитель с тростью и, наконец, ступающий медленным, тяжелым шагом Маврантонис в черным платке, черной рубахе и черных сапогах – он поздоровался, едва приоткрыв рот, скорбный и угрюмый, и остановился поодаль, повернувшись к морю спиной.
–Во имя Бога! – торжественно произнес Зорбас.
Он пошел впереди, а все прочие последовали за ним, исполненные религиозного благочестия.
Прадавние воспоминания о магических священнодействиях пробуждались в груди у крестьян. Все устремили взгляд на попа, словно ожидая увидеть, как он борется с незримыми силами и заклинает их. Вот уже тысячи лет чародей воздымал руки, кропил кропилом воздух, бормотал всесильные чудодейственные слова, и лукавые демоны убегали, а из воды, земли и воздуха спешили на помощь человеку добрые духи.
Мы подошли к яме, вырытой у берега для первого столба подвесной дороги. Рабочие подняли большое сосновое бревно и установили его вертикально в яме. Отец Стефан надел епитрахиль, взял кропило и, осуждающе глядя на бревно, начал строго бубнить заклятие: «…и водрузи его на твердой скале, дабы ни ветер, ни вода не смогли причинить ему вред… Аминь!»
–Аминь! – громовым голосом воскликнул Зорбас и перекрестился.
–Аминь! – воскликнули старосты.
–Аминь! – рабочие воскликнули последними.
–Бог да благословит труды ваши и пошлет вам блага Авраама и Исаака! – пожелал отец Стефан, а Зорбас сунул ему в руку купюру.
–Прими мое благословение! – довольно пробормотал поп.
Мы вернулись в барак, где Зорбас стал угощать вином и постной закуской – осьминогом, кальмарами, мочеными бобами, маслинами, а затем все официальные гости двинулись вдоль берега и пропали из виду. Магический обряд окончился.
–Хорошо это у нас получилось! – сказал Зорбас, довольно потирая ручищи.
Он разделся, надел рабочую одежду, взял кирку и крикнул рабочим:
–Вперед и с Богом, ребята!
Весь тот день Зорбас яростно трудился, уйдя в работу с головой. Через каждые пятьдесят метров рабочие копали яму, устанавливали столбы и тянули трос до самой вершины. Зорбас производил измерения, вычисления, отдавал распоряжения, не поев, не покурив, не передохнув в течение всего дня. Он отдался делу целиком.
–Половинчатые работы, – сказал мне как-то Зорбас, – половинчатые разговоры, половинчатые грехи, половинчатые добродетели и довели мир до его нынешнего плачевного состояния. Дойди же до конца, человек, бей, не бойся! Бог значительно больше презирает полудьявола, чем архидьявола!
Вечером после работы Зорбас в изнеможении улегся на берегу.
–Я усну здесь, – сказал он. – Дождусь здесь рассвета, и снова примемся за работу. Назначу смены, которые будут работать и ночью.
–К чему такая спешка, Зорбас?
Он немного помедлил с ответом.
–К чему? Хочу увидеть, правильно ли я определил угол. Если нет, то дьявол нас попутал, хозяин. А чем скорее я увижу, что дьявол нас попутал, тем лучше!
Зорбас торопливо и жадно поел, и вскоре берег огласился его храпом. А я некоторое время сидел еще, наблюдая на бледно-голубом небе звезды. Я видел, как весь небосвод едва заметно движется, полный созвездий, и череп мой, словно купол обсерватории, тоже двигался, следуя за звездами. «Созерцать пути звезд, круговращаясь вместе с ними…»[50] Эти слова Марка Аврелия исполнили сердце мое гармонии.
XXI
Наступила Пасха. Зорбас принарядился, надел цурапьи – македнские толстые шерстяные носки баклажанного цвета, которые связала ему какая-то кума, и обеспокоенно прохаживался по холму у берега. Приставив ладонь козырьком поверх своих огромных бровей, он вглядывался вдаль – в сторону села.
–Запаздывает, негодница, запаздывает, потаскуха, запаздывает, изодранный флаг…
Новорожденная бабочка прилетела и попыталась было сесть Зорбасу на усы. Зорбасу стало щекотно, он дунул ноздрями, бабочка тихо взлетела и пропала в солнечных лучах.
Мы ожидали мадам Ортанс, чтобы вместе отпраздновать Светлое воскресенье. Мы уже зажарили на вертеле барашка, приготовили кокореци[51], расстелили на песке белую простыню, покрасили яйца и полушутя-полурастроганно договорились с Зорбасом устроить ей блестящий прием. На пустынных песчаных берегах эта располневшая, надушенная, чуть прогнившая русалка невольно привлекала нас своим чудаковатым очарованием. Когда ее не было с нами, чего-то не хватало – запаха, напоминающего одеколон, красного цвета, переваливающейся утиной походки, хрипловатого голоса и пары прокисших выцветших глаз.
Из миртовых и лавровых ветвей мы соорудили триумфальную арку, через которую ей предстояло пройти, поверх арки прикрепили четыре флага – Англии, Франции, Италии и России, а еще выше посредине – длинную белую простыню с голубыми полосами[52]. Пушек у нас не было, но мы одолжили пару ружей и решили дожидаться на холме и, едва заметив, что наша тюлениха приближается своей виляющей походкой к берегу, тут же начать пальбу. В этот великий день нам хотелось воскресить на пустынном песчаном берегу ее былое величие, чтобы бедняжка забылась на какое-то время и уверовала, будто она снова – молодая, румяная, с упругой грудью, в лаковых туфельках и шелковых чулках. Да и какое значение имело бы Воскресение Христово, если бы не призывало воскреснуть в нас юность, радость, веру в чудо – так, чтобы старая кокотка снова стала двадцатилетней девушкой?
–Запаздывает, негодница, запаздывает, потаскуха, запаздывает, изодранный флаг… – время от времени бормотал Зорбас, подтягивая слезавшие баклажанные носки.
–Иди сюда, Зорбас! – позвал я. – Посиди здесь, в тени цератонии, покури. Придет она, никуда не денется.
Зорбас бросил последний, полный ожидания и надежды взгляд на дорогу к селу и устроился под цератонией. Уже близился полдень, было жарко. Вдали радостно и торопливо зазвонили пасхальные колокола. Время от времени до нас долетали звуки критской лиры[53]. Все село гудело, словно весенний улей.
Зорбас покачал головой.
–Прошли годы, когда душа моя всякий раз на Пасху воскресала вместе с Христом, – сказал он. – Прошли! Теперь воскресает только мое тело: угостил один, угостил другой, возьми, пожалуйста, эту закуску, возьми другую, ем я больше и более вкусную пищу, которая не превращается целиком в навоз, – что-то остается, что-то спасается, превращается в хорошее настроение, в танец и песню, в легкую ссору, и это самое «что-то» я и называю Светлым воскресеньем.
Зорбас сорвался с места и снова стал всматриваться вдаль, затем помрачнел и сказал сердито:
–Какой-то малец бежит.
Он сам рванул навстречу посыльному. Мальчуган приподнялся на цыпочках, что-то прошептал на уху Зорбасу, и тот встрепенулся рассерженно:
–Заболела? Заболела?! Пошел отсюда, не то я тебе… – Он повернулся ко мне: – Сбегаю в село, хозяин, погляжу, что там с потаскухой… Потерпи немного. Дай-ка мне пару крашенок, мы их с ней разобьем. Я мигом!
Зорбас сунул крашенки в карман, снова поправил сползавшие носки и отправился в путь.
Я спустился с холма и улегся на берегу на прохладной гальке. Дул легкий бриз, море покрылось барашками, две чайки опустились брюшком на небольшие волны и горделиво покачивались, следуя ритму моря.
Я с восторгом думал о спокойствии и прохладе, которые ощущали брюшком птицы, смотрел на чаек и думал: вот путь – найти великий ритм и доверчиво следовать ему!
Через час показался довольно поглаживающий свои усы Зорбас:
–Простудилась, бедняга. Ничего серьезного. Теперь, как пришла Страстная Неделя, отправилась и мадам прошлой ночью на бдение, хоть она и католичка, – ради меня, говорит. И простудилась, бедняга. Поставил я ей банки, натер хорошенько маслом из лампадки, дал рому – завтра будет здоровехонька. Ну и бесстыжая, есть в ней прелесть: было ей щекотно, когда я ее растирал, и ворковала она, как голубка.
Мы расположились у еды, Зорбас наполнил стаканы и нежно сказал:
–За ее здоровье! И пусть дьявол не спешит забирать ее!
Некоторое время мы ели и пили молча. Издали долетали, словно жужжание пчел, страстные звуки критской лиры: Христос все еще воскресал на террасах домов, а пасхальный барашек и пасхальные крендели все еще преобразовывались в исполненные любовной страсти мантинады.
Поев и выпив вдоволь, Зорбас навострил свое огромное, поросшее волосами ухо.
–Лира… – пробормотал он. – Танцуют в деревне!
Зорбас вскочил: он насытился, и вино ударило ему в голову.
–Чего мы тут расселись, как наседки? – воскликнул Зорбас. – Пошли попляшем! Не жаль тебе барашка? Так вот зря и пропадет? Ну-ка, вставай, потанцуем и споем! Зорбас воскрес!
–Погоди, Зорбас. Ты что – сдурел?
–Честное слово, хозяин, что бы ты ни говорил, а мне жаль барашка. И крашенок жаль, и пасхальных кренделей, и творога. Клянусь, если бы я съел хлеба да маслин, то сказал бы: «Эх, поспать бы, к чему тут веселиться? От маслин да хлеба чего еще ждать?» Но чтобы такая еда пропадала впустую – жаль! Пойдем, хозяин, отметим Воскресение!
–Сегодня у меня нет настроения. Сходи потанцуй и за меня тоже.
Зорбас схватил меня за руку и поднял на ноги:
–Христос воскрес! Ах, если бы мне твою молодость! Море, женщина, вино, работы непочатый край! И всему этому можно отдаться целиком, без остатка! Отдаться работе, вину, любви, не боясь ни Бога, ни дьявола! Вот что значит быть молодцом!
–Это барашек заговорил в тебе, Зорбас. Рассвирепел он и стал волком, – сказал я, засмеявшись.
–Барашек стал Зорбасом. Это Зорбас с тобой говорит! Слушай меня и ругай меня! Я – Синдбад-мореход, но не потому, что много странствовал по свету, вовсе нет! Я воровал, убивал, лгал, переспал с целой толпой женщин. Нарушил все заповеди. Сколько их? Десять? Почему их не двадцать, не пятьдесят, не сто, чтобы все их нарушить?! И все же, если есть Бог, я совсем не боюсь завтра же предстать пред ним. Не знаю, как тебе объяснить понятнее, но все это не имеет никакого значения. Да разве станет Бог подглядывать за всяким там червем земным и требовать от него отчета? Станет он гневаться, ругаться, портить себе настроение из-за того, что мы нарушили что-то, побывали на самке соседа-червяка да сожрали кусок мяса в среду или в пятницу? Да пропадите вы пропадом, жеребцы!
–Хорошо, Зорбас, – сказал я, желая раззадорить его, – Бог не спрашивает, что ты съел, зато спрашивает, что ты сделал.
–А я говорю, что даже этого он не спрашивает! «Откуда ты про то знаешь, Зорбас неотесанный?» – возразишь ты. Знаю, положительно знаю, потому что, если бы было у меня два сына, один – благоразумный, хозяйственный, рачительный, богобоязненный, а другой – гуляка, обидчик, обжора, бабник, преступающий законы, я садил бы с собой за стол обоих, однако сердце мое, пожалуй, лежало бы больше ко второму. Возможно, потому, что он на меня больше похож. Но кто сказал, что я на Бога похож меньше, чем отец Стефан, который день и ночь творит покаяния, копит деньги, а своему ангелу-хранителю даже воды не подаст?
Бог веселится, убивает, творит беззаконие, любит, трудится, гоняется за неуловимыми птицами, точь-в-точь как я. Ест то, что ему нравится, женщину берет ту, которая ему нравится. Бывает, идет по земле красавица писаная – душа радуется! – и вдруг разверзается земля, и нет ее. Куда она девалась? Кто взял ее? Если она благоразумная, говорят: «Бог ее взял». Если же она вертихвостка, говорят: «Дьявол ее взял». А я, хозяин, говорил тебе и снова говорю: Бог и дьявол – одно и то же!
p>Я не стал отвечать. Зорбас взял свою трость, лихо заломил шапку набекрень, сочувственно (так мне показалось) глянул на меня, и губы его на мгновение дрогнули, словно он желал сказать что-то, но передумал, и, подкручивая усы, быстро зашагал к селу.В вечернем свете я видел на гальке его исполинскую тень: Зорбас удалялся, поигрывая тростью, и весь берег оживал от его шагов. Некоторое время я напрягал слух, пока шаги Зорбаса постепенно затихали вдали. И вдруг, почувствовав, что мне предстоит остаться в одиночестве, я вскочил. Зачем? Куда? Я не знал, еще не принял никакого решения рассудком, но тело мое вскочило само по себе и решило, не спрашивая меня.
–Вперед! – громко сказал я, словно отдавая приказ.
Я направился к селу. Шел я быстро и решительно, время от времени останавливаясь, чтобы вдохнуть воздух весны. Земля пахла ромашкой, а по мере приближения к селу все сильнее чувствовался идущий волнами запах лимонных и апельсиновых деревьев и цветущего лавра. На западе начала свой радостный танец звезда Венера.
«Море, женщина, вино, работы непочатый край!» – невольно сорвались с моих губ слова Зорбаса. «Море, женщина, вино, работы непочатый край! И всему этому можно отдаться целиком, без остатка! Отдаться работе, вину, любви, не боясь ни Бога, ни дьявола! Вот что значит молодость и сила!» – снова и снова мысленно повторял я, словно желая ободрить самого себя, и шел вперед.
И вдруг я резко остановился. Словно пришел туда, куда желал. Куда? Я глянул перед собой. Это был сад вдовы. За тростниковой изгородью и дикими смоковницами женский голос тихо пел песню. Я посмотрел вокруг. Никого. Я подошел, раздвинул тростник. Под апельсиновым деревом стояла женщина в черном, с открытой шеей. Она срезала цветущие ветки и пела. Ее полуобнаженная грудь сияла в сумерках.
Дыхание у меня перехватило. «Это зверь, – подумал я. – Зверь, которому это известно. Мужчины рядом с такими – слабые эфемерные создания, тупицы и болваны! Как и самки некоторых насекомых – кузнечик, акрида, паук, она тоже, наевшись и все еще ненасытная, пожирает на рассвете мужчин…»
Вдова словно вдруг почувствовала на себе мой взгляд, резко прервала свою тихую песню и обернулась. Словно две молнии, встретились наши взгляды. Я почувствовал слабость в коленях, словно увидел за тростником тигрицу.
–Кто там? – сдавленным голосом спросила вдова.
Она застегнула жилетку, скрыв грудь. Лицо ее помрачнело.
Я попытался было уйти, но слова Зорбаса тут же зазвучали в сердце, придав смелости. «Море, женщина, вино…»
–Это я. Я, открой!
Едва произнеся эти слова, я испугался и снова попытался было уйти.
И все же я выдержал – устыдился Зорбаса.
–Кто там?
Она сделала шаг – медленно, осторожно, бесшумно. Вытянула шею и прищурила глаза, пытаясь разглядеть. Затем шагнула еще раз – нагнувшись, крадучись.
И вдруг лицо ее просияло. Она высунула кончик языка и облизала губы.
–Хозяин? – спросила она, и голос ее стал нежнее.
Она сделала еще один шаг – затаившаяся, собранная, готовая к нападению.
–Хозяин? – снова спросила она глухо.
–Да.
–Иди сюда!
Выглянуло солнце, рассвело. Зорбас вернулся и сидел у барака. Он курил и смотрел на море, ожидая меня.
При моем появлении Зорбас поднял голову и посмотрел на меня. Ноздри его заходили, как у гончей. Он вытянул шею, глубоко вдохнул воздух, принюхался. И сразу же лицо его засияло: он учуял на мне запах вдовы.
Зорбас медленно поднялся. Лицо его расплылось в улыбке. Протянув ко мне руки, Зорбас сказал:
–Прими мое благословение!
Я лег, закрыл глаза, слушал, как тихо, убаюкивающе дышит море, и покачивался вместе с ним, словно чайка. Так вот, нежно убаюканный, уснул я и увидел сон. Исполинская негритянка сидела на корточках на земле, и казалось, будто она – древний киклопический храм из черного гранита. Я все ходил вокруг нее, пытаясь найти вход, будучи ростом с мизинец на ее ноге, не более. И вот, обойдя уже ее стопу, увидел я вдруг черную дверь, похожую на пещеру. Раздался голос:
–Входи!
И я вошел.
Проснулся я около полудня. Солнечные лучи скользили через окошко, рассыпались на простынях и ударялись о висевшее на стене зеркальце с такой силой, что, казалось, разбивали его на тысячи осколков.
Я вспомнил виденную во сне исполинскую негритянку, море соблазнительно шептало, я снова закрыл глаза, и показалось мне, будто я счастлив. Ставшее легким, довольное тело было словно зверь, который вышел на охоту, поймал добычу, съел ее, а теперь облизывался, лежа на солнце. Разум тоже был телом и отдыхал, насытившись. Казалось, мучительные вопросы, жестоко терзавшие его, получили самый простой ответ.
Все ликование минувшей ночи устремлялось из глубин моего существа, растекалось, поило и насыщало землю, из которой я был сотворен. Лежа так с закрытыми глазами, я слышал – так мне казалось, – как трещит и расширяется мое тело. Минувшей ночью я впервые столь осязаемо ощутил, что душа – тоже плоть, возможно более подвижная, более прозрачная, более свободная, но тоже плоть. Плоть и эта душа, которую немного клонит ко сну, которая ужасно устала от долгих походов и перегружена тяжким наследием, однако в великие мгновения она пробуждается и вскидывается, встряхивая пять своих щупальцев, словно крылья.
Какая-то тень упала на меня. Я открыл глаза. Зорбас стоял в дверях и довольно смотрел на меня.
–Не нужно просыпаться, хозяин! Не нужно… – тихо сказал он с материнской нежностью. – Сегодня тоже праздник. Спи!
–Я выспался всласть, – сказал я и резко поднялся.
–Сделаю тебе гоголь-моголь, – сказал Зорбас. – Это придает силы.
Я не ответил – побежал на берег, окунулся в море и обсох на солнце. Но в ноздрях, на губах, на кончиках пальцев у меня все еще был неистребимый сладостный запах. Словно мягкий творог. Словно лавровое масло, которым мажут себе волосы критские женщины.
Вчера она срезала охапку цветущих лимонных ветвей, чтобы отнести их сегодня в церковь Христову, в час, когда жители села танцуют на площади у тополей и церковь пуста. Иконостас над ее кроватью был весь в лимонном цвету, среди которого виднелась сердобольная и печальная Богородица.
Зорбас нагнулся и поставил рядом со мной чашку со взбитыми яйцами, положил два больших апельсина и пасхальный кулич. Он прислуживал мне молча и счастливо, словно мать возвратившемуся с войны сыну. Зорбас ласково глянул на меня и сказал:
–Пойду забью несколько столбов.
Я медленно жевал на солнце, погрузившись в глубокое телесное блаженство, словно плывя по освежающему изумрудному морю. Я не позволял разуму лишать тело плотской радости, удерживая ее в определенных границах и претворяя в мысль. Я предоставил телу свободу радоваться, как животное – с ног до головы, и только изредка поглядывал на чудо, которое было в мире вокруг, на чудо, которое было внутри меня, и говорил самозабвенно: «Что это? Как это мир смог обрести такую гармонию с нашими ногами, руками, телом?» А затем я закрывал глаза и молчал.
Вдруг я вскочил, пошел в барак, взял рукопись «Будды» и раскрыл ее. Я находился уже в конце. Лежа под цветущим деревом, Будда поднял руку и велел, чтобы пять элементов, пребывавших вокруг него, – земля, вода, огонь, воздух, дух – распались.
Я больше не нуждался в этом лике моего мучительного волнения, я уже прошел через него, окончил служение Будде, а теперь поднял руку и велел, чтобы Будда распался.
Торопливо, используя всемогущие заклинания – слова, я предавал исчезновению его тело, затем – его душу, затем – его разум. Безжалостно: я спешил.
Я нацарапал последние слова, издал последний крик и начертал толстым красным карандашом мое имя: я закончил.
Взяв толстый шпагат, я туго перевязал рукопись, испытывая странную радость, будто вязал по рукам и ногам грозного врага. Так дикари вяжут дорогих им покойников, чтобы те не могли выйти из могил и стать вампирами.
Прибежала босая девочка в желтой юбочке и с красным яйцом в руке. Девочка остановилась и испуганно посмотрела на меня:
–Ну? – спросил я с улыбкой, подбадривая ее. – Чего тебе нужно?
Девочкаглотнула воздуху и сказала, запыхавшись:
–Мадама прислала меня за тобой. Она в постели сидит, бедняга. Тебя зовут Зорбас?
–Хорошо, – сказал я. – Приду.
Я вложил ей в другую ручку еще одно красное яйцо, девочка стиснула его и убежала.
Я встал и отправился в путь. Шум села все нарастал, слышались сладостные звуки критской лиры, праздничные голоса, ружейные выстрелы, мантинады. Когда я подошел к площади, юноши и девушки собрались у покрывшихся листвой тополей и готовились к танцу. Вокруг на каменных выступах сидели и наблюдали за ними, опустив подбородок на посох, старики, а за ними стояли старухи. Посредине сидел прославленный лирник Фануриос с апрельской розой за ухом. Левой рукой он держал критскую лиру, установив ее прямо на колене, а правой быстрыми движениями пробовал смычок с громко звенящими колокольчиками.
–Христос воскрес! – громко сказал я, проходя мимо.
–Воистину воскрес! – раздался радостный гул мужских и женских голосов.
Бросив быстрый взгляд, я увидел юношей в широких враках[54], туго стянутых поясами на стройных телах. На лоб и на виски им свисала, словно кудри, бахрома головных повязок. Увидел я и девушек с монистом на шее, в вышитых белых платках, которые, потупив взгляд, тайком поглядывали на юношей и желали их.
–Не хочешь к нам, хозяин? – послышались голоса, но я уже прошел мимо.
Мадам Ортанс лежала на своей широкой кровати – единственном предмете мебели, хранившем ей верность. Щеки ее горели, она кашляла.
Едва увидав меня, мадам жалобно застонала:
–А Зорбас, кум? Зорбас?..






