Невероятные похождения Алексиса Зорбаса Казандзакис Никос
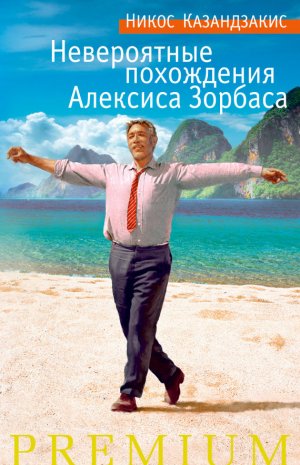
Я пошел по другой дороге, спускаясь к берегу. Порывисто дул горячий африканский ветер, донося запахи из ближних садов. Земля благоухала, море смеялось, небо было голубым и блестящим, как сталь.
Зима сгибает тело и душу, а теперь пришло тепло, и грудь расправилась. Идя так, я услышал хриплые крики в небе, поднял голову и снова увидел необычайное зрелище, с детства вызывавшее во мне восторг: выстроившись в ряд, словно воины, возвращались из теплых стран журавли, неся с собой ласточек – так угодно фантазии – на крыльях и в глубоких изгибах своих сухопарых тел.
Ритмичное круговращение времени, вращающийся круг мироздания, четыре лика земли, друг за другом освещаемые солнцем, уходящая жизнь, с которой уходим и мы сами, снова вызвали волнение в груди. Вместе с журавлиным криком там снова зазвучало предупреждение, что жизнь эта дается каждому человеку только один раз, другой жизни нет, все радости, которые только есть, можно испытать лишь в этом мире, жизнь проходит быстро и другой возможности не представится больше никогда во веки веков.
Разум, услышавший эту безжалостную – и вместе с тем исполненную жалости – весть, принимает решение одолеть любое убожество и слабость, одолеть лень и тщетные великие надежды и жить кадым уходящим навсегда мгновением.
В памяти возникают великие примеры, становится ясно, что ты – ничтожен, что жизнь твоя растрачивается на малые радости, на малые печали и на пустую болтовню. И тогда ты кричишь: «Позор! Позор!» – и кусаешь себе губы до крови.
Журавли пролетели по небу, исчезли на севере, но все еще хрипло кричали в непрестанном полете в мыслях, в пространстве между висками.
Я добрался до моря и торопливо шагал вдоль берега. Трудно гулять в одиночестве у моря: каждая волна, каждая птица в небе кричит, напоминая о долге. Когда гуляешь вместе с кем-то, можно смеяться, разговаривать, спорить – создается шум, из-за которого не слышно, что говорят волны и птицы. Может быть, они вообще ничего и не говорят, а только смотрят, как ты движешься среди никчемных голосов и болтовни, и умолкают.
Я улегся на гальке, закрыл глаза. «Что же такое душа? – думал я. – И что за таинственное соответствие существует между ней и морем, облаками, запахами? Словно она – тоже море, и облако, и запах…»
Я поднялся, снова пошел вдоль берега и принял решение. Какое? Я того не знал.
И вдруг за спиной у меня раздался голос:
–Куда ты, хозяин? Уж не в монастырь ли?
Я обернулся. Кряжистый, похожий на бочонок старик без посоха, в черной крученой повязке на голове, улыбаясь, махал мне рукой. Следом за ним шла его старуха, а за ней – дочь, смуглая, с дикими глазами, в белом платке.
–В монастырь, – ответил я. – Пойду послушаю песнопения в честь Богородицы.
–Да поможет тебе ее милость!
Старик зашагал быстрее, подошел ко мне.
–Не ты ли будешь компания по добыче угля?
–Я.
–Ну так пусть пошлет тебе Богородица хорошую прибыль! Ты для нас доброе дело делаешь – даешь хлеб бедным кормильцам семей, спасибо тебе!
И чуть погодя этот замечательный старик, пронюхавший уже, что дела идут к дьяволу, утешил:
–Даже если ничего не заработаешь, сынок, не бери это близко к сердцу! Прибыль все равно получишь: душа твоя в рай попадет…
–И я к тому же стремлюсь, дедушка.
–В грамоте я не шибко разбираюсь, однако слышал как-то в церкви слово Христово, и слово это запечатлелось у меня в памяти раз и навсегда. Продай, дескать, все, что у тебя есть и чего нету, и купи Великую Жемчужину. А что это за Великая Жемчужина? Спасение души, сынок. Твое благородие, хозяин, и направляется за Великой Жемчужиной.
Великая Жемчужина! Сколько раз сияла она в мыслях моих, во мраке, словно большая слеза!
Так мы и двигались: впереди – двое мужчин, позади – две женщины, скрестив руки на груди. Время от времени мы перебрасывались словами, говоря о маслинах, завяжется ли их цвет, а если пойдут дожди, созреет ли ячмень. Думаю, оба мы были голодны, потому что вскоре разговор зашел о еде и уже не менялся.
–А что ты из еды больше всего любишь, дедушка?
–Все, все, сынок. Большой грех говорить – эта еда хороша, а эта – плоха!
–Почему? Разве выбирать нельзя?
–Нет, нельзя.
–Почему же?
–Потому что есть на свете люди, которые голодают.
Я замолчал, устыдившись. Сердце мое еще не смогло стать столь благородным и сострадательным.
Небольшой монастырский колокол зазвучал радостно и весело, словно женский смех.
Старик перекрестился.
–Помоги нам, Всемилостивая Убиенная! – прошептал он. – На шее у нее – рана от ножа кровоточит. Во времена корсаров…
И старик принялся расписывать страсти Богородицы, будто это была настоящая женщина, испуганная беженка, израненная неверными агарянами, и пришла она в слезах с Востока вместе с Младенцем своим.
–Раз в году из раны ее струится настоящая теплая кровь. Помнится, однажды на ее праздник – я был тогда еще отроком безусым – отовсюду из окрестных сел собрались люди поклониться ее милости. Было это пятнадцатого августа[41]. Расположились мы на ночлег: мужчины – во дворе, женщины – внутри. И вот слышу я во сне – велик ты, Господи! – взывает Богородица. Вскочил я, бросился к иконе, простираю руку к ее шее, и что же я вижу? Пальцы мои – в крови…
Старик перекрестился, повернулся назад, глянул на женщин и, пожалев их, воскликнул:
–Потерпите, женщины, уже недалеко! – Он заговорил тише: – Тогда я еще женат не был. Пал я ниц, поклонился ее милости и решил оставить этот лживый мир и уйти в монахи…
Старик засмеялся.
–Почему ты смеешься, дедушка?
–Да как тут не смеяться, сынок? В тот же день на празднике Сатана нарядился женщиной и явился мне. Это и была почтенная!
И, не оборачиваясь, он указал назад большим пальцем на молча следовавшую за нами старуху и сказал:
–Ты не смотри, что сейчас к ней прикоснуться противно. Тогда она, негодница, вся трепетала, как рыбка. Была она крутобровая в полном смысле слова, а теперь – эх, жизнь пропащая! – где теперь ее брови? Их тоже дьявол забрал, выпали!
Тут старуха позади нас зарычала, словно злая собака на цепи, но не проронила ни слова.
–Вот монастырь! – сказал старик, вытянув вперед руку.
У самого моря, вклинившись между двух больших скал, красовался небольшой белоснежный монастырь. Посредине возвышался свежевыбеленный известью, маленький и круглый, напоминающий женскую грудь купол церкви, вокруг церкви располагалось несколько келий с голубыми дверями, во дворе стояли три стройных кипариса, а вокруг, у ограды, – толстые цветущие кактусы.
Мы зашагали быстрее. Из открытого окошка храма послышались мелодичные псалмы. В морском воздухе запахло благоуханным ладаном. Стрельчатые ворота были открыты, мощенный белой и черной морской галькой двор сиял чистотой. По обе стороны, вдоль стены, стояли вазоны с мятой, майораном и базиликом.
Покой, нега. Солнце шло на закат, и выбеленные стены окрасились в розовый свет.
Теплая, освещенная только наполовину церквушка пахла воском. Мужчины и женщины колыхались в дыму ладана, несколько монахинь в плотно прилегающих к телу черных сутанах высокими сладостными голосами пели «Господи Всемогущий». Они непрестанно каялись, а сутаны их шуршали, словно крылья.
Много лет уже не слышал я церковного пения. После бунта ранней юности я с презрением и гневом проходил мимо церквей. Со временем я стал мягче: иногда ходил на главные праздники – на Рождество, на всенощные, на Светлое воскресенье – радовался, чувствуя, как воскресает еще пребывавший во мне ребенок. Дикари верят, что, когда музыкальный инструмент перестает выполнять свою религиозную миссию, утрачивая свой дух, он издает гармоничный звук. В такое эстетическое наслаждение преобразовалась во мне религия.
Я прошел в угол и оперся о скамью, блестящая поверхность которой, отполированная множеством прикосновений верующих, напоминала слоновую кость, и слушал, как из глубины веков доносятся византийские мелодии: «Радуйся, вершина, мыслям человеческим недоступная. Радуйся, глубина, очам ангельским незримая… Радуйся, Невеста невенчанная…»
Монахини падали ниц, и снова шуршали, словно крылья, их сутаны.
Минуты проносились, словно ангелы с благоухающими ладаном крыльями, с нераспустившимися лилиями во дланях, воспевая красоту Марии. Солнце зашло, опустились пушистые голубые сумерки. Не помню, как я вышел во двор и оказался под самым большим кипарисом рядом со старой настоятельницей и двумя молоденькими монахинями. И последовало угощение – варенье, прохладная вода и тихая беседа…
Мы говорили о чудесах Богородицы, о лигните, о курах, которые как раз начинали нестись весной, о сестре Евдокии, страдавшей от луны. Она падала на церковные плиты, билась всем телом, словно рыба, пускала пену изо рта и рвала на себе одежды…
–Ей тридцать пять лет, – сказала, вздохнув, настоятельница. – Проклятый возраст, трудное время. Богородица поможет и исцелит ее. Через десять-пятнадцать лет исцелит…
–Десять-пятнадцать лет… – тихо сказал я и вздохнул.
–Что такое десять-пятнадцать лет? – строго спросила настоятельница. – Что это в сравнении с вечностью?
Я не ответил, зная, что вечность – это каждое уходящее мгновение. Я поцеловал белую, мягкую, пахнущую ладаном руку настоятельницы и ушел.
Семнело. Несколько ворон торопливо возвращались в свои гнезда, из дупел вылетали на охоту совы, а из земли выходили улитки, гусеницы, черви, мыши, чтобы стать добычей совам.
Чудодейственная змея, кусающая собственный хвост, обвилась вокруг меня. Земля рожает. Пожирает собственных детей, снова рожает, снова пожирает. Замкнутый круг.
Я огляделся вокруг. Темно и пусто. Все крестьяне уже ушли, никто меня не видел. Я разулся, опустил ноги в море, прилег на песке. Возникла потребность ощутить нагим телом камни, воду, воздух. Сказанное настоятельницей слово «вечность» разозлило меня, упало на меня, словно аркан на неукротимого коня. Я вскочил, чтобы избавиться от него, почувствовать без одежды, грудью к груди землю и море, удостовериться, что эти любимые недолговечные творения существуют.
«Ты существуешь! Только ты, о камень и земля, вода и воздух! – мысленно взывал я. – А я, о Земля, – последний из рожденных тобой сыновей. Я припадаю к груди твоей, сосу и не отпускаю ее! Ты оставила мне для жизни всего мгновение, но это мгновение для меня – твоя грудь, кормящая меня!»
Мне словно грозила опасность низвергнуться в человекопожирающее слово «вечность». Я рассказывал, с каким страстным желанием когда-то – когда? еще год назад? – я склонялся над этой пропастью, закрыв глаза и широко расправив руки, готовый броситься вниз.
Когда я был в первом классе начальной школы, во второй части букваря была у нас сказка для чтения. Ребенок упал в колодец и очутился в прекрасном городе. Помню, были там роскошные сады, мед, сладкий рисовый кисель, игрушки… Я читал по слогам, и каждый слог втягивал меня в сказку все глубже. И вот как-то в полдень прибежал я из школы домой, склонился над колодцем у нас во дворе под виноградными лозами и стал зачарованно вглядываться в блестящий черный лик воды. И показалось мне, что увидел я прекрасный город с домами и улицами, с детьми и виноградником, изгибающимся под тяжестью сочных гроздей. И вот я дал себе полную свободу, опустил голову вниз, раскинул руки и уже отталкивался ногами от земли, чтобы лететь вниз. Но тут мать увидела меня, закричала, бросилась ко мне и в самый последний момент схватила поперек спины…
Когда я был маленьким, мне грозила опасность упасть в колодец, когда вырос – опасность упасть в слово «вечность». И в некоторые другие слова – «любовь», «надежда», «родина», «Бог». С каждым годом казалось, что мне удалось спастись и продвинуться дальше. Дальше я не продвигался: всего-навсего менял слово и называл это избавлением. А последние два года я повис над словом «Будда».
Но спасибо Зорбасу! Это – последний колодец, последнее слово, и теперь я избавлюсь уже навсегда. Навсегда? Мы всегда так говорим.
Я вскочил. Все мое тело, с головы до пят, было счастливо. Я разделся и бросился в море. Волны смеялись, и я смеялся вместе с ними. Мы играли. А когда я устал, вышел на берег, обсох на ночном воздухе и широкими легкими шагами отправился в путь, мне показалось, что я обрел спасение от грозной опасности, что я снова прильнул к груди матери и принялся сосать.
XVI
Подойдя к берегу у лигнитной горы, я вдруг резко остановился. В бараке горел огонь. «Зорбас вернулся! – радостно подумал я и уже хотел было пуститься бегом, но сдержался. – Не нужно показывать радости. Лучше предстать перед ним рассерженным и хорошенько пожурить его. Я ведь послал его для срочного дела, а он растратил деньги, спутался с шансонетками, задержался на целых двенадцать дней. Нужно прикинуться рассерженным, нужно…»
Я замедлил шаг, чтобы успеть рассердиться. Я пытался распалить себя, хмурил брови, сжимал кулаки, имитировал все сердитые жесты, чтобы вызвать в себе злость. Но так и не разозлился: по мере того как я подходил, радость моя только возрастала.
Я подкрался на цыпочках и заглянул в освещенное окошко. Зорбас стоял на коленях у зажженного примуса и жарил кофе. Сердце мое не выдержало, и я закричал:
–Зорбас!
Дверь тут же распахнулась, и Зорбас, босой, без рубашки, выскочил наружу. Он вытянул в темноте шею, заметил меня и раскрыл было объятия, но тут же совладал с собой и опустил руки.
–Здравствуй, хозяин! – нерешительно сказал Зорбас и остановился передо мной с выражением растерянности на лице.
Я попытался придать голосу побольше строгости и сказал насмешливо:
–Добро пожаловать! Не подходи – ты весь пропах парфюмерным мылом.
–Если б ты знал, сколько я отмывался, хозяин, – пробормотал он. – Сколько тер и скоблил свою чертову шкуру, прежде чем предстать перед тобою! Целый час мылся! Но этот проклятый запах… Впрочем, куда ему деваться? Не впервой – улетучится волей-неволей.
–Пойдем внутрь, – сказал я, чувствуя, что из-за разбиравшего меня смеха больше не могу так разговаривать.
Мы вошли в барак, который весь пропах пудрой, мылом, женским запахом.
–А это что еще за маскарад? – закричал я, увидав разложенные на ящике в ряд сумочки, парфюмерное мыло, женские чулки, красный зонтик и два флакона с духами.
–Подарки… – пробормотал Зорбас, опустив голову.
–Подарки?! – переспросил я, пытаясь разозлиться. – Подарки?
–Подарки, хозяин. Не сердись. Для несчастной Бубулины… Пасха скоро, она ведь тоже человек.
Мне с трудом удалось подавить смех.
–Самого главного ты так и не привез, – сказал я.
–Чего еще?
–Свадебных венков.
И я сообщил, что` наплел израненной страстью русалке.
Зорбас почесал голову, призадумался немного и наконец сказал:
–Нехорошо ты поступил, хозяин, нехорошо. Ты уж извини. Такие шутки, хозяин… Женщина ведь создание слабое, деликатное, сколько раз повторять? Как фарфоровая ваза. Относиться к ней надо очень бережно.
Мне стало стыдно. Я тоже раскаивался, но было уже поздно. Чтобы переменить разговор, я спросил:
–А с проволокой что? С инструментами что?
–Я все привез, все, не беспокойся! И овцы целы, и волки сыты. Подвесная дорога, Лола, Бубулина, хозяин, – все в порядке!
Он снял с огня джезву, налил мне в чашку кофе, дал привезенных бубликов с сезамом и медовую халву, которую, как ему было известно, я очень любил.
–Я тебе гостинец привез – большую банку халвы! – сказал Зорбас с нежностью. – И тебя не забыл. А для попугая – мешочек арахиса. Никого я не забыл. Голова у меня на месте.
Я ел бублики и халву и пил кофе, сидя, скрестив ноги, на полу, а Зорбас тоже пил свой кофеек, курил, смотрел на меня, и взгляд его завораживал, словно взгляд змеи.
–Ну как – решил мучивший тебя вопрос, старый висельник? – спросил я уже мягче.
–Какой вопрос, хозяин?
–Человек женщина или не человек?
–Ну-у! И с этим покончено! – ответил Зорбас, махнув ручищей. – Человек она, такой же человек, как и мы с тобой, даже хуже! Увидит у тебя кошелек, тут же теряет сознание, липнет к тебе, теряет свою свободу, да еще и радуется, что теряет, потому что, видишь ли, за всем этим – блеск твоего кошелька. Но вскоре… Будь оно все проклято, хозяин!
Он поднялся, выбросил сигарету в окно, и сказал:
–Ну а теперь – мужской разговор. Скоро Страстная неделя. Проволоку мы привезли, пора уже сходить в монастырь, поговорить с жеребцами и подписать бумаги насчет леса… Пока они подвесную дорогу не увидели и соображать не начали, понимаешь? Время идет, хозяин, довольно бездельничать, пора уже доставать породу, грузить ее на корабли, покрывать расходы… Эта поездка в Кастро дорого обошлась: дьявол, видишь ли…
Зорбас замолчал. Мне стало жаль его. Он был похож на ребенка, который нашалил, а теперь не знал, как исправить дело, и сердечко его тревожно билось.
«И не стыдно тебе позволять этой великой душе пребывать в столь плачевном состоянии? – мысленно сказал я себе. – Разве ты еще встретишь когда-нибудь другого Зорбаса? Так что возьми тряпку и сотри!»
–Оставь дьявола, Зорбас, мы в нем не нуждаемся! – резко воскликнул я. – Забудь про то, что было. Возьми лучше сандури!
Зорбас протянул было руки, словно желая заключить меня в объятия, но затем тут же опустил их, одним прыжком очутился у стены, приподнялся на носках и снял сандури. Теперь, когда он прибизился к светильнику, я разглядел, что волосы у него черные как смоль.
–Эй, что это у тебя за волосы, негодник? Где ты их раздобыл?
–Покрасил я их, хозяин, покрасил злосчастные…
–Зачем?
–Так вот, из самолюбия. Шел я однажды с Лолой и держал ее за руку. То есть нет… Вот так, чуточку, с самого краешка! Тут увязался за нами какой-то ублюдок, совсем мелкий, и давай кричать, проклятый: «Эй, старик, куда внучку ведешь?»
Бедной Лоле стало стыдно, да и мне тоже. И чтобы не давать ей повода стыдиться в другой раз, пошел я в тот же вечер к парикмахеру и выкрасился.
Я засмеялся. Зорбас с серьезным видом посмотрел на меня:
–Смешно, хозяин? Но послушай все-таки, что за таинственное существо человек. С того самого дня, как покрасил я волосы, стал я совсем другим человеком. Словно я и сам уверовал, что волосы у меня – черные (видишь ли, человек легко забывает то, что ему невыгодно), а силы – ей-богу! – ох как прибавилось. И Лола это почувствовала. Помнишь, у меня раньше здесь, в пояснице, болело? Теперь прошло! Ты даже не поверишь, про то твои книжки не пишут…
Зорбас иронически засмеялся, но тут же раскаялся и сказал:
–Извини. Единственная книжка, которую я за свою жизнь прочитал, – это «Синдбад-мореход». И особой пользы не получил.
Зорбас снял сандури и снова нежно и медленно раздел его.
–Давай выйдем, – сказал он. – Здесь, в четырех стенах сандури тесно. Оно тоже животное, и ему нужен простор.
Мы вышли. В вышине рассыпались искрами звезды. Река Иордан переливалась по небу от края до края. Море шумело.
Мы уселись на гальке, скрестив ноги, и волны лизали нам ступни.
–Бедность к хорошей жизни стремится, – сказал Зорбас. – А то как же? Думает одолеть нас? Иди-ка сюда, сандури!
–Македонскую мелодию, Зорбас! Мелодию твоей родины! – сказал я.
–Критскую! Мелодию твоей родины! – ответил Зорбас. – Спою тебе мантинаду, которой научили меня в Кастро. С того дня, как я услышал ее, жизнь моя изменилась.
Он немного подумал и сказал:
–Нет, не изменилась, но теперь я знаю, что был прав.
Зорбас опустил свои толстые пальцы на сандури, поднял голову, и его дикий, хриплый, исполненный тоски голос забурлил в воздухе:
- Смелей! На Бога уповай, а там уж будь что будет:
- Пускай тебя судьба спасет, пускай тебя погубит!
Заботы рассеялись, никчемные тревоги ушли, душа достигла своей вершины. Лола, лигнит, подвесная дорога, «вечность», малые заботы и заботы великие – все стало голубым дымом, который рассеялся, и осталась только поющая стальная птица – сердце человеческое.
–Молодец, Зорбас! – крикнул я, когда была сыграна гордая мелодия. – На здоровье, все, что ты сделал, – шансонетка, крашеные волосы, растраченные деньги, – все, все! Спой еще!
Он вытянул тонкую, всю в глубоких морщинах шею:
- Когда задумал сделать что, смелей, долой сомненья!
- Всю силу юности своей растрать без сожаленья!
Десяток рабочих, ночевавших у шахты, услышали мантинады. Они поднялись, спустились, крадучись, и уселись на корточках вокруг нас. Люди слушали свою любимую мелодию, и по ногам у них бегали мурашки.
И вдруг, не в силах больше сдерживаться, они выскочили из темноты, как были – полуголые, с растрепанными волосами, в широких штанах, окружили Зорбаса с его сандури и пустились плясать на крупной гальке неистовый танец.
А я зачарованно смотрел на них и думал:
«Вот они – настоящие россыпи, которые я искал, а других мне и не нужно».
На другой день спозаранку галереи огласились ударами кирок и криками Зорбаса. Рабочие трудились яростно. Только Зорбас мог очаровать их: с ним работа становилась вином, песней, любовью, и люди пьянели. Мир в его руках оживал, камни, уголь, дерево, рабочие жили в его ритме, в глубине галерей, при свете ацетиленовой лампы шла война – Зорбас шел впереди, сражаясь с противником грудь на грудь. Он дал имя каждой галерее, каждой жиле, дал лицо безликим силам, и теперь они уже не могли уйти от него.
«Если я знаю, что эта галерея – „Канаваро“, – (так он окрестил первую галерею), – ей от меня уже не уйти. Я ее знаю по имени, и она не посмеет подложить мне свинью. Ни „Настоятельница“, ни „Косолапая“, ни „Мочегонная“. Я их всех по именам знаю!»
В тот день я незаметно для Зорбаса проскользнул в галерею.
–Давай! Давай! – кричал он рабочим. – Вперед, ребята, одолеем гору! Мы, люди, страшные звери, Бог нас видит и дрожит от страха. Вы – критяне, я – македонянин, так одолеем же гору, не поддадимся ей! Мы турок одолели, а этой горки что, испугаемся? Вперед!
Кто-то подбежал к Зорбасу. В свете лампы я разглядел исхудалое лицо Мимифоса.
–Зорбас, – раздался его заикающийся голос. – Зорбас…
Но Зорбас даже не обернулся: он увидел Мимифоса, все понял и поднял свою ручищу:
–Уходи! Ступай отсюда!
–Я от мадамы… – начал было дурачок.
–Уходи, сказано тебе! Работа у нас!
Мимифос убежал, а Зорбас раздраженно сплюнул.
–День – для работы, день – это мужчина. Ночь – для развлечения, ночь – это женщина. Не надо этого путать!
Тогда я вышел из укрытия и сказал:
–Уже полдень, ребята. Пора сделать перерыв и перекусить.
Зорбас обернулся, увидел меня и нахмурился:
–С твоего позволения, хозяин, оставь-ка нас лучше! Сходи сам пообедай. Мы двенадцать дней потеряли, нужно наверстывать упущенное. Приятного аппетита!
Я вышел из галереи и спустился к морю. Там я раскрыл книгу и забыл о голоде. «Мысль – каменоломня, – подумалось мне. – Вперед!» И я погрузился в великие галереи разума.
Будоражащая книга о заснеженных горах Тибета, о таинственных монастырях, молчаливых монахах в желтых рясах, которые, сосредотачивая свою волю, заставляют эфир принимать желанную им форму.
Высокие вершины, множество духов, витающих в воздухе, куда не долетает суетный гул мирской. Великий аскет берет своих учеников – шестнадцать юношей и ведет их в полночь к заледеневшему горному озеру. Они раздеваются, разбивают лед, погружают одежды в ледяную воду, а затем надевают снова и сушат на своем теле. Так они мочат и сушат одежду семь раз. А затем возвращаются в монастырь к заутрене.
Они поднимаются на вершину высотой пять или шесть тысяч метров, тихо садятся, глубоко и ритмично дышат, обнаженные до пояса, и не мерзнут. В ладонях у них чашка с холодной водой, на которую они смотрят, сосредотачиваются, передают воде свою энергию, вода закипает, и они готовят с ней чай.
Великий аскет собирает вокруг себя учеников и восклицает:
«Горе тому, кто не имеет в себе источника счастья!»
«Горе тому, кто желает нравиться другим!»
«Горе тому, кто не чувствует, что эта жизнь и жизнь иная есть единое!»
Уже наступила ночь, и читать стало невозможно. Я закрыл книгу и посмотрел на море. «Нужно, – подумал я, – нужно избавиться от всех кошмаров – от будд, богов, родин, идей… Горе тому, кто не избавится от будд, богов, родин, идей!»
Внезапно море стало черным. Молодой ущербный месяц уходил на закат. Вдали среди садов жалобно завывали собаки, и лай катился по ущелью.
Появился Зорбас. Он был весь испачкан, покрыт грязью, а рубаха его превратилась в лохмотья.
Зорбас присел рядом.
–Сегодня был хороший день, – сказал он. – Поработали на славу.
Я слушал слова Зорбаса, не понимая их. Мысли мои все еще блуждали среди далеких таинственных утесов.
–О чем задумался, хозяин? Ты где-то очень далеко.
Я собрался с мыслями, повернулся, посмотрел на моего товарища, кивнул и ответил:
–Ты, Зорбас, считаешь себя видавшим виды, опытным Синдбадом-мореходом, который много странствовал по свету, и пыжишься от этого. Но ты так ничего и не видел. Ничего, несчастный! И я тоже. Мир гораздо больше, чем мы думаем. Мы все странствуем и странствуем, а в действительности даже носа не высунули за порог родного дома.
Зорбас насупился и молчал. Только взвизгнул, как побитая собака.
–Есть на свете огромные богообительные горы, на которых стоит множество монастырей, – продолжал я. – В этих моастырях живут монахи в желтых рясах, которые сидят, скрестив ноги, месяц, два, шесть месяцев и думают все об одной и той же вещи. Об одной, слышишь? Не о двух – об одной! Они не думают, как мы, о женщине и лигните, о книге и лигните – все свои мысли, Зорбас, они концентрируют на одной-единственной вещи. И творят чудеса. Так и происходят чудеса. Видел ли ты, Зорбас, как линза на солнце собирает все лучи в одну-единственную точку? Вскоре в этой точке вспыхивает огонь. Почему? Потому что сила солнца не рассеялась, а собралась вся в одной точке. Так и разум человеческий: если думать об одной-единственной вещи, можно творить чудеса. Понимаешь, Зорбас?
У Зорбаса дух захватило. В какое-то мгновение он встрепенулся, словно собираясь уйти, но сдержался.
–Говори! – глухо прорычал он, но тут же сорвался на ноги и закричал: – Нет, молчи! Молчи! Зачем ты говоришь мне все это? Зачем ранишь сердце? Мне было хорошо здесь, так зачем ты меня расталкиваешь? Я голодал, Бог или дьявол (будь я проклят, если я их различаю!) бросил мне кость, и я ее обглодал. Я вилял хвостом и кричал ему: «Спасибо! Спасибо!» А теперь…
Зорбас топнул ногой о камни, повернулся ко мне спиной и пошел было к бараку, но все в нем еще клокотало, он остановился и прорычал:
–Пфф! Благодарствую за кость, которую бросил мне богодьявол! Негодная шансонетка! Старая баржа!
Зорбас схватил пригоршню гальки и швырнул в море.
–Кто же это, кто же это швыряет нам кости?!
Он подождал немного и, не дождавшись ответа, разозлился.
–Молчишь, хозяин? Если сам ты знаешь, скажи, чтобы и я знал его имя, и – будь спокоен! – тогда ему несдобровать! А так вот, наобум, с кем мне бороться? Ничего у меня так не выйдет!
–Я проголодался. Приготовь что-нибудь, поедим сначала!
–Неужто один вечер нельзя обойтись без ужина, хозяин? Один из моих дядьев был монахом, так он целую неделю только водой и солью жил. По воскресеньям и большим праздникам ел немного отрубей. Сто двадцать лет прожил.
–Сто двадцать лет прожил, потому что верил, Зорбас. Он нашел своего бога, привязал своего осла, и ничто его не беспокоило. А у нас, Зорбас, нет бога-кормильца. Поэтому зажги лучше огонь. Есть тут немного рыбы, приготовь-ка из нее суп – горячий, густой – и положи побольше лука и перца – так, как нам нравится. А потом посмотрим.
–И что ж мы увидим? – спросил Зорбас, который уже разошелся. – Как поедим и насытимся, так и забудем.
–Это как раз то, что нужно. В этом смысл еды… Давай-ка, Зорбас, приготовь рыбный суп, чтобы мысли нас не донимали!
Но Зорбас даже не пошевелился. Он стоял как вкопанный, смотрел на меня, а затем сказал:
–Послушай, хозяин. Я ведь знаю, что у тебя на уме. Вот сейчас, когда ты говорил, нашло на меня озарение, и я увидел!
–Ну и что же у меня на уме, Зорбас? – спросил я, засмеявшись.
–Ты тоже хочешь построить монастырь и поселить в нем вместо монахов несколько таких же бумагомарателей, как твое благородие. Чтобы вы там читали и писали дни и ночи напролет, а затем выпускали изо рта, как святые на картинах, ленты с печатным текстом. Ну что – прав я?
Я горестно опустил голову. Давние юношеские мечты, крылья, утратившие оперение, легкомыслие, благородные устремления… Основать новый духовный монастырь, затвориться в нем с десятком товарищей – музыкантов, художников, поэтов, трудиться все дни напролет и только по вечерам встречаться друг с другом за беседой… Тогда я даже составил устав такого монастыря и даже дом подыскал – у церкви Святого Иоанна Охотника на Гиметте[42]…
–Прав я! – сказал довольно Зорбас, видя, что я только краснею и молчу.
–Ты прав, Зорбас, – ответил я, скрывая волнение.
–Ну, тогда прошу тебя об одной милости, святой настоятель: меня в этом монастыре сделай привратником, чтобы я мог заниматься контрабандой. Буду время от времени доставлять в монастырь что-нибудь необычное – женщин, бузуки, бутыли с узо, жареных поросят… Чтобы вся жизнь не пропала зря среди болтовни!
Зорбас засмеялся и поспешно направился к бараку, а я побежал за ним. Он молча почистил рыбу, я принес дрова и развел огонь. Суп сварился, мы взяли ложки и стали есть прямо из горшка.
Оба мы молчали, потому что целый день ничего не ели, аппетит у нас был отменный. Мы выпили вина, настроение поднялось. Тогда Зорбас заговорил:
–А неплохо было бы, хозяин, если бы сейчас пришла к нам Бубулина. Славная женщина, будь она неладна! Ее только и не хватает. Скажу тебе по секрету, хозяин, мне ее захотелось, дьявол ее побери!
–Тебя уже больше не интересует, кто тебе швыряет эту кость?
–Тебе-то что, хозяин? Иголку в стоге сена искать? Кость важна, а не рука, которая ее бросает. Хорошая кость? Мясо на ней еще есть? Вот в чем вопрос, а все прочее…
–Еда свершила свое чудо! – сказал я, похлопав Зорбаса по плечу. – Успокоилось голодное тело? Успокоилась вопрошающая душа? Принеси-ка сандури!
Но в то самое мгновение, когда Зорбас уже поднимался, галька зашуршала под торопливыми и тяжелыми мелкими шагами. Поросшие волосами ноздри Зорбаса так и заходили ходуном.
–Легка на помине! – сказал он тихо и хлопнул себя по бокам. – Пришла! Учуяла Зорбаса сучка, взяла след и пришла.
–Пойду я. Устал. Пойду прогуляюсь, – сказал я. – А вы задавите друг друга.
–Спокойной ночи, хозяин!
–И не забывай, Зорбас: ты ей обещал свадьбу, не выставляй меня обманщиком.
Зорбас вздохнул:






