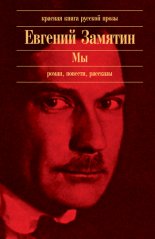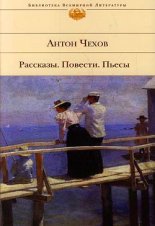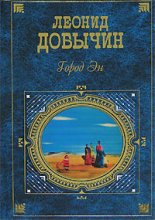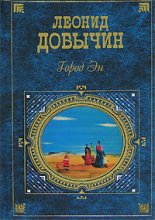Однокурсники Боборыкин Петр
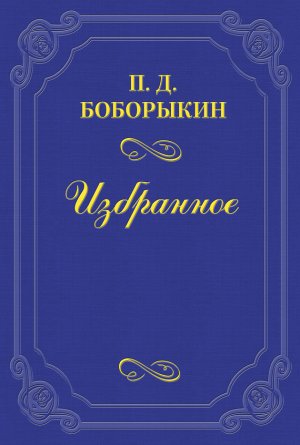
— О боже, — пробормотал Тед.
Следующие несколько часов он провел в полуобморочном состоянии от страха. Сара заставила его прочесть перед ней всю лекцию от начала до конца. После чего она сказала ему со всей искренностью:
— Ты готов, мой чемпион, совершенно готов.
— Как Даниил, когда отправился в пещеру ко львам.
— Перечитай Библию, милый. Если помнишь, они его не съели.
Перед тем как переступить порог лекционного зала, Тед решил покориться судьбе и принять свой жребий.
В обширной аудитории вразброс сидело человек сто. Все они показались ему безликими, за исключением троих: Камерона Уайли и… двух колли. Колли?
— Ты настроился? — шепотом спросил Билл Фостер.
— Думаю, да. Но, Билл, эти… четвероногие гости? Это…
— О, для Беркли это обычное дело. — Фостер улыбнулся. — Не беспокойся. На самом деле это мои самые внимательные студенты.
После чего он поднялся на трибуну и предоставил слово сегодняшнему лектору, гостю университета.
Раздались вежливые аплодисменты.
Оставшись наедине с аудиторией, Тед начал рисовать картину, поражающую воображение.
— Представьте себе, что Софокл — в свои сорок лет уже признанный драматург, победивший к этому времени в театральном состязании самого великого Эсхила, — сидит в театре Диониса и смотрит первое произведение неизвестного молодого автора по имени Еврипид…
Отныне вся публика была в его руках. Ведь эти слова перенесли всех присутствующих в прошлое — в Афины пятого столетия до нашей эры. У слушателей создавалось впечатление, будто им сейчас рассказывают о ныне живущих драматургах. И в самом деле, Тед Ламброс говорил об авторах греческих трагедий как о своих современниках.
+Завершая свое выступление, он взглянул на часы, висевшие на дальней стене. Его лекция длилась ровно сорок девять минут. Он идеально уложился. Хлопали все, и явно от души. И даже обе шотландские овчарки, похоже, одобрительно смотрели на него.
Билл Фостер подошел к нему, чтобы пожать руку, и шепнул:
— Просто блестяще, Тед. Найдешь в себе силы ответить на один-два вопроса?
Тед оказался в ловушке: ясное дело — если он откажется, это будет выглядеть как малодушие и как проявление научной несостоятельности.
И словно в кошмаре, ставшем явью, первым поднял руку Камерон Уайли. «Ладно, — подумал Тед, — вряд ли он задаст вопрос труднее, чем я задавал себе всю ночь напролет».
Англичанин встал с места.
— Профессор Ламброс, ваши наблюдения, безусловно, располагают к размышлениям. Но мне интересно, находите ли вы сколь-нибудь значительное влияние Еврипида в «Антигоне»?
Кровь снова заструилась по венам Теда. По сути дела, Уайли метнул не копье, а лавровый венок.
— Разумеется, хронологически это возможно. Но я не разделяю взглядов на «Антигону», сложившихся в ученых кругах девятнадцатого века благодаря исследованиям Джебба, который идеализировал их отношения.
— Совершенно верно, совершенно верно, — согласился Уайли. — Эти попытки истолковывать все с романтической точки зрения — глупость и вздор, которые совершенно не находят подтверждения в текстах.
Пока Уайли садился на место, одобрительно улыбаясь, Тед кивнул, давая слово кудрявой девушке из последнего ряда, которая отчаянно тянула руку.
Она поднялась и заговорила с пафосом:
— Я думаю, всем тут не очень-то понятно, что происходит. Например, какое отношение имеют эти ребята, о которых вы столько рассказывали, ко дню сегодняшнему? Вы же ни разу не произнесли слово «политика». Например, какова была позиция древних греков относительно свободы слова?
По залу пронесся недовольный ропот. Тед услышал, как кто-то из студентов произнес: «О черт!»
Билл Фостер подал знак, что можно не отвечать на этот вопрос, если он не желает. Но Тед, воодушевленный похвалой старшего коллеги, решил все же не оставлять вопрос студентки без ответа.
— Начнем с того, — приступил он к объяснению, — что, поскольку каждая греческая драма выносилась на суд перед всем населением полиса, она по сути своей и становилась политическим событием. А темы на злобу дня были так важны, что даже авторы комедий ни о чем другом и не говорили. И никаких запретных тем для Аристофана и его братии не существовало, есть даже такое греческое понятие, как parrhesia — право смело высказываться. В некотором смысле театр является неизменным подтверждением существования демократии в Древней Греции, становлению которой он непосредственно способствовал.
Девушка, задавшая вопрос, была поражена. Во-первых, тем, что Тед воспринял ее всерьез — а ведь она хотела просто заварить небольшую интеллектуальную бучу, а во-вторых, качеством его ответа.
— Ну, профессор, вы даете, — буркнула она и села.
Билл Фостер встал, сияя от удовольствия.
— На этой волнующей ноте, — объявил он, — я бы хотел поблагодарить профессора Ламброса за изумительную беседу, которая оказалась и логичной, и филологической.
Тед чувствовал себя триумфатором.
Прием в их честь проводился в доме Фостеров, в районе Беркли-хиллс. Казалось, здесь присутствовало все научное сообщество с берегов залива, не говоря уже об одном выдающемся профессоре из Оксфорда.
Настроение царило праздничное, и все разговоры были только о Теде.
— Я слышала, ваша лекция взволновала всех даже больше, чем наши недавние студенческие беспорядки, — пошутила Салли Фостер. — Я так сожалею, что пропустила ее, но мне пришлось. Кто-то ведь должен был остаться дома и приготовить все эти вкусности. А Билл заверил, что мои пирожки «тако» позволят соблазнить вас, чтобы вы остались в Беркли.
— Меня они уже соблазнили, — сказала Сара Лампрос, счастливо улыбаясь.
Почувствовав, что своей случайной репликой она поставила Теда в несколько неловкое положение, Салли быстро добавила:
— Конечно, мне не надо бы говорить такие вещи, правда? Вечно я попадаю впросак, стоит только рот открыть. Как бы там ни было, Тед, мне строго-настрого велено следить за тем, чтобы вас все время окружали различные литературные светила.
Здесь и в самом деле находились такие яркие интеллектуалы Сан-Франциско, что от высокого напряжения потрескивало в воздухе. Тед заметил, что Сара оживленно беседует с одним типом, который удивительно похож на поэта-битника Аллена Гинзберга. Присмотревшись, он увидел, что это и есть Гинзберг.
Теду пришлось в свое время ознакомиться с творчеством автора «Вопля», с его радикальными завываниями в стихах, которые вызывали так много литературных споров в студенческие годы. Когда он подходил к беседующей паре, то услышал, как Гинзберг описывает некие личные трагические переживания.
— Смотрел я сквозь окно на небо, и внезапно мне показалось, будто я заглянул в бездну вселенной. Небо вдруг как-то очень постарело. И вокруг меня то самое древнее место, о котором еще Блейк говорил, — «блаженная золотистая страна», куда так стремился попасть его подсолнух. И я вдруг понял, что само мироздание — это она и есть! Сара, ты врубаешься, о чем я?
— Привет, милая, — улыбнулся Тед, — надеюсь, не помешал.
— Вовсе нет, — ответила она и представила своего мужа бородатому барду.
— Кстати, я слышал, что вы, ребята, можете перебраться на Западное побережье, — сказал Гинзберг. — Надеюсь, вы так и поступите — здесь прана ощущается особенно сильно.
И в эту минуту их разговор прервал Билл Фостер.
— Прости, что вмешиваюсь, Аллен, но декан Ротшмидт отчаянно желает сказать Теду несколько слов перед уходом.
— Это клёво. А я с радостью продолжу очаровывать супругу чувака Теда.
Декан классического отделения пожелал выразить свое восхищение лекцией Теда и попросил его заглянуть к нему в кабинет завтра утром в десять часов.
Когда Тед шел обратно к Саре, его остановил Камерон Уайли.
— Должен отметить, профессор Ламброс, ваша лекция была превосходна. С нетерпением буду ждать ее публикации. И очень надеюсь, что когда-нибудь мы будем иметь удовольствие слушать ваши выступления в Оксфорде.
— Это была бы для меня огромная честь, — ответил Тед.
— Что ж, когда вам дадут очередной творческий отпуск, я с радостью организую ваш приезд в Англию. В любом случае, надеюсь, мы с вами не потеряемся.
Внезапно Теда словно озарило — в нем проснулось честолюбие.
Пару дней назад Камерон Уайли высоко оценил его книгу о Софокле. Сегодня вечером он восхищается лекцией, которую только что прослушал. А вдруг какое-нибудь письмо от королевского профессора из Оксфорда, содержащее те же самые выражения, поможет склонить гарвардскую чашу весов в пользу Теда?
Как бы там ни было, терять ему нечего, так почему бы не воспользоваться этим весьма благоприятным моментом?
— Профессор Уайли, я… все думал, могу ли я попросить вас об одном одолжении…
— Разумеется, — дружелюбно произнес мэтр.
— Я… у меня в следующем году заканчивается срок контракта с Гарвардским университетом, и я надеюсь, что вам захочется написать что-нибудь в мою поддержку…
— Я уже сочинил о вас хвалебный отзыв для публики в Беркли. Могу то же самое сообщить и в Гарвард. Не буду спрашивать, почему вы предпочитаете продлить контракт с холодными кембриджскими зимами. Во всяком случае, мне уже пора отправляться в постель, а посему я вынужден откланяться. Пожалуйста, передайте Саре от меня спокойной ночи. Она сейчас мило беседует с довольно-таки косматым типом, а мне бы не хотелось набраться от него блох.
Он развернулся и пошел прочь.
Тед расцвел в ликующей улыбке. В груди его жарким пламенем разгорался огонь надежды.
— Тед, ты был неотразим. Я так гордилась тобой — как никогда прежде. Ты всех сразил наповал.
Пока они шли к своему номеру в преподавательском корпусе, Теду не терпелось сообщить ей добрую весть.
— Даже старина Камерон Уайли, похоже, был впечатлен, — заметил он как бы невзначай.
— Знаю. Я подслушала, как он разговаривал с двумя или тремя людьми.
Он закрыл за собой дверь и прислонился к ней спиной.
— Слушайте, миссис Ламброс, а если я скажу, что нам, быть может, не придется покидать Кембридж?
— Не поняла, — ответила Сара, немного сбитая с толку.
— Знаешь, — страстно воскликнул Тед, — Уайли собирается написать в Гарвард, замолвить за меня слово. Как думаешь, письмо от него поможет мне продлить контракт и оказаться среди небожителей?
Сара мешкала с ответом. У нее было такое прекрасное настроение этим вечером, ей так все понравилось в Беркли, что эта «добрая» весть обернулась почти разочарованием. Двойным разочарованием, если точнее. Ибо сердцем она понимала, что в Гарварде решение уже принято и ничто не способно его изменить.
— Тед, — сказала она, с трудом подбирая слова, — не знаю, как мне сказать, чтобы не задеть твоих чувств. Но в письме Уайли будет просто сказано, что ты замечательный ученый и замечательный преподаватель, только и всего.
— Господи, а разве этого мало? По-твоему, я еще должен пробегать милю за четыре минуты, так, что ли?
Сара вздохнула.
— Послушай, зачем им письмо из Оксфорда, в котором говорится то, о чем им и так известно. Признайся себе: они не просто оценивают тебя как ученого. Они голосуют за то, чтобы принять тебя в члены своего клуба на ближайшие тридцать пять лет или же не принять.
— Ты допускаешь мысль, будто они не хотят меня принимать?
— Ой, да хотят они тебя принять, конечно. Вопрос только, как сильно они этого хотят.
— Вот черт, — непроизвольно вырвалось у Теда. Эйфория внезапно рассеялась, обнажив бездну отчаяния.
Сара обвила его руками.
— Тед, если это хоть как-то поможет тебе разрешить экзистенциальную дилемму, я хочу, чтобы ты знал: у тебя есть бессрочный контракт со мной.
Они поцеловались.
— Тед, — обратился к нему наутро декан Ротшмидт, — у нас в Беркли освободилось место преподавателя древнегреческой литературы, и все единодушно решили, что вы нам очень подходите. И мы готовы для начала предложить вам десять тысяч долларов в год.
Интересно, знает ли Ротшмидт, что предлагает на три тысячи больше, чем он сейчас получает в Гарварде? Впрочем, конечно же, знает. И этой разницы хватит, чтобы купить наконец приличную новую машину.
— И разумеется, мы бы оплатили все расходы, связанные с вашим переездом с Восточного побережья, — быстро добавил Билл Фостер.
— Я… весьма польщен, — ответил Тед.
Но это было еще не все. Ротшмидт продолжил обольщать его своими речами:
— Не уверен, вспомнит ли Сара — столько народу было вчера у Билла, — но седовласый джентльмен, с которым она недолго разговаривала, был Джед Роупер, глава издательства Калифорнийского университета. Он готов предложить ей должность младшего редактора — зарплату нужно будет обсудить.
— Господи, как она будет рада, — отметил Тед.
А потом добавил, по мере сил стараясь говорить будничным голосом:
— Полагаю, вы пришлете мне официальное предложение в письменном виде.
— Естественно, — ответил декан, — но это всего лишь бюрократическая формальность. Смею вас заверить, решение уже принято.
На этот раз Тед сам пригласил Уитмена на обед в преподавательский клуб.
— Седрик, если в Гарварде еще сохранилось горячее желание оставить меня на следующий срок, то мне кажется, у меня появился еще один защитник.
Наставник Теда, казалось, очень обрадовался, выслушав его.
— Я считаю, это значительно укрепит твои позиции. Я попрошу председателя комиссии напомнить Уайли по телефону о письме, чтобы мы смогли поднять вопрос о продлении твоего контракта на ближайшем собрании факультета.
«Моего контракта, — подумал Тед. — Неужели он говорит о моем контракте?»
Официальное голосование проходило двадцать четыре дня спустя. На рассмотрение факультета были представлены журнальные публикации Теда (четыре статьи и пять обзоров), его монография о Софокле (и отзывы на книгу, в которых ее называют не иначе как солидной и монументальной работой), а также различные рекомендательные письма — некоторые от специалистов в этой области, чьих имен Тед никогда не узнает. Но одно из них — определенно от королевского профессора из Оксфорда.
Тед и Сара, волнуясь, ожидали результатов у себя в квартире на Харон-авеню. Нервы у них напряглись до предела. Им было известно, что собрание началось в четыре часа, и вот часы уже показывали пять тридцать, а никаких вестей еще не поступало.
— Как думаешь? — спросил жену Тед. — Это добрый знак или дурной?
— В последний раз говорю тебе, Ламброс, — твердо заявила Сара, — я не знаю, что там на самом деле происходит. Но как твоя жена и специалист по классической филологии и тебя горячо заверяю, что ты действительно заслуживаешь (Бессрочного контракта в Гарварде.
— Если боги будут ко мне справедливы, — тут же добавил он.
— Правильно.
Она согласно кивнула.
— Но не забывай: в академических кругах нет богов — только профессора. Ушлые, испорченные, капризные представители рода человеческого.
Раздался телефонный звонок.
Тед схватил трубку.
Это был Уитмен. В голосе его не было никаких эмоций.
— Седрик, пожалуйста, положите конец моим мучениям. Как прошло голосование?
— Не буду вдаваться в подробности, Тед, но могу сказать, все было очень, очень близко. Мне жаль, но ты не прошел.
Тед Ламброс сразу утратил свои тщательно отшлифованные гарвардские манеры, которые он вырабатывал в течение нескольких лет, и громко вслух повторил слова, произнесенные десятью годами раньше, когда университет отказался выплачивать ему стипендию в полном размере:
— Вот дерьмо.
Сара тут же оказалась рядом с мужем, обхватила его руками, утешая.
Он решил не вешать трубку, пока не задаст свой последний, жгучий вопрос.
— Седрик, — сказал он спокойным, насколько это было возможно, голосом, — можно узнать хотя бы, под каким предлогом… то есть… на каком основании, в общем… почему меня не пропустили?
— Трудно сказать точно, но звучали речи типа «надо дождаться второй большой книги».
— А, — ответил Тед, с горечью подумав о том, что среди этих ребят из постоянного штата найдется один или двое таких, у кого еще и первая-то книга не написана.
Но больше он ничего не сказал.
— Тед, — продолжил Уитмен сочувственным голосом, — мы с Энн хотим, чтобы вы пришли к нам сегодня на ужин. Это ведь не конец света. И вообще еще не конец, правда. Так вы придете?
— На ужин сегодня? — повторил Тед растерянно.
Сара энергично закивала головой.
— Мм, спасибо, Седрик. В какое время нам лучше прийти?
Стоял теплый весенний вечер, и Сара настояла, чтобы они прошлись до дома Уитменов пешком, благо идти было не так далеко — около мили. Она знала — Теду понадобится некоторое время, чтобы восстановить душевное равновесие.
— Тед, — сказала Сара, пока он уныло брел, волоча ноги, — я знаю, у тебя в голове теснится по меньшей мере с десяток нецензурных слов, и, чтобы не свихнуться, тебе надо выругаться как следует прямо здесь и сейчас, пока мы на улице. Бог свидетель, мне тоже хочется заорать. Тебя же просто поимели.
— Нет. Меня роскошно поимели. Я хочу сказать, кучка озлобленных недоумков растерзала мою карьеру в клочья, словно шакалы. Так бы и вышиб ногами все их проклятые двери из красного дерева, так бы и выбил из каждого все дерьмо.
Сара улыбнулась.
— Надеюсь, жен трогать не будешь.
— Нет, конечно, — резко выпалил он.
А потом, осознав, что возмущается как подросток, он начал смеяться. Они прошли еще квартал, хихикая, как вдруг смех Теда превратился в рыдания. Он зарылся головой в плечо Сары, а она стала гладить его, успокаивая.
— Господи, Сара, — плакал он, — как это глупо. Но мне так хотелось. Ужасно хотелось.
— Я знаю, — ласково шептала она. — Я знаю.
*****
Для Стюарта и Нины это лето стало лучшим за всю их совместную жизнь.
Каждое утро он садился на свой велосипед и крутил педали в сторону дома Росси, часто встречая на своем пути Марию с двумя дочками в автомобиле-универсал — они направлялись к обширным владениям Эдгара Уолдорфа, чтобы позагорать на пляже вместе с Ниной и их сыновьями.
Стю обычно возвращался не поздно, уставший и одновременно возбужденный, хватал Нину за руку и тащил ее к морю, где они долго гуляли по берегу.
— Ну и как великий композитор-классик справляется с написанием мелодий для спектакля? — спросила она его во время одной из таких прогулок.
— О, наш парень фантастически многогранный талант: левой рукой он может писать рондо, и тут же правой — рэгтайм. Но он — не пособник.
— Что ты хочешь этим сказать?
— Я хочу сказать, он не снижает интеллектуальную планку для своих слушателей. Некоторые его мелодии… довольно сложные.
— А я думала, секрет успеха на Бродвее — это простота и доступность, — заметила Нина.
— Не волнуйся, милая, он же не пишет «Воццека»[57].
— Это так интересно. Тем более, я же знаю, твои тексты просто замечательные. Но мне бы очень хотелось услышать, что с ними сделал Дэнни. Мария говорит, он даже ей еще ничего не показывал.
— Ну, полагаю, у каждого художника свои особенности и причуды, — сказал Стюарт и, подцепив прибитый к берегу кусок дерева, оттолкнул его, чтобы он опять поплыл по воде.
— И у каждого брака тоже, — добавила Нина. — Думаешь, они счастливы?
— Знаешь, милая, — предостерегающе произнес он, — я с ним работаю как поэт, а не как психиатр. Знаю только одно: он хороший партнер по работе.
В начале сентября, на выходные по случаю Дня труда, к ним прилетел Эдгар Уолдорф с Харви Мэдсоном — послушать, что получилось у молодых гениев после целого лета изнуряющих трудов.
Как всегда очень щедрый, Эдгар привез с собой гору подарков для сыновей Кингсли, дочерей Росси, а также для жен авторов. Что касается «мальчиков», то они для него тоже кое-что приготовили.
После сытного обеда в итальянском ресторане все его участники, включая обоих приехавших гостей и самих творцов со своими женами, собрались в гостиной, чтобы первыми услышать музыку к «Манхэттенской Одиссее».
Пока Дэнни сидел за роялем, Стюарт комментировал, вставляя тут и там фрагменты диалогов, чтобы показать, как ловко у него получилось сделать произведение Джойса жизнеспособным в условиях театра. А потом он показывал сами песни. Все тексты, как на подбор, были остроумными. Музыка — энергичной, с зажигательными ритмами.
После искрометного октета, исполняемого в борделе Беллы Коэн, где у Блума были галлюцинации, избранная публика всем своим небольшим составом разразилась бурными аплодисментами. Дэнни тут же с гордостью заметил:
— Кстати, на Бродвее найдется не много шоу с песнями в пятидольном метре.
— В пятидольном чего? — спросил Эдгар Уолдорф.
— Это такой замысловатый размер, пять четвертей. Ну, это не важно, поскольку вам нравится то, что вы слышите.
— Нравится? — воскликнул Эдгар. — Не то слово. Я просто без ума. А что, если «пять» символизирует количество лет, в течение которых спектакль не будет сходить со сцены?
— А зачем ограничиваться числом пять? Почему бы не шесть и не семь? — не удержался, чтобы не вклиниться, Харви Мэдисон, привыкший всему набивать цену.
Оба автора вместе спели финальный дуэт Блума и Стивена, заменившего главному герою сына. Завершив исполнение, они посмотрели на своих родных и близких, чтобы услышать вердикт.
Вначале повисла благоговейная тишина.
— Ну что, Нина? — нетерпеливо спросил Стюарт свою жену. — Ты бы купила билет на такое представление?
— Думаю, я бы ходила на него каждый день, — ответила она, ликуя оттого, что ее муж так мастерски справился со своей работой.
— А моя жена это одобряет? — спросил Дэнни.
— Вообще-то я не профессиональный критик, — робко начала Мария, — но искренне полагаю, что ничего лучшего для мюзикла я еще не слышала — по крайней мере из того, что уже написано.
Эдгар Уолдорф поднялся со своего места и громко объявил:
— Леди и джентльмены… и гении, я только что имел честь услышать первое исполнение того, что, безусловно, станет самым потрясающим мюзиклом, от которого весь Бродвей просто сойдет с ума.
Затем он повернулся к авторам.
— Меня интересует единственный вопрос: ребята, а что вы будете делать с теми десятью миллионами баксов, которые он вам принесет?
— С девятью, — тут же поправил Харви Мэдисон, даже в шутке оставаясь профессионалом.
Теперь настала очередь мужчин гулять по пляжу.
Эдгару нужно было завершить дело с финансированием проекта. Он надеялся, что магнитофонная запись, которую он повезет в Нью-Йорк, ему в этом поможет. Но им все еще нужно было обсудить вопрос о режиссере-постановщике и актерах.
Дэнни так восхищался работой Джерома Робинса в «Вестсайдской истории», что ему очень хотелось, чтобы этот режиссер ставил весь спектакль, включая хореографию. Стюарт восторженно соглашался. Однако Эдгар, одержимый мыслью о британском происхождении критика из «Таймс», настаивал на кандидатуре сэра Джона Чалкотта, чью недавнюю постановку в «Олд Вике» так хорошо приняли.
— В конце концов, — приводил свои доводы продюсер, — мы ведь имеем дело с одним из величайших классиков английской литературы. Почему бы не отдать его в руки того, кто привык заниматься бессмертными.
— «Бессмертные» может еще означать «мертвые», — заметил Дэнни Росси.
— Прошу тебя, Дэнни, — резко ответил Эдгар, — у меня нюх на такие вещи. Я считаю, имя сэра Джона придаст еще больше значимости представлению.
Еще с четверть мили выкручивая им руки, он добился своего.
Теперь речь зашла о выборе артистов на роли. Начали они с полного единодушия. Не только все они приняли на ура кандидатуру Зеро Мостеля, но, как оказалось, и сам звездный исполнитель уже дал свое согласие на участие в постановке — и только потому, что она основана на этом знаменитом романе.
Выбрать актрису на главную женскую роль оказалось гораздо сложнее. У Дэнни была на этот счет, как он полагал, гениальная идея. Он писал партию Молли — эта героиня в романе Джойса является профессиональной певицей — для актрисы, имеющей настоящие вокальные данные. А потому предложил имя певицы, обладающей, по его мнению, лучшим голосом на данный момент: Джоан Сазерленд.
— Оперная певица в бродвейском мюзикле? — Эдгар Уолдорф поморщился. — Кроме того, она ни за что не согласится.
— Во-первых, — сказал Дэнни, — я познакомился с ней, когда дирижировал «Лючией» в «Ла Скала». Она восхитительная женщина. И уверен — у нее хватит смелости попробовать себя в новом качестве.
— Послушай, — увещевал его вечный увещеватель Эдгар Уолдорф, — я ни в коей мере не подвергаю сомнениям таланты мисс Сазерленд, но опера и Бродвей не сочетаются, поверь мне.
— А как насчет Эцио Пинца в мюзикле «Юг Тихого океана»? — спросил Стюарт.
— Чистая случайность, просто повезло, — сказал Уолдорф. — Кроме того, успехом тот спектакль обязан Мэри Мартин. И вообще, мы не можем позволить себе Сазерленд. Не в том смысле, что не по карману, а просто нам нужна артистка, которая привыкла отрабатывать по восемь спектаклей в неделю. Артистка проверенная, которая всем нравится, — она бы притягивала всех, волновала и восхищала…
— И имела бы большие сиськи, так, что ли? — весело спросил Дэнни.
— Это бы тоже не повредило, — сказал продюсер, не кривя душой.
Дэнни Росси остановился как вкопанный, упер руки в бока и застыл подобно небольшому колоссу посреди песков Мартас-Винъярд.
— Знаете, Эдгар, я лучше умру, чем позволю Теоре Гамильтон выступать в моем спектакле. У меня свои принципы.
— Ко мне это тоже относится, — добавил Стюарт.
— Полегче, ребята, полегче. Никто здесь не собирается заставлять вас изменять своим принципам, — вступил в переговоры Харви Мэдисон. — В американских театрах работают тысячи талантливых девушек, и я уверен, мы обязательно встретим такую, кто будет соответствовать всем нашим требованиям. А теперь, может, повернем обратно? Нас уже полчаса ждут к коктейлю.
Когда четверо мужчин вернулись к дому, Мария Росси, разжигавшая вместе с Ниной Кингсли костер из древесного угля, подняла голову и спросила:
— Ну что, господа, вы уладили все свои проблемы?
— Абсолютно все, — сказал Харви Мэдисон. — Взгляды наших великих умов совпали.
И тогда, в сумерках, опустившихся на безлюдный берег, Эдгар Уолдорф провозгласил:
— Я имею огромное удовольствие сообщить всем, что репетиции «Манхэттенской Одиссеи» в постановке сэра Джона Чалкотта начнутся двадцать шестого декабря. А первое представление, которое позволит обкатать спектакль перед Бродвеем, состоится в здании Шубертовского театра в Бостоне, седьмого февраля. Ко времени премьеры в Нью-Йорке двадцать четвертого марта все билеты будут распроданы на год вперед. Поскольку наш мюзикл не только гениально написан, но на афишах также будут блистать убойные имена мистера Зеро Мостела и…
Он помолчал для большего эффекта.
— И мисс Теоры Гамильтон.
Обе женщины с тревогой взглянули на своих мужей, на лицах которых читалось странное смирение.
Во время барбекю дружеское общение продолжилось. Затем все быстро перебрались с пляжа в дом и молча расселись перед телевизором. И с восхищением стали следить за тем, как виртуозно Сэнди Куфакс переправлял свои мячи, так что никому из игроков команды «Великанов Сан-Франциско» не удавалось нанести ни одного удара.
— Как он смог тебя уговорить? — спросила Мария, когда они ехали к себе домой на машине.
— Я и сам не понял, — признался Дэнни. — Я хочу сказать, он все время играл словами — у меня до сих пор голова идет кругом. Я чувствовал себя, как генерал Кастер в окружении индейцев. Только отобью одну из атак Эдгара, как он опять налетает со спины с очередным томагавком.
— Но, Дэнни, — не унималась Мария, — вы же художники. Безусловно, последнее слово должно было остаться за вами.