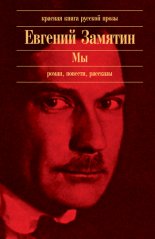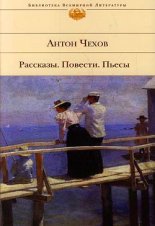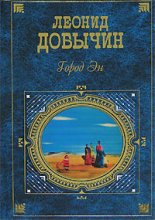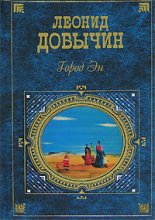Однокурсники Боборыкин Петр
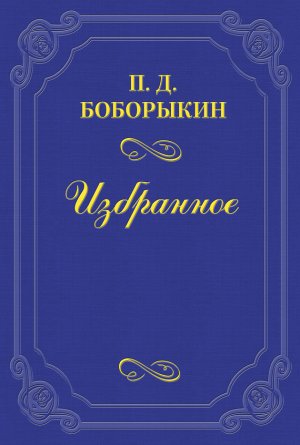
Услышав об этих разгромных статьях, Мария захотела прилететь и поддержать Дэнни.
— Нет, — сказал он ей по телефону, — интуиция мне подсказывает, что мы будем работать день и ночь. Тебе лучше держаться подальше от линии огня.
— Дэнни, — ободряюще произнесла она, — такое случалось и раньше со многими спектаклями, когда они шли в других городах. У вас достаточно времени, чтобы понять, что не так.
— Да уж. К тому же я подозреваю, что бостонские критики в каком-то смысле снобы. Надо подождать — посмотрим, что скажет «Вэрайети». Это единственное мнение, которому я доверяю.
Как известно, «Вэрайети» — уважаемое издание в мире шоу-бизнеса, оно выражает неприкрытую правду в своей манере, которую ни с чем не спутаешь. И, судя по заголовку «Нет причин для радости», это был абсолютный разгром.
Дэнни быстро пробежал глазами статью, пропуская неодобрительные комментарии о текстах Стюарта, о постановке сэра Джона, о героических усилиях ведущих артистов преодолеть слабый материал, и наткнулся на абзац, где говорилось непосредственно о его работе:
«Что касается выбора музыкальных тем, Росси, очевидно, находится не в своей стихии. Он будто пишет шум, а не мелодии. Его материал явно не поддается пению. У него, похоже, аллергия на мелодичную музыку, что, наверное, очень модно в его эстетских кругах, но вряд ли это обстоятельство подвигнет среднего зрителя давиться у билетных касс.
Одним словом, над «Манхэттенской Одиссеей» предстоит еще хорошенько поработать, прежде чем показывать ее на главной сцене».
Сидя в тиши своих апартаментов, в роскошной обстановке отеля «Риц», Дэнни то и дело перечитывал эту рецензию, не веря собственным глазам.
Почему все критики так злобно настроены? Ведь эта музыка — лучшее из всего, что он написал. Он был в этом уверен. По крайней мере, до настоящего времени.
В дверь постучали. Он мельком взглянул на часы. Двадцать минут пополуночи. Сразу вспомнились слова его нью-йоркских друзей, что, когда спектакль прокатывается по городам и весям, тут уж не до отдыха. Это как в родильном отделении больницы: неважно, день на дворе стоит или ночь.
На сей раз его ночным посетителем был Эдгар Уолдорф, и вид у продюсера был уже не такой восторженный.
— Я не разбудил тебя, Дэн?
— Нет, я как раз собирался выпрыгнуть в окно.
— Значит, ты видел «Вэрайети»?
— Да уж.
Эдгар плюхнулся в кресло и изобразил тяжкий вздох.
— Знаешь, Дэн, у нас неприятности.
— Эдгар, мне известно, что у нас проблемы. Но на то и существуют пробные спектакли, разве не так?
— Стюарта нужно заменить, — тут же ответил он. — То есть он, конечно, очень большой талант, огромный талант. Но слишком неопытен. И он никогда не работал в условиях, когда к тебе пристают с ножом к горлу, как сейчас.
Дэнни не знал, что сказать. Его друга и университетского однокашника — прекрасного и умнейшего писателя — собираются уволить без долгих рассуждений.
Он молча подумал немного, а потом тихо сказал:
— Он очень чувствительный парень, это его убьет…
— Нет, — ответил продюсер. — Он уже большой мальчик. И обязательно напишет что-нибудь — в другой раз. А когда мы спасем представление, он получит авторский гонорар, чтобы жить потом припеваючи. Но сейчас нам нужна скорая помощь в лице доктора — того, кто пишет хорошо, смешно и, главное, быстро.
— Ну и кто же у вас на уме? — спросил Дэнни, с ужасом думая о том, что придется переделывать изысканные диалоги Стюарта.
— Моя жена собирается звонить в Нью-Йорк, чтобы узнать, кто нам подойдет.
— Но Стюарт остается автором текстов песен…
— Кто его знает, может, и здесь нам надо будет поработать, — отметил Эдгар дрогнувшим от неловкости голосом. И тут же добавил: — Стю возвращается в Нью-Йорк. Я не хочу, чтобы он писал тексты для песен.
— Проклятье, Эдгар, еще не хватало, чтобы я сообщал ему об этом! Тебе не кажется, что это бесчеловечно?
— Это не я бесчеловечный, Дэн, а наш бизнес. На Бродвее все очень строго: либо пан, либо пропал, либо один вечер провала, либо десять лет успеха! Это же война, будь она неладна, между артистами и газетой «Нью-Йорк таймс»!
— Ладно, ладно, я все понял, — согласился Дэнни. — Но кто же будет работать со мной над текстами?
Эдгар сделал неестественно глубокий вздох, словно весь огромный гостиничный номер превратился в кислородную палатку. Он заерзал, схватился за сердце и самым медоточивым, бархатным баритоном произнес:
— Дэниел, о музыке нам тоже надо поговорить.
— А с ней что не так?
— Она великолепная, потрясающая, необыкновенная. Ну, может быть, чересчур необыкновенная.
— В каком смысле?
— Видишь ли, не все люди смогут оценить такое высокое качество. Ты же читал отзывы.
«О нет, — подумал Дэнни Росси, — только не это. Неужели он и меня собирается уволить!»
— Нам нужно несколько песен, — объяснял Эдгар. — Ну, ты понимаешь — мелодий.
— Я читал «Вэрайети», Эдгар. Я обязательно упрощу весь материал. И напишу запоминающиеся мелодии.
Его охватил страх, и в голосе непроизвольно зазвучали просительные и даже умоляющие интонации.
— Дэнни, ты классический композитор. Как знать, может, ты вообще Моцарт наших дней!
Он ухватился за этот малоубедительный комплимент, чтобы воспользоваться им как оружием — ради собственного спасения.
— В том-то и дело, Эдгар. Моцарт мог писать в любом жанре — от заупокойной мессы до вариаций на тему детской песенки.
— Да, — ответил продюсер. — Но его уже нет в живых. И послушай меня, детка: тебе нужна помощь.
Наступила пугающая тишина. И что же этот невежда собирается предложить?
— Пойми, в этом нет ничего личного, Дэн. Все ради нашего представления. Мы сделаем так, чтобы спасти шоу. Слышал когда-нибудь о Леоне Ташкеняне?
И действительно, к своему неописуемому несчастью, Дэнни о нем слышал. Его друзьям из числа серьезных музыкантов Ташкенян был известен как «Трэшкенян». Дешевый поденщик, жалкий штамповщик безвкусных музыкальных поделок!
— Он пишет дерьмо, Эдгар, чистейшее, неподдельное дерьмо!
— А мне начхать, как ты это называешь, — резко возразил Эдгар. — У Леона это есть, и оно нам нужно. Понял? Неужели мы такие важные, что нос воротим? Любое поле нуждается в удобрении, так и нашему спектаклю нужно некоторое количество дерьма!
Дэниела Росси просто распирало от злости и унижения.
— Эдгар, я знаю свои права, они закреплены контрактом, составленным в гильдии драматургов. Ты не можешь без моего согласия привлекать дополнительно к работе никого из композиторов. А я в данном случае не даю своего согласия.
— Ладно, мистер Росси, — спокойно произнес Уолдорф, — я тоже знаю свои права. Это позорный спектакль. Твоя музыка дрянь и туфта. Людям она противна. И если ты отказываешься от помощи мистера Леона Ташкеняна, то выбор у тебя простой. Помрешь в своем Бостоне, и тебя похоронят в твоем любимом Гарвардском дворе. Ибо, как только ты скажешь: «никакого Леона», я тут же иду прямо в театр и вывешиваю объявление об отмене спектакля.
И он устремился прочь в театральном гневе, зная, что Дэнни уже побежден.
На самом деле Эдгар пошел прямо к телефону на первом этаже, чтобы позвонить оттуда Леону Ташкеняну, который уже с раннего утра работал в одном из гостиничных номеров отеля «Статлер».
Дэнни выпил успокоительное, которое, похоже, не помогало. Затем он стал думать, кому бы позвонить, чтобы его хоть как-то утешили. И вспомнил о своем агенте, Харви Мэдисоне, который уже давно ждал звонка. Тот сразу же заверил своего знаменитого клиента, что в результате долгих препирательств с Эдгаром Уолдорфом, состоявшихся чуть раньше тем же вечером, он защитил принципы Дэнни по всем пунктам. Имя Леона Ташкеняна вообще нигде не будет упоминаться.
— Послушай, Дэн, — философствовал Харви, — так происходит сплошь и рядом. Любой бродвейский спектакль сшивается из нескольких затасканных лоскутов, взятых у нескольких разных людей. И если крупно повезет, то критики решат, что это чистый шелк, а не использованная туалетная бумага.
Дэнни весь кипел от подобного предательства.
— Харв, да у тебя принципов ни на йоту, — орал он.
— Очнись, Дэнни. В театральном мире принципы — это то, о чем субботним вечером все забывают. Хватит изображать из себя паиньку, и скажи еще спасибо Ташкеняну, что он согласился писать за тебя. Знаешь, мы с тобой еще потолкуем, малыш. Как только новая пьеса будет готова, я обязательно прилечу в Бинтаун, и мы сядем с тобой, закажем хорошей еды и спокойно поговорим по душам. Расслабься.
Швырнув трубку, Дэнни подумал, а не напиться ли ему? Но затем вдруг осознал, что из-за всех своих душевных расстройств он совсем забыл о верном Стюарте Кингсли, ныне так жестоко изгнанном.
Он набрал Нью-Йорк. Нина сказала, что ее муж не может подойти к телефону.
— Дэнни, ты безжалостный, бессердечный негодяй, — зашипела она. — Неужели ты готов продать всех и вся? Он ведь считал тебя своим другом. Бог свидетель: он бы тебя защитил…
— Нина…
— Надеюсь, это шоу сольют в канализацию, и тебя вместе с ним. Там вам и место!
— Пожалуйста, Нина, позволь мне поговорить со Стюартом. Прошу тебя.
Она немного помолчала. А потом произнесла, еле сдерживая бешенство:
— Он в Хартфорде, Дэнни.
— Какого черта он делает в…
Но, еще не закончив фразу, он все понял.
— Ты хочешь сказать, он в клинике?
— Да.
— Что случилось?
— Он получил удар в спину ножом от своего друга.
— Я хотел спросить, что он натворил?
— Запил горсть таблеток бутылкой виски. К счастью, я пришла домой раньше времени.
— Слава богу! Нина, я…
— Это ты себя должен утешать, Дэниел. Врачи говорят, его состояние абсолютно…
— Стабильное, — подхватил Дэнни с искренним облегчением.
— Они считают, он продолжит попытки свести счеты с жизнью, и, возможно, в следующий раз ему это удастся.
К счастью, Дэнни пришлось уехать из Бостона на несколько дней. Сначала он дирижировал оркестром, выступая с двумя концертами в Лос-Анджелесе, затем сел в «Ред-Ай» прямо до Нью-Йорка. Он прибыл туда в шесть утра, немного вздремнул в гримерной, после чего проглотил для бодрости парочку «аллегро виваче» и пошел репетировать в течение трех часов.
Вечером он исполнил сложный фортепианный концерт Шёнберга и сорвал такую бурю аплодисментов, что ему пришлось играть на бис.
Выбор Дэнни — полный контраст по музыке — показал, что бостонские события никак не выходят у него из головы. Он сыграл моцартовские вариации до мажор на французскую песню «Ah, vous dirai-je, maman»[59] (KV 265).
В Бостон он вернулся в половине первого ночи. Когда он входил в свои апартаменты в отеле «Риц», телефон уже звонил.
— Да? — сказал он, устало вздыхая.
— С возвращением, Дэнни. Ты не занят?
Это был Эдгар.
— Слушай, я устал, как собака. Может, утром поговорим?
— Нет, у нас в одиннадцать назначена репетиция, и мне нужно еще размножить партии.
— Какие партии?
— Новый материал Леона. Мы можем к тебе подняться?
О нет, неужели ему еще придется знакомиться со своим заклятым врагом?
— Эдгар, тебе ведь не нужно мое ободрение. Я уже капитулировал. Мне и так понятно, что там все плохо, зачем же еще слушать…
— Ну, Леон хоть покажет тебе, что он написал, может, ты поменяешь свое мнение. И даже предложишь парочку идей.
Дэниел Росси был уже тертый калач. И теперь прекрасно знал, как будут развиваться события. Он пока не стал использовать свое право вето на музыку Леона Ташкеняна, и за ним еще сохранилась одна привилегия, хоть она и может кому-то показаться пустым жестом.
По договору, он мог снять свое имя и выйти из проекта. Какого черта, неужели это ничего не значит? Разве его имя не придает шику всему проекту? Разве его репутация серьезного музыканта не вызывает уважения среди определенной части критиков? Эдгару все же придется побегать перед ним на задних лапках.
— Ладно. Но только недолго.
— Это будет «Минутный вальс», — выпалил Эдгар и тут же повесил трубку.
Дэнни едва успел проглотить таблетку «аллегро», когда послышался стук в дверь. Ужасно нервничая, он открыл дверь. Странная парочка стояла перед ним. Элегантно одетый, круглый как арбуз Эдгар Уолдорф и рядом с ним — моложавый смуглый мужчина с набриолиненными волосами. Этот тип был весь в черном вельвете, если не считать белой рубашки, расстегнутой чуть ли не донизу, и в глаза сразу бросался золотой медальон, который уютно расположился на широкой волосатой груди.
— Привет.
Леон Ташкенян улыбнулся, протягивая руку.
— «Боллинже», — сказал Эдгар, протягивая большую бутыль с шампанским.
Дэнни ничего не сказал. Нельзя напрасно тратить боеприпасы при осаде. Когда двое вошли в номер, за ними тут же возник официант с подносом, на котором стояли три охлажденных бокала. Взяв в руки бутылку, он открыл ее и стал разливать содержимое по бокалам.
— Вы играли сегодня великолепно, — отметил Ташкенян.
— Спасибо, — буркнул Дэнни с ухмылкой, приняв эти слова за обычный для людей шоу-бизнеса треп. — А вы что, были сегодня в Нью-Йорке?
— Нет. Но концерт передавали по телевизору, в прямом эфире.
— Неужели?
— Давайте выпьем, — вмешался Эдгар, вручая по бокалу шампанского каждому из композиторов. Затем он поднял свой бокал и с чувством произнес тост: — За наш спектакль.
Леон поднял бокал, но пить не стал. Дэнни слегка пригубил и сел.
— Ладно, показывайте, что вы сделали, — сказал он Ташкеняну, протягивая руку к кипе бумаг, которую он принес.
— Пусть он сыграет, — потребовал Эдгар.
— Я знаком с нотной грамотой, — огрызнулся Дэнни.
— А никто в тебе и не сомневался, Дэниел, ты же, как-никак, Гарвард окончил, — отметил Эдгар. — Но к сожалению, у меня с образованием туго. Кроме того, мне нравится, как Леон играет. Давай, Лео, выкладывай свой материал.
И, оглянувшись на Дэнни, произнес:
— Это потрясающе! По-тря-са-ю-ще!
Бум-бам, бум-бум-бам! Леон замолотил по клавишам, как сумасшедший дровосек, вознамерившийся разломать «Стейнвей».
Дэнни поднял вверх руки.
— Хорош. Я уже наслушался, с меня хватит.
— Погоди, погоди, — запротестовал Эдгар, — он только-только разошелся.
Дэнни со вздохом уступил и потянулся за бутылкой, чтобы снова наполнить свой бокал.
Постепенно сквозь весь этот грохот стали различаться какие-то ясные созвучия. Тоника, параллельный минор, секунда, доминантсептаккорд. Неужели он и в самом деле ожидал услышать что-то еще, кроме самой банальной и затасканной последовательности аккордов во всей популярной музыке?
В жизни Дэнни бывали такие минуты, когда он мечтал стать Бетховеном. Теперь же он страстно захотел быть просто глухим. Ведь помимо прочих многочисленных «достоинств» Леон Ташкенян обладал голосом ободранной гиены.
Время от времени Дэнни разбирал какие-то слова из текстов песен. Если звучало слово «луна», то предполагаемая рифма «струна» не заставляла себя долго ждать. Как и слово «летать» сразу же шло за рифмой «мечтать». И наконец, на самом краю вокального оргазма, Леон провизжал слово «вновь» в сопровождении ми-мажорного септаккорда.
Конец был так близок — и так предсказуем! — что Дэнни с трудом сдержался, чтобы не застонать от неизбежного и сводящего скулы заключительного словечка «любовь».
На этой ноте Эдгар пустился в пляс по всей комнате. Он кинулся к Ташкеняну, чмокнул его в щеку и воскликнул:
— Ему понравилось, Дэнни понравилось!
Обливаясь потом и тяжело дыша, Леон посмотрел на человека с широким кругом интересов в современной музыке.
— Что вы думаете, мистер Росси? — спросил он, волнуясь, как новичок.
— Леон, отныне слово «хрень» получило свое новое измерение.
— Он шутит, он шутит, — нервно засмеялся Эдгар.
— Нет, не шутит, — сказал молодой человек у инструмента, тихо, но уже не так робко.
Повернувшись к Дэнни, он поинтересовался:
— А нельзя ли услышать что-нибудь более определенное из критики?
— Определенно, Леон, я возражаю против использования гармонического штампа «первая ступень, шестая, четвертая, пятая, первая».
— Это вы ее считаете штампом, мистер Росси, — возразил Леон. — А Ричард Роджерс прекрасно использовал эту гармоническую последовательность в «Голубой луне».
— Но вы же не Ричард Роджерс, а это бессмысленное чередование нот — не музыка.
Ташкенян хоть и был молод, но хорошо знал себе цену, особенно сейчас. А после такого шквала нападок он утратил к маэстро всякую почтительность.
— Послушайте, Росси, мне делать больше нечего, чем сидеть здесь и выслушивать оскорбления от чванливого и зазнавшегося пентюха вроде вас. Я и сам прекрасно знаю, что мои гармонии узнаваемые. Но в этом-то и есть суть игры. Эти штампы заставляют публику думать, будто они уже где-то слышали все это. Мелодии уже сидят у них в головах еще до того, как прозвучали. И это значит, что люди будут напевать их в антракте. А это в музыкальном театре и есть успех. Вы же ничего не имеете против успеха, или как?
В эту минуту Эдгару Уолдорфу пришлось заступиться за Дэнни, ведь он все же был звездой и ему еще предстоит светиться в его шоу, хотя и не греть.
— Мистер Росси — один из величайших композиторов нашего времени, — сказал он.
Но Ташкенян зашел уже слишком далеко, чтобы отступать.
— Чего-чего? — усмехнулся он и повернулся к Дэнни: — Да и в классике вы совсем не так хороши, как принято считать. Знайте же: мы в Джульярде разбирали последнюю часть вашего балета «Савонарола» в духе псевдо-Стравинского — как пример неуклюжей оркестровки. Вы всего-навсего прохиндей из Лиги плюща.
Леон остановился так же внезапно, как и начал, охваченный ужасом из-за того, что позволил себе сказать такое.
Дэнни не мог говорить, ибо некоторые дробинки правды из всей безудержной и беспорядочной пальбы словами, открытой по нему Леоном, достигли цели.
Они так и стояли оба, свирепо глядя друг на друга, со страхом выжидая, кто из них предпримет следующий шаг.
Как ни странно, первым стал Леон Ташкенян. Он заплакал. Полез в карман за носовым платком, вытер лицо и затем тихо произнес:
— Извините, мистер Росси. Я наговорил много лишнего.
Дэнни не знал, что на это сказать.
— Хватит дуться, — упрашивал Эдгар, — он же сказал, что извиняется.
— Я совсем не то хотел сказать, честное слово, — добавил Ташкенян кротко.
Дэнни решил, что единственный способ сохранить лицо — проявить великодушие.
— Ладно, Леон, забудьте, нам надо думать о спектакле.
Эдгар Уолдорф воспарил подобно фениксу со своего дивана отчаяния.
— Господи, как я люблю вас обоих. Какие же вы прекрасные люди.
Каким-то чудом оба прекрасных человека уклонились от его страстных объятий. Затем он взял у Леона листы с главными партиями и вручил их Дэнни.
— Вот, вышибай у них слезу с присущей тебе классической виртуозностью.
— Что?
— Ты будешь играть эти мелодии перед труппой завтра утром.
Что за новое унижение? Неужели ему придется «вышибать слезу» музыкальным навозом Леона, пока этот дешевый писака будет смотреть со стороны и злорадствовать?
— Почему я должен это играть?
— Потому что все будут думать, будто это сочинил ты, Дэн.
— И никто не знает о Леоне?
Эдгар многозначительно покачал головой.
— И никогда не узнает.
Дэнни утратил дар речи. Он обернулся к юноше, у которого глаза еще были красными от слез, и спросил:
— Вы и правда не хотите никакого признания?
Леон смущенно улыбнулся.
— Это часть бизнеса, мистер Росси. Я уверен, вы бы так же поступили на моем месте.
— Они напевают! Слышишь меня, Дэнни? Они действительно напевают!
Эдгар Уолдорф звонил из кабинета директора театра «Шуберт». Это было во время первого антракта в спектакле, когда он впервые пошел в свежей редакции, где исполнялись новые номера, написанные Леоном. Они даже добавили репризу «Всех звезд на небе не хватает», которую Теора Гамильтон теперь пела перед самым занавесом в финале (сэр Джон Чалкотт, грозивший отказаться от постановки, если не произведут эту замену, в данный момент летел обратно в Лондон).
Дэнни так и не пошел в театр — не смог заставить себя пойти туда из страха… непонятно чего. Убедиться, что новые песни провалились? Или, еще того хуже — услышать, какой они имеют успех?
— И вот еще что, Дэнни, — продолжал восторгаться Эдгар, — я чую удачу. Это сногсшибательная вещь! Доверься Эдгару Уолдорфу — все призы будут наши!
Около полуночи он услышал, как кто-то легонько и очень нежно постучался к нему в номер.
Это оказалась знаменитая — а ранее холодная и недоступная — исполнительница главной роли. Мисс Теора Гамильтон принесла с собой бутылку газировки, известной в среде шоу-бизнеса как шампанское.
— Мистер Росси, — проворковала она, — я пришла поднять тост за ваш гений. Новая баллада, которую вы написали для меня, — это просто классика. Я видела: когда опускался занавес, в глазах людей стояли слезы.
Дэнни никогда не придавал особого значения мнению этой женщины, но всегда проявлял некоторый интерес к ее выдающейся груди. И он с удовольствием увидел, что она не забыла захватить с собой эту часть тела.
— Ну так мне можно войти или нам придется пить в коридоре?
— Мадам, — сказал Дэнни с учтивым поклоном, — je vous en prie[60].
И вот легендарная Теора вплыла к нему в номер. Вначале шампанское, затем ее грудь, а потом и сердце, страстно трепетавшее где-то там под ней, — все в эту ночь принадлежало ему.
Да, музыка чарует людей. Даже если ее написал Леон Ташкенян.
Когда настал день премьерного показа спектакля в Нью-Йорке, Дэнни поручил своему шоферу привезти Марию из Филадельфии прямо в театр. Она отправилась в зал смотреть представление, тогда как Дэнни с Эдгаром, нервничая, остались бродить по пустому фойе. Каждый раз, когда из зала доносился смех или аплодисменты, они обменивались взглядами и невнятными репликами вроде: «Думаешь, им нравится?»
Уже в машине, по пути на вечеринку в честь премьеры, Дэнни с тревогой спросил Марию, что она думает.
— Ну, если честно, оригинальная версия пришлась мне больше по вкусу. Но публике, похоже, все понравилось, и полагаю, это главное.
— Нет, в расчет берется лишь то, что скажут критики.
— Я смотрела везде, — сказала она, — но не увидела Стюарта с Ниной.
— Они оба слишком нервничали, — пришлось выдумывать на ходу Дэнни. — Вообще-то они и на прием вряд ли придут. Наверное, сядут дома у телевизора и будут ждать, что там скажут.
К половине одиннадцатого ночи почти все важнейшие рецензии уже были собраны. Отзывы в телевизионных программах были единодушны в своей благосклонности. Все выражали восхищение грамотным либретто, написанным Стюартом Кингсли (жена Эдгара, которая включилась в работу после того, как Нейл Саймон отклонил предложение переделать текст, любезно согласилась с тем, чтобы ее имя нигде не упоминалось). А еще все отметили «выразительную и мелодичную музыку Дэнни Росси» (Си-би-эс тиви). И теперь уже вполне можно было предположить, что «Таймс» выступит с подобным же бредом.
Так и случилось. По сути, Эдгар взошел на эстраду и оттуда чуть ли не со слезами на глазах зачитал слова, которые сделают их всех богатыми и знаменитыми — и на всю оставшуюся жизнь.
— Это же «валентинка»! — истерически кричал он, размахивая каким-то желтым листком над головой. — Самая настоящая «валентинка»! Только послушайте, название-то какое: «Мелодия вновь царит на Бродвее».
Многочисленные артисты, инвесторы, а также сливки общества принялись поздравлять друг друга. Эдгар поднял вверх руку, требуя тишины. Наконец все успокоились и приготовились слушать дальше. Раздавался только звон бокалов, изредка перемежаемый восторженными охами и ахами женщин и благодарным шепотом виновников торжества.
Тем временем Эдгар все зачитывал строки из священного документа:
— «Сегодня на Бродвее Дэниел Росси безусловно подтвердил, что он истинный мастер любых музыкальных форм. В огромном диапазоне творческих возможностей композитора лучше всего убедиться, если сравнить его сложную, мощную и почти атональную музыку к балету «Савонарола» с нежными и бессовестно простыми мелодиями из «Манхэттенской Одиссеи». Такие жемчужины, как «Этот вечер, как и все другие вечера» и особенно «Всех звезд на небе не хватает», обязательно станут популярными темами, исполняемыми повсеместно. Поэт Стюарт Кингсли тоже доказал, что у него есть волшебный дар, необходимый для работы в театре…»
Сразу же после заключительного салюта, завершавшего дифирамбы критика («Надеюсь, спектакль будет идти вечно»), оркестр заиграл «Всех звезд на небе не хватает». И все присутствующие — старые и молодые, пьяные и трезвые — начали подпевать. За исключением Дэнни Росси.
И пока гости пели куплет за куплетом, Мария наклонилась к мужу и шепнула ему на ухо:
— А действительно очень милая песня, Дэнни.
Он поцеловал ее в щеку. Но не в знак согласия с тем, что она наивно посчитала за комплимент, а потому что на них смотрели фотографы.
Через год, в марте, на церемонии вручения театральной премии «Тони» лучшим мюзиклом года был назван спектакль «Манхэттенская Одиссея». Как и ожидалось, Дэнни Росси победил в номинации «Лучшая музыка к спектаклю». Получая от имени Стюарта Кингсли награду за лучшее либретто, Эдгар Уолдорф произнес небольшую и трогательную речь о преподавательских обязательствах Стюарта, которые не позволили автору присутствовать на церемонии.
В результате сумасшедших переговоров кинокомпания «Эм-джи-эм» заполучила права на экранизацию мюзикла за рекордную сумму почти в семь миллионов долларов.
А некоторое время спустя фотография Дэнни Росси появилась на обложке журнала «Тайм».
Еще долго Дэнни испытывал чувство стыда от унизительной тайны, связанной с созданием «Манхэттенской Одиссеи». И хотя об этой тайне знали только два человека на всем белом свете, он жил с внутренним ощущением провала.