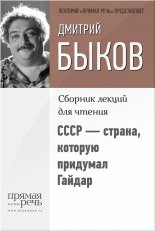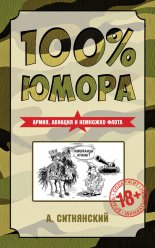Русскоговорящий Гуцко Денис
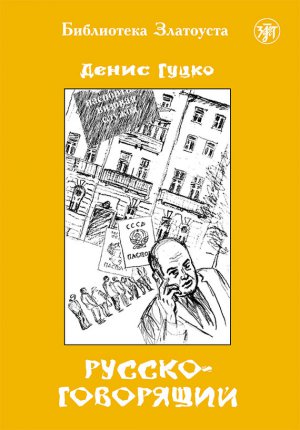
— Пошли, — сказал он, проходя мимо и направляясь к арке выхода.
Митя посмотрел на его быстро удаляющуюся спину, подумал: «Амнистия!», — и обернулся к ИВС, чтобы махнуть на прощанье в окно. Но никто из находившихся в комнате не смотрел в его сторону. Он поспешил за Онопко. Бурые подмёрзшие лужи. Гулкая, засыпанная хламом и припахивающая мочой арка — и он «на воле». Человек-БМД нёсся на всех парах, Митя с трудом за ним поспевал. Увы, хотелось бы не так… хотелось бы постоять, оглядеться… хотелось бы прочувствовать. Подготовиться.
На площади общее построение. Гул как невидимая мушиная туча висит над ней. Командиры возле своих подразделений. Хлебников, Стодеревский, особист и Трясогузка напротив строя. Переговариваются. Лица нехорошие. Как у сержантов в вечер их отъезда из Вазиани. Трясогузка берёт под козырёк, убегает в комендатуру. Особист отходит на два шага в сторонку, прикуривает, повернувшись спиной. (Небывалая вещь — при Стодеревском). Хлебников пускается в свою обычную наполеоновскую беготню взад-вперёд — руки за спину, подбородок на грудь. До тротуара и обратно.
Онопко не смотрит на Митю, торопится к своему взводу. Вспомнив о нём, оборачивается:
— Иди в строй.
Митя направляется к своим. Ближе к шеренгам переходит на строевой и с чувством вбив последний шаг в мостовую, застывает перед взводным в стойке смирно:
— Товарищ лейтенант! Рядовой Вакула прибыл… — и осекается, пытаясь подобрать слова: как докладывать-то?
Но Кочеулов, не дожидаясь, пока он сообразит, кивает:
— Становись в строй.
Он заметно помят, тени под глазами. «Надо как-нибудь сказать ему спасибо за тот случай с автоматом». Все здесь. Нет только Лапина. Да и остальные взвода, похоже, в полном составе. «Кто же в нарядах? Неужели уезжаем?!»
Митя становится в строй. С ним здороваются в полголоса, жмут руку. Земляной наклоняется поближе, шепчет в самое ухо:
— У Лапина местные чуть автомат не отобрали. Вчера.
— Вон оно что.
Митя выглядит равнодушным. Будто такое случается раз в неделю.
— Главное, вот, перед носом, возле АТС, — продолжает Саша, косясь на взводного — Попёрся один перед отбоем, родственнику звонить.
— Так а где он сейчас?
— Тс-с, Кочеулов услышит. Внутри сидит. Уже и в округе знают. Трясогузка постарался. Стодеревский, говорят, его чуть не порвал.
— Вот как.
Всё заново. Приходится вспоминать, что такое стоять в строю: за чьим-то затылком возле чьего-то плеча. А всего-то девять дней. (Как в школе после каникул: все повырастали, все какие-то незнакомые. И даже закадычные друзья немножко чужие, немножко чураются и оглядывают друг друга искоса.)
Стоять в строю он привыкнет быстро. Удержит ли захлопнутыми створки? Сохранит ли новый лад, обретённый за чтением Псалтиря на нарах? сумеет ли достойно жить в своём Вавилоне? так, чтоб без мышиной возни, без глупых попискиваний среди развалин…
— Какого рожна сунулся туда по темноте?
Пошёл Лёша на АТС. Всего-то метров сто от «солдатской» гостиницы, вниз по переулку и за угол. Пошёл один, что строго запрещалось. Это был, пожалуй, единственный запрет, никогда никем не нарушаемый. Как бы ни одурял Шеки дневным штилем, как бы ни опутывал каменной паутиной… Не верили они этому городу. Помнили его ночную изнанку. К тому же, зачем ходить одному, когда всегда можно найти компанию? На АТС наведывались регулярно. Молодые девушки, по-русски почти не говорившие, но вполне радушные, приглашали пройти, присесть, спрашивали: «Куда?», — и выслушав объяснения, втыкали контакт в чёрную пластмассовую стену, одним движеньем попадая в узенькое гнёздо. Вместо трубки были наушники и микрофон. И телефонистки смущались оттого, что приходилось поневоле слушать разговоры солдат с родными, а солдаты — оттого, что вопросы, задаваемые родными и отчётливо слышимые сквозь жужжание аппаратуры, частенько содержали неприятные для телефонисток слова. Заходил туда вместе со всеми и Лёша, в самом начале: все зашли и он зашёл. Никому не звонил. Постоял молча в сторонке… А теперь вот понесло его туда по ночной поре. В одиночку. Хотя… вряд ли кто-нибудь пошёл бы с ним. За углом, перед самой станцией, его догнали человек пять. Ударили чем-то тяжёлым, пробили череп. Почти вырвали автомат из рук, но Лапин вцепился в него и закричал во всю глотку, а тут как раз Стодеревский с Трясогузкой шли к гостинице с проверкой. Услышали. Стодеревский бросился вниз по улице, за ним Трясогузка и несколько человек из первой роты, которые были внизу. Вовремя успели: автомат у Лапина уже отобрали, ещё бы две-три секунды… метнулись бы в темень, в какой-нибудь переулок — поди поймай. Но под шквальным матом набегающих военных не рискнули. Бросили автомат и убежали.
— Повезло придурку, — заключает свой рассказ Земляной — Семь лет корячилось. Ё-моё, семь лет!
Гул над площадью растёт, вскипает — пока кто-нибудь из командиров не обрывает его резким окриком, и в наступившей тишине размеренно цокают подковки на каблуках Хлебникова да иногда сталкиваются прикладами перевешиваемые с плеча на плечо автоматы. Чего-то ждут. Стодеревский сидит в комендатуре. Особист с Трясогузкой ходят туда по очереди. Взвода переминаются с ноги на ногу, снова ползёт шёпоток — и скоро поднимается новая волна гула. Но командирам уже неохота кричать.
Ждать приходится долго. Митя прикрывает глаза и начинает игру. Вот ровный размазанный гул, вот обволакивающее ощущение строя… шеренги, ряды… как нити… Этого хватит. Нужно-то всего ничего, подправить лишь самую малость. Жара вместо сырости, вместо засыпанной мёрзлой листвой ливнёвки прожаренный жёлтый берег с качающимся папирусом и белыми птицами. На ленивой мутной воде тают и разгораются блики. По дальнему берегу, растворённому в солнечном мареве, бредут рыбаки. Пролетевший над рекой ветерок пахнет илом. Вместо бушлатов и шапок латы и шлемы, вместо АК 47 — копья. Воины опираются на копьё то одной, то другой рукой. Когда древки сталкиваются, сердце радует стук крепкого добротного дерева. Только сам он сегодня почему-то без оружия. Чтото случилось с ним, и он может ещё серьёзно за это поплатиться. Все устали стоять, все истомились ожиданием. Устали и военачальники, но делают бодрые злые лица. Колесницы выстроились с левого краю, кони всхрапывают и топчут гулкий камень. Возницы грубо осаживают их, им всегда есть, на ком выместить. Во всём какой-то недуг. Воздух отравлен. В каменной громаде перед ними, на которую смотришь, задрав голову — в обиталище торжественных жрецов и их грозных непредсказуемых богов — что там сейчас? Скоро ли? Ублажены ли наконец боги, и можно ли ждать от них помощи в том, что грядёт неминуемо и неотвратимо? Можно ли полагаться на здешних богов? Не обманут ли, надёжны ли так же, как древки выданных копий? Говорят, сам Фараон сойдёт к ним. Вот чьи-то шаги…
— Гарнизон, смирно!
Появляется Стодеревский. Становится перед ними и обводит медленным взглядом переднюю шеренгу. Прокашлявшись, выдержав выверенную до секунды паузу, плотно стягивающую к нему внимание, он говорит твёрдым голосом:
— Должен был прилететь командующий, но видимо уже не прилетит, — и обведя взглядом строй, продолжает — Наверное, все знают, что случилось. Чтобы не доставлять удовольствия слушающим из-за занавесок, не буду повторяться. Этого бы не случилось, если бы все выполняли свои обязанности так, как от вас требуют. Рядовой Лапин был на волосок от дисбата. Утерю оружия нельзя оправдать ничем. Н и ч е м! Так! Командирам увести личный состав в расположение и провести политзанятия. Выполняйте!
…Политзанятия прошли вяло. Кочеулов зачитал статью из Устава об утере оружия. Благодаря стараниям Трясогузки они и так знали её наизусть: каждый носил в военном билете листок, озаглавленный «Закон суров, но справедлив». В нём коротко-меленько было напечатано про всякое такое: оставление поста, невыполнение приказа… (Трясогузка периодически проверял как наличие листка, так и знание сроков — сколько за что дадут.) По армейскому принципу «провинился один, отвечают все», взводный объявил каждому по пять нарядов — отходят, когда вернутся в часть. Ему, конечно, невесело. Можно представить, что пришлось выслушать ему от Стодеревского.
Тех, кто должен был стоять в караулах и нарядах, после политзанятия отправили по местам. (Краснодарцы на постах, наверное, заждались.) В гостинице стало тихо. Неприятно скрипели полы под сапогами. Выходить запретили, командирам было приказано быть неотлучно при своих подразделениях, и они пристрастно проверяли у личного состава подшиву и надраенность блях, а в перерывах курили, сбившись в кучку у открытого окна в конце коридора. Онопко в номере зубрил со своими ТТХ автомата Калашникова модернизированного.
Так и прошёл его первый после бетонного изолятора день.
Вечером разрешили посмотреть программу «Время». Диктор рассказывал о встрече Горбачёва с коллективом какого-то завода. Горбачев стоял в радостно возбуждённом кругу рабочих, одетых в чистенькие отутюженные спецовки. Митя сидел на той самой кушетке, на кторой сидел вчера Лапин, когда вернулся с пробитым черепом. Жаль… Митя бы расспросил у Лапина, что тот знает обо всём этом. О Вавилоне. Должен знать. Как-никак сказал ведь он тогда: «развалится всё скоро». И ведь, похоже, он прав — сломанный-то человек. Знает, знает. От своего папаши-химика, может быть, знает.
Президент поздравил работников
И что, Лёша, будет смешение языков?
с приобретением в Германии современной производственной линии
И мы будем плакать при реках?
Встреча была тёплой и плодотворной, Михаил Сергеевич обещал приехать на завод
А разбивать младенцев о камень?
после сдачи в эксплуатацию нового оборудования
Эх, жаль, не удалось поговорить.
…Кочеулов поставил в нижнем холле стул, сел, сунув руки в карманы и вытянув ноги, и мрачным взглядом встречал местных, входящих в дверь. Вид у него был не двусмысленно угрожающий. Сегодня был возобновлён комендантский час, и до его наступления оставалось совсем немного — на площади уже рычали и фыркали БТРы.
Митя просидел на тахте до самой вечерней поверки. Теперь её проводили по всем правилам в верхнем холле. Сегодня — лейтенант Кочеулов.
— Чего такой пришибленный? — спросил Бойченко, только что вернувшийся из какого-то наряда — После «губы» отходишь?
Там можно было всегда спрятаться в камеру, сомкнуть створки… Но здесь — не там. Оркестр оборвался как струна на дембельской гитаре.
Снизу послышался звук двигателя. Митя машинально посмотрел в окно. Из-за угла на залитый пронзительным светом фонаря пятачок вывернул УАЗ. На заднее окно белой кляксой упала забинтованная голова. УАЗ проехал.
— Лапина повезли, — сказал Митя.
…Показав ей, куда сложили багаж, они торопятся уйти.
Багаж… Нет, наверное, неподходящее слово. Многие слова меняют нынче шкуру… Да и не похожи эти стянутые верёвками, неопрятные сумки-чемоданы на б а г а ж — кажется, уложены в них не обычные мирные вещи, а стеклянные осколки, обломки кирпичей, тлеющие чёрные головешки. Откроешь — вырвется дым. Поглубже, туда, где место деньгам и документам, они кладут плач, страх и отчаянье.
Ей около сорока, наверное. Их возраст трудно определить. У здешних женщин два возраста: до того, как вышла замуж и — после. До — возможны накрашенные глаза и ткани живых тонов. После — чёрные платья и косынки. Униформа. У них как у солдат — служба.
Она сидит на чемодане. Взгляд, падая на неё, должен проходить насквозь — такая она бесцветная — но всё же цепляется за что-то… за глубокие складки возле рта, за сваленные одна на другую руки, неподвижные как мёртвые птицы… С ней дочка, девочка с косичками двенадцати-тринадцати лет. Озирается по сторонам, оборачивается на звук шагов. Мать сосредоточенно смотрит в одну точку, будто никак не может вспомнить самое важное… (Так бывает на вокзале: «а полотенце положила? а нож? а билет где?!») Дочь делает попытки поговорить с ней, трогает за плечо. Та отзывается, но нехотя, с трудом разлепляя ссохшиеся губы. Отвечает в основном односложно, длинные фразы одолевает в несколько приёмов, с остановками и одышкой. Говорят они почему-то по-азербайджански.
С верхних этажей начинают спускаться другие — те, что давно уже живут в комендатуре. Всё ждали чего-то, на что-то надеялись. Или некуда было ехать. Одна женщина, другая, обе в чёрном… совсем дряхлая, согнутая старуха… Значит, ещё две женщины, старуха и дети, пятеро детей-дошколят. Последние ласточки. Говорят, кроме них армян в городе не осталось.
— Досидели до последнего, — гундосит Земляной.
«Помогите», — показывает Хлебников на спускающихся по лестнице женщин. Пока Митя перетаскивает вещи, Тен помогает спуститься старухе, и они возвращаются обратно ко входу в актовый зал. Сойдясь в центре вестибюля у столика с креслами, женщины здороваются и становятся кружком. Здороваются почти беззвучно, глядя отвесно в пол. Понятно без перевода: «И ты здесь, и тебя…» Кто-то из них роняет какую-то фразу, и они как по команде начинают тихонько плакать, по-прежнему глядя в пол и утирая носы кто платком, кто сложенными в щепотку пальцами. Автобус вот-вот должен подъехать. Их дети устали жаться к их ногам. Бегут к двери, лезут под стол, падают, споткнувшись о чемоданы. Девочка с косичками, как самая старшая, помогает с маленькими, трясёт погремушками, отлавливает убежавших слишком далеко — но с испуганными глазами оборачивается на каждое слово, произнесённое матерью.
Беженцы.
Беженство — женское занятие. Плата за материнство.
«Как там? Вспомнить бы… тот, жуткий… мурашки от него… Дети его да будут сиротами, а жена вдовой… — так, кажется — Да скитаются дети его и нищенствуют, и просят хлеба… — и самое сильное — и просят хлеба и з р а з в а л и н с в о и х. Добрая книга — Псалтирь. Знать бы, про кого так…»
Автобус въезжает на площадь, разворачивается и задом сдаёт к выходу. Кто-то из солдат, встав позади автобуса, знаками да свистом помогает водителю парковаться между БТРов. Офицеры выходят из дежурной комнаты, Кочеулов командует: «К машине». Пятеро определённых на эту поездку солдат выбегают на площадь. Саша Земляной, Митя, Тен из первого взвода и двое из третьей роты. Тот, что однажды вывихнул на полевом выходе ногу. Высокий, лопоухий. Его несли на носилках все по очереди и все по очереди чертыхались и называли халявщиком и хитро….ным. А он сверху, с носилок огрызался на всех по очереди и кричал, что пусть они его бросят, разве он просил их… Не повезло парню, так и пристало к нему прозвище: Вова Халявщик. С ним тот, который на гражданке занимался пулевой стрельбой и всегда выступает от третьей роты на показательных стрельбах.
С утра Митя успел прочитать пару страниц в туалете.
Да облечётся проклятием как ризой…и да войдёт она как вода во внутренность его…Нелюбовь! И не какая-нибудь там косноязычная нелюбовь курсанта Петьки, каптёра Литбарского, замполита Рюмина. Тысячелетняя, облечённая в изысканное слово. Вона откуда, из далёкого какого далека. И дотошная! Да будет потомство его на погибель…
Их зовут обратно. Нужно помочь погрузиться.
Когда всё рассовано по багажным ящикам и сиденьям, женщин приглашают пройти в автобус… Они идут трудно, будто против ветра. Старуха ковыляет впереди всех.
…Путешествие по Вавилону обещает быть волнующим. Прохожие останавливаются и смотрят вслед. Водитель торопится выехать за город. Подъезжая к перекрёстку, не сбавляет скорости, издалека давит на сигнал: поберегись! Хорошо, что Рикошета уже нет в Шеки… вот бы встретились два одиночества!
— Али, — говорит Рюмин — Нельзя ли помедленней? Всех угробишь.
Али хранит молчание и «топит» по-прежнему.
Сам вызвался. Никто не принуждал. Как только узнал, что на его автобусе собираются вывозить беженцев в Армению, прибежал в парк, развопился, развозмущался. Когда понял, что бесполезно, изъявил желание поехать самому. Поговаривают, местные надеются, что им разрешат приватизировать автопарк, как только всё уляжется. (То есть: получить в частную собственность, забрать себе. Целый автопарк… Наивные! Как будто это им чайхана какая-нибудь!)
За городом Али ещё пуще разгоняет свой «Икарус». Будто и впрямь хочет угробить всех. Свернув на уводящую в горы дорогу, он вынужден несколько сбавить, но и здесь гонит дерзко и нервно. Каменистые откосы подлетают вплотную, ветви хлещут по окнам. Самих гор пока не видно. Пейзаж разматывается серовато-бурой холстиной. Лишь изредка жёлтые и бордовые деревья вспыхивают на склонах, бегут и падают за очередной склон.
Кочеулов и Рюмин перестали взывать к Али.
— Ну смотри, герой асфальта, — говорит Кочеулов — Если что, не обижайся.
В салоне тишина. Никто, похоже, и не думал пугаться. Многие откинулись на сиденьях, закрыв глаза. Дремлют. Старуха с самого города пережёвывает ириску, угощенье Рюмина. (Вынул из кармана и протянул с умильной улыбкой: «Кушайте». Что это с ним?) Та, у которой дочка с косичками, сидит, уставившись в окно. Девочка села позади неё и теперь, заглядывая между спинок передних сидений, то и дело что-то просит, спрашивает — но мать перестала ей отвечать. Окаменела, слепыми мраморными глазами смотрит в окно.
Навстречу несутся склоны и ветви. Солдаты режутся в карты в хвосте автобуса.
— За…ло, — вздыхает тот, который занимался пулевой стрельбой — Скорей бы тут всё закончилось… Мне ходить?
— Ходи. Только по одной!
Земляной играет хорошо, а Стрелок, с которым он в паре — плохо. Земляной психует.
— Долго ещё…
— Вот ты чушь порешь, — перебивает его Тен — Я вам так скажу: не будьте тупорылыми. Чем вам тут плохо? Что вы все ноете: когда, когда, когда… Придумали, тоже мне, тему! Ну ладно Рикошет рвался. Так тот домой. А вам-то куда? В части? Равняйсь-смирно-пошёл-на …?
Он хлёстко отбивается последней картой и выходит из круга.
— Какого …! — продолжает он — Здесь ты жрёшь как человек, спишь как человек. Почти. Плюс начальство, бывает, сутками не видишь. Чего ещё ваша душенька желает? Здесь Дом отдыха, мужики! Чё вы заладили?.. Я лично так скажу: чем дольше это продлится, тем для нас лучше. Разве нет? Куда торопиться? Отдыхайте!
За окном то частокол деревьев, то провалы в небо, в хрустальную пустошь до снежных вершин. Прав Тен. Нечего, в самом деле. Прав, и все это знают. Потому и замолчали.
…У неё истерика. Но ни слезинки, глаза сухие — и от этого становится не по себе. Плотина рухнула — но вместо воды хлынула пустота. Ударила и потащила. Всюду — пустота. Напирающая и сметающая плотины. Не стоило, Митя, противиться. Глядишь, и выплыл бы.
Она говорит и говорит. Снова поазербайджански. Голоса на крик не хватает, но руки страшны как у больных во время приступа, когда хватают и мнут одеяло. Дочь пытается её успокоить, ловит руки и, готовая извиняться, оборачивается на военных. Военные молчат. Кочеулов делает невозмутимое лицо и вытирает лоб платком, замполит тасует отобранную у солдат колоду. Молчат и остальные женщины. Кто-то плачет, кто-то отвернулся к окну.
Время от времени она переходит на русский:
— Аллах их накажет, аллах их накажет!
Митя в смятении. Как это понимать? Ведь они везут армян. Увозят в Армению, спасают от погромов. Тогда причём тут аллах?! И почему армяне говорят по-азербайджански?! Ох уж эти Вавилонские штучки!
Водитель Али выкрикнул какое-то ругательство на одну из её реплик. Кочеулов наклонился и что-то сказал ему на ухо. Али взглянул презрительно, но больше не ругается.
— Аллах их накажет! — повторяет она монотоннно — Аллах накажет!
— Гаянэ, — зовёт её кто-то из женщин по-русски — Перестань, дорогая, не трави душу.
— Увидите, увидите, аллах их накажет! Аллах накажет!
Наконец, Митя не выдерживает.
— Товарищ лейтенант, — наклоняется он к Кочеулову — А почему «аллах»? А? Они же армяне?
— Да у них армянского — одни фамилии. Во втором и в третьем поколении здесь живут.
…Автобус едет медленней. Скоро граница. Али заметно разнервничался, курит одну за одной.
— Что, герой асфальта, — усмехается Кочеулов, увидев его трясучее состояние — Может, вылезешь, здесь нас подождёшь?
Гаянэ уснула. Её дочка сидит рядом и в чутком полусне вздрагивает, вскидывается каждый раз, когда мать толкает в её сторону на неровностях дороги.
Ты страшен…С небес возвестил ты суд, земля убоялась и утихла…
…Все повскакивали со своих мест и стеснились в проходе.
— Спокойно!
Али произносит первую за всю поездку фразу:
— Что делать, командир?
Их человек двадцать. Задрав к небу охотничьи ружья, сходятся с обеих сторон к середине дороги. Идут вразвалочку, уверенно. Передние останавливаются, картинно приваливаются к валунам у края дороги. Непривычное освещение, резковатое, как бы искусственное, прибавляет сцене театральности.
— Спокойно.
Автоматы один за одним лязгают затворами. Кажется, этот звук был слышен снаружи. Люди с охотничьими ружьями опускают стволы и берут их в обе руки.
Стараясь не выдавать себя суетой, Али неспеша встаёт со своего места и идёт в конец салона.
— Дверь открой! — кричит ему Кочеулов, но он уходит.
— Что собираешься делать? — фуражка у Трясогузки танцует твист.
— Не знаю, — Кочеулов засовывает ПМ за спину под ремень и набрасывает на плечи шинель — Выйти надо. Поговорить. Где там у него открывается?
Тен шлёпает по выключателям, и обе двери складываются с таким пронзительным, с таким густым шипением… Кочеулов спрыгивает с подножки на хрусткий гравий.
— Здоровэньки булы!
Трясогузка шепчет:
— Без приказа не стрелять.
— Да ничего не будет, товарищ капитан, — бодро заявляет Вова Халявщик — Мы же армян везём, их земляков.
Далеко над краем земли висит мираж горного хребта, с этой точки открывшийся весь от края до края.
…Слышен только стрекочущий на холостых оборотах двигатель. Офицеры стоят спиной к морде автобуса, солдаты, закинув заряженные автоматы на плечо — чуть дальше от них, ближе к обочине. Между офицерами и ополченцами, как назвали себя вооружённые люди, легла невидимая пропасть: ни те, ни другие не решаются подойти ближе. Ополченцы одеты в тёплые куртки и брезентовки. Загорелые лица. Дублёные крестьянским трудом руки. Старшего у них, видимо нет. По крайней мере, говорят и держатся все равно. Одинаково отвязно. Как ни стараются Кочеулов с Трясогузкой, разговора не получается.
— Не хотим их здесь. Пусть мусульмане живут с мусульманами.
— Трудно вас понять, уважаемые, их же родственники примут…
— Не примут! А если так, мы и с родственниками разберёмся.
— Но им же некуда…
— Мусульмане пусть убираются к мусульманам.
Чем дольше они стоят здесь, среди этих валунов, словно освещённых большой люстрой, ввиду далёкого снежно-голубого миража, тем сильней ощущение нереальности. Свернули не там, угодили в параллельный мир. Достаточно прикоснуться к какому-нибудь талисману, вспомнить правильный заговор, и нереальность рассыплется, пропуская их.
— Разворачивайтесь.
— Но…
— Разворачивайтесь. Мусульмане должны жить с мусульманами.
Солдаты оглядывают ближайшие укрытия.
— Почему нам бронники не выдали? Таскали их всё время, а когда нужно…
— Мы же их уложим, — говорит вдруг Митя и сам не верит, что сказал это.
Почудилось? Для проверки повторяет:
— Уложим их в два счёта… Как солома против ветра…
— Тс-с!
Один из ополченцев, самый молодой, наверное, направляется к автобусу.
Медленно идёт под самыми окнами. Женщины берут детей на руки и пересаживаются от окон подальше. Гаянэ сидит, вытаращив немигающие глаза. Поравнявшись с её местом, парень останавливается и, потянув в себя воздух, смачно плюёт на стекло. Гаянэ охватывает лицо в ладони и падает на сиденье, будто в неё выстрелили.
…Хоть и стояли на широком месте, разворачиваться нелегко. «Икарус» дёргается на метр назад и потом на метр вперёд. Назад — вперёд… Поместится ли эта махина поперёк дороги? а если нет?
— Иди садись! — кричит Кочеулов и встаёт из-за руля — Знал, куда ехал! Давай за баранку, не могу я твой сарай развернуть!
Сев на своё место, Али делается бледен: он перед ними как жук под микроскопом. Кучка ополченцев стоит как раз возле автобуса. Что-то говорят друг другу, улыбаются. Тот, молодой, переломив своё ружьё, вынимает патроны. Порывшись во внутренних карманах, достаёт другие и вставляет на их место.
«Икарус» бьётся в конвульсиях: вперёд — назад, вперёд и назад… Коробка передач скрипит и скрежещет. У Али получается гораздо лучше взводного, «сарай» разворачивается, стоит уже поперёк — ещё чуть-чуть.
— Кто-нибудь вышел бы подстраховать, да?
— …! …!!
— Давай рули!
И он рулит вслепую. Задок вот-вот пойдёт юзом с горы.
Внизу, если позволить взгляду скользнуть по лысому склону до самого конца — тёмные пятнышки крыш, заборы и на таком же лысом склоне цепочка людей, взмахивающих лопатами.
…Зарядив по-новой двустволку, парень резко вскидывает и стреляет.
Автобус почти развернулся к ополченцам задом, выстрел приходится вскользь по лобовому стеклу и передней двери. Правая половиа лобового стекла и стёкла двери покрываются трещинами. Али хватается за голову, снова за руль — и давит на газ.
— Всем на пол! — кричит Кочеулов.
Женщины стаскивают детей вниз, в проход между сидений. Старуха кричит, но её лицо, похожее на скорлупу грецкого ореха, не выражает ничего.
— Занять позиции в конце салона!
Не так-то просто пробраться в конец салона по живой человеческой куче, перешагивая через женщин, переступая по ручкам кресел над истошно вопящими детьми. Автобус швыряет во все стороны. Раздаётся треск, сыплется стекло, камни и сучья.
Их «Икарус», развернувшись окончательно и оказавшись на прямом участке, рывком набирает скорость. Солдат кидает назад. Кто-то падает. Слышна ругань и женский крик.
Грохочет второй выстрел. На этот раз лишь небольшая трещина на заднем стекле.
— Дробью бьёт! Мелкой!
Выстрелы гремят один за одним. Но, видимо, стреляют в воздух.
Солдаты добрались в конец салона, но поворот — и ополченцы исчезают за выступом. Напоследок — их полные азартного движенья фигуры с задранными вверх, дёргающимися от отдачи ружьями.
…Она сидит тихонько. Свалила руки на колени и отвернулась к окну. Кто-то причитает, ктото раскачивается, будто в трансе. Она молчит всю обратную дорогу. Её молчание трудно понять. Безразличие? Безмятежность?
Неуютно… Душа ёжится и норовит упрятаться поглубже. Но увы, всё вокруг прохвачено этим сквозняком — зима в Вавилоне выдалась на редкость тоскливая. Край света, зубчатый и заснеженный, плывёт в просветах между склонов. Неуютно. Скорей бы вернуться. Успеть бы к ужину, на рисовую кашу.
Дочь, утирая слёзы, теребит Гаянэ за рукав. Но и девочка не произносит теперь ни слова и прячет от всех глаза. Интересно, когда они заговорят… то на каком языке?
Ближе к Шеки Али снова начинает ругаться. Судя по интонациям, адресует свои ругательства сидящим в салоне женщинам.
Скрип.
Скрип — монотонный как тьма, как время, как одиночество.
Всю ночь крутились тележные колёса. Молотили по раскисшей колее. Кто-то очень знакомый и незнакомый одновременно, как бывает во сне, сидел в телеге на охапке сена. Надо бы вспомнить, думал Митя — и тут же начинал мучительно вспоминать, что именно он должен вспомнить. Мальчик с льняным чубом… возле колен мешок, обвязанный кожаным ремешком… какой-то военный, сидевший подле, повторял как заклинание ободряющие фразы, думая о своём… туман, спина возницы еле-еле обозначена, скорей угадана… скрип колёс, холодная жижа, вялая дробь копыт. Митя бежал следом и пытался разглядеть мальчика. Тщетно. Вроде бы и мальчик сидел к нему лицом, и бежал Митя совсем рядом — так, что сплошь был в шлёпках от летевшей из-под колёс грязи — но разглядеть не мог. Будто бельмо мешало. Мешало, что-то мешало ему видеть. Митя понимал, что это очень-очень важно. Он ускорял бег, скользя и увязая, но телега, которая тащилась всё так же неторопливо, не приближалась ни на шаг. Он бежал и бежал по чавкающей распутице, и уже начинал выбиваться из сил. Монотонный скрип, казалось, дразнил его. А мальчик — вот он, руку протяни. Митя пробовал, вытягивал набрякшую руку… вот же он, вот… Но срабатывал какой-то жестокий запрет, и его ладонь хватала скользкий как рыба туман. Окончательно обессилев, Митя остановился, перевёл дыхание, готовясь крикнуть во всё горло, но и это оказалось запрещено. Так всегда в этих снах! нужно совершить что-то бесконечно важное, важное — но тысячи табу обволакивают, склеивают, сплетаются в смирительную рубашку. Он пробовал ещё и ещё раз, трепеща от страха, что отстанет, не сумеет теперь догнать. Телега, ни на миг не останавливаясь, нисколько от него не отдалялась, по-прежнему шлёпки из-под колёс падали ему на лоб, и мальчик был на расстоянии вытянутой руки… Митя собрался с силами, наполнил лёгкие до треска и, наконец, позвал… Он крикнул: «Митя!» — и проснулся от ужаса.
Всё было так, как оставил вчера, засыпая: влажный вонючий матрас у щеки, выстроившиеся у двери сапоги с развешенными на них портянками, груда касок и сапёрных лопаток в брезентовых чехлах, сопение Саши Земляного на соседнем матрасе. Машинально, всё ещё веря сну, он провёл руками по лбу — чисто. Он вытащил из-под подушки автомат, кулёк с умывальными принадлежностями, встал и, тщательно намотав портянки, надев сапоги, вышел в коридор. Дневальный дремал на стуле с гримасой страдания и отвращения.
Митя постоял в коридоре, глядя себе под ноги, на ветхие доски пола, по которому предстояло идти. Стараясь не наступать на самые скрипучие, Митя прошёл до туалета. Долго смотрел в облезлое зеркало, грустно и нежно улыбаясь своему отражению. (Человек, улыбавшийся с той стороны, был знаком и не знаком одновременно. Ещё предстояло разобраться, каков он и чего от него ждать.) Он умылся и побрился новым лезвием, вставив его целиком, а не половинку, как обычно. Про ржавые, в язвочках полопавшейся краски трубы подумал: «Прыщавые вены». В трубах шелестело и булькало. Он представил себе некое существо, огромный железный организм, очень старый и больной, снабжаемый кровью по этим трубовенам. Где-то за стеной, во втором, запертом, туалете, тяжело выстукивал пульс. Улыбнувшись ещё раз, Митя дотронулся до одной из труб — и тут же в коридоре раздался строгий офицерский крик, а следом топот сапог и вопль пробежавшего мимо дневального: «Подъёёём!»
…Снова туман.
Митя сидел на каске и смотрел на висящие в переулке клочки тумана. Они текли, и таяли, и вытягивали замысловатые скрюченные отростки — текущие и тающие… воздушные осьминоги… переулок, набитый воздушными осьминогами.
Ныла какая-то молчавшая до сей поры струна. Страшно хотелось петь. Что-нибудь минорное и тягучее. И он напел про себя:
Утро туманное
Утро седое
Прервался, наткнувшись на неожиданную мысль: «Эх, Митя! и ты ещё смеешь сомневаться, русский ли ты!»
Нивы печальные
Снегом покрытые
Мите показалось, что он снял с себя кожу. (Душно было — взял и стянул через голову как тельник). Теперь обнажён до позвоночника, и мир прикасается к нему по-новому, а он по-новому прикасается к миру. Ему действительно чувствовалось необычайно чисто и остро. И та неожиданная мысль, столь неожиданным образом расставившая все точки, заставила его вздохнуть глубоко и с наслаждением — как тогда на картографическом практикуме, когда он взобрался на крутую вершину, в синь и золото, в прохладу, пахнущую хвоей.
Нехотя вспомнишь и время былое
Вспомнишь и лица, давно позабытые
Бабушка пела ему эти песни наедине, когда они коротали вдвоём вечер, дожидаясь с работы мамы или деда, и ужин был уже готов, а заняться обоим было нечем… и то ли дождь в окно, то ли шальная, неведомо откуда налетевшая грусть… Это от бабушки Кати, это передалось от неё. Грусть всегда разворачивает перед ним эти нивы, снегом покрытые, степь с замерзающим ямщиком — и глубокий вздох сам по себе облекается в проверенные слова: «Ой, мороз, мороз»… Он ни разу и в степи-то настоящей не был, но лишь затоскует — и лежит она перед глазами, бесконечная, размыкающая душу во весь горизонт. Вспоминаются бабушкины глаза: лучики морщин и тёплая глубина. Каждый раз, когда она пела: «Это вот моё, богом даденное», — Митю терзали с трудом сдерживаемые слёзы.
Старорусские деревянные мостки вовсе не в пустоту уводят его. И раскисшие дороги — не чужбина.
Он — оттуда.
Живое, чувствуешь? — живое. Растёт и заполняет корнями, как растение заполняет корнями цветочный горшок.
Эх, как хочется петь! Но нельзя. Не одни лишь сновидения погрязли в табу. Не только там вязнешь и рвёшься, задыхаясь.
«Да пошли они все!»
И Митя запел в голос:
Вывели ему
Вывели ему
Вывели ему вороного коня
Сверху кто-то хихикнул, крикнули: «Э! Хорош кота мучить!» Открылось окно, слышно было, как высовываются один за одним, разглядывая его, как усмехаются и шутят на все лады.
Из переулка, из совсем уже рыхлых пластов тумана появился Хлебников. Шёл, прислушиваясь и присматриваясь, что это за концерт с утра пораньше на крыльце гостиницы.
Это вот моё
Это вот моё
Это вот моё, богом даденное
Промежуток между тем моментом, когда уже заметил начальника и тем, когда окаменел в стойке «смирно», был, пожалуй, недопустимо долог. Да и поднимался Митя недостаточно бодро. И на лице забыл представить что-нибудь подходящее случаю. Хоть и не отличался комбат зловредностью, но как-нибудь должен, обязан был отреагировать: солдат, расслабленный с самого утра — чего же к вечеру от него ждать?! Но Хлебников, смерив рядового любопытным взглядом, прошёл молча и даже не сделал замечания по поводу оставшейся на ступеньках каски.
После утренней поверки Митя вновь сидел на ступеньках, дожидаясь, пока взвода выстроятся в колонны. В мелькавших взглядах была хищная армейская ирония. (Адская смесь! Плесни на кого-нибудь, и зашипит, разлагаясь на молекулы. Сколько раз сам он смотрел этим взглядом.) Ему представлялось, что он ловит на себе взгляды шакалов, присматривающихся — упадёт ли, станет ли ужином… Вопрос времени, когда объявится желающий попробовать его на зуб, очередной Лёха-качок или кто-то из старых… Митя встретился взглядом с Теном. Тен отвернулся, сказав что-то стоящему рядом — скорей всего его, Мити, не касающееся — но всё то же было в его глазах, та же отрава… Этот укусит первым. И не потому, что хуже всех, а просто: жри своих.
«Да и не хуже он, а лучше многих, толпящихся здесь на перекрёстке. Он-то не врёт как мы. Не ноет и не морщится. Кто из нас посмел признаться, что ему нравится здесь, в Шеки? То-то! А ведь нравится, чего уж там! Напускаем на себя, твердим как вызубренную роль: скорей бы кончилось, скорей бы… — и набитой рукой шмонаем по изнасилованным комнатам, по полкам ничьих шкафов, повсюду, где нам не мешают. Многих ли спасёт ложь? И от чего? Разве что от правды. Тен не такой, ложь ему ни к чему. Он прост и лёгок. Свободен. Он — гражданин Вавилона. Потому что принимает его законы. И знает, как по ним жить. Вавилон будет ему Родиной. Кстати, почему бы здесь не нравилось? Тем более, Тену? Из прожитых восемнадцати — целый год, пока не уехал из Нижних Выселок учиться в районный техникум, жизнь на свиноферме. Рыла и хвосты, хвосты и рыла. Из развлечений — кедровый самогон да две на два посёлка сестрички-самогонщицы, одна жутче другой. Да ещё — ходить в Верхние Выселки бить тамошних. Взять по дрыну, по фонарику — чтобы видеть, кого лупишь — и вперёд».
— Строиться! Чего разбрелись как стадо?!
На разводе им довели, что пост с газораспределителя снят. Второй взвод, оказавшийся не при делах, был выделен в «резерв дежурного по части». Солдаты второго взвода выглядели довольными: погромы, кажется, закончились, а стало быть, «резерв» обещает стать настоящей халявой. Но, всегда имеющий в запасе дежурную ложку дёгтя, Кочеулов приказал идти в расположение, оставить одного с оружием и заняться расчисткой ливнёвки возле гостиницы. Осенние дожди нанесли сучьев в бетонный желоб. Чуть выше перекрёстка, на котором стояла гостиница, получилась настоящая плотина. Откуда-то к ней постоянно прибывала вода. Кто говорил, это таял выпадающий время от времени снег, кто говорил — прорвало трубу. Вода разливалась до самых стен и при заморозках превращалась в каток, на котором буксовали УАЗы. И хоть в других местах подобные плотины местные давно разобрали, возле солдатской гостиницы она оставалась нетронутой. Задачка была не из приятных. Любая работа, конечно, унизительна. Но работать на виду у всех — унижение вдвойне. Все решили, что это месть со стороны взводного. За Лапина. Принялись поносить Лапина.
Работали долго, мужественно матерясь и расшвыривая сучья по всему тротуару. С оружием остался Тен.
Митя косился на стёкла библиотеки. Фатимы видно не было.
Сначала Митя собирался вернуть книгу в библиотеку. Но стыдно было признаваться, что стащил. И он долго откладывал.
С Фатимой произошли заметные перемены: она стала брюнеткой, юбка от колена вытянулась до самой щиколотки. «Столичная штучка», — вспоминал Митя и угрюмо пожимал плечами. Книголюбы больше не налетали на её взгляды как на кинжалы. И шуточки больше не разили наповал. Она была как-то нарочито невзрачна. Скучна как некрасивая отличница. Даже по середине улицы шла будто бы с краю. Столь кардинально не менялся ни один из виденных Митей людей. Бывает, молния бьёт человека в темечко — понятно, и по-испански заговоришь. А её? Какая молния? Митя почему-то находил себя обиженным этими её метаморфозами: если она читала «Кто-то пролетел над гнездом кукушки», она не имеет права становиться такой. Несколько дней он даже шпионил за Фатимой. Неужели, думал он, так можно — просто взять и п е р е д е л а т ь с я? И она ли теперь — она? переделанная?
В конце концов Митя передумал возвращать Псалтирь. Сам он его больше не читал. Устал. Но и таскать просто так не хотел. Он засунул его под тумбу телевизора. А что? Может случиться, кто-нибудь найдёт, прочитает. Кто знает, сколько всё продлится и как далеко зайдёт.
После очистных работ, приветствуемые бойцами из первой роты криками: «Идут мастера чистоты! Вторая гвардии ассенизаторская рота!», — они поднялись в холл.
Был обед, была дрёма в актовом зале, был ужин.
Затянутые после инцидента с Лапиным гайки несколько разболтались. После проведённой по всем правилам вечерней поверки офицеры куда-то терялись, и наступала броунова свобода: из номера в номер, с этажа на этаж, без дела, без цели…
Когда рассыпались звёзды, Митя поднялся наверх и по мокрому после мытья коридору дошёл до своего номера. Дверь была открыта. Хорошо, что открыта, подумал он — не придётся идти к дневальному за ключом. Он толкнул её и вошёл. В номере никого не было. И это хорошо, подумал он — побыть одному перед сном, какая роскошь!
Стянув сапоги, накинув на них портянки, он толкнул свой матрас поближе к стене и сел. Скоро выдадут новые портянки, вспомнил он, зажилить бы эти, чтобы была смена, чтобы стирать можно было. Бойченко подцепил грибок. Самому бы не заразиться… Мелкие армейские заботы успокаивали его. Нужно же как-то выплывать, решил он.
Внизу двигали мебель. По улице проехал БТР. Таракан сидел на плинтусе и ворочал усами. Митя дунул на него, пытаясь прогнать. Таракан ушёл. Выплыла луна, позолотила пол. Сна не было и в помине. Выспался за день. Чем не жизнь? Любой из твоего призыва позавидует… Митя решил ещё посидеть так, подождать, пока затекут мозги, как затекает придавленная рука или нога, и последние мысли юркнут в свои ночные норки, чтобы больше уже не высовываться до утра.