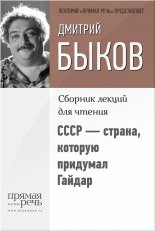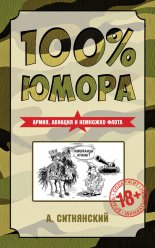Русскоговорящий Гуцко Денис
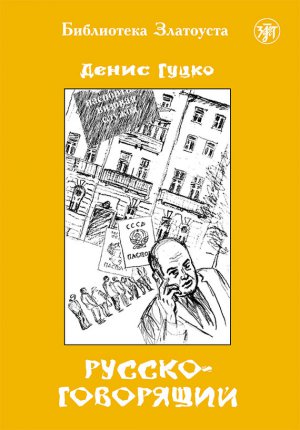
Она снова повернулась к зеркалу и строго взглянула на своё отражение. Предстояло причесаться. Это требовало серьёзного настроя. Её волосы — история непостижимого подлого бунта, отнимающего уйму нервов и времени. Они неукротимы. Вырываются из-под любой заколки, и если постричь, после первого же душа встают над головой пушистым каштановым взрывом. Каждый вечер она выходит на люди с гладко зачёсанными волосами, голова как спичечная головка. Часа через два, если не отлучаться нарочно для того, чтобы поправить волосы, на голове вырастают мочалки. Напоминание о начальной школе, о тех трудных временах, когда они, ещё не подвергнутые «химии», притягивали нездоровое внимание мальчиков.
Увы, даже самой дорогой «химии» хватало разве что на месяц.
Автоматическими движениями она выдавливала гель на гребень, морщась, тащила его ото лба к затылку — и перехватив расчёсанные волосы другой рукой, зажимала в кулак.
«Зачем в принципе петь блюзы по-русски», — сказал Генрих. Зачем она вообще начала петь блюзы? Наверное, из-за него. Самый первый спела только для того, чтобы ему понравиться, в гостях у его друзей. В консерватории она никогда не интересовалась блюзами. Старалась как все, пыхтела на сольфеджио, училась технике звукоизвлечения. Но заглядывая иногда на занятия по вокалу, Пётр Мефистофелевич, послушав её пару минут, начинал топать ногами и шипеть (последствия ангины): «Стоп! Что за вой?! В Гарлем! В кабак!», — и, театрально заломив руки, выбегал из класса. Он вообще не любил девочек, и кричал на всех. «На рынок! Селёдкой торговать! Кто вас сюда принял, кто?». На него не очень-то обращали внимание. Некоторые преподаватели просто-напросто запирались от него на щеколду. Но про Гарлем и кабак он кричал только ей. С него и началось.
Второй куплет она помнила. «А сердце — скоропортящийся груз, И так длинна, длинна ночная ходка. Наплюй на всё: здесь продаётся блюз. И водка».
Почему-то она запоминает всё, что её окружает в тот момент, когда новая строчка вспыхивает в голове. В тот день снова шёл дождь. Долгий. Она лежала на тахте, закинув ноги в тёплых носках на трельяж, и слушала. Когда-то вечерний дождь означал, что мать не придёт ночевать. Не любила ездить с работы по дождю. Здесь, под землёй, дождь звучал необычайно сухо, будто состоял из песчинок. Не лился, не капал, не журчал, даже не барабанил, как это часто случается с дождями в песенках — монотонно шуршал. До этого Люся не замечала, как необычно звучит здесь дождь. Шуршащий подземный дождь в отличие от наземного, обычно слишком экспрессивного, оказался неплохим аккомпанементом. До этого Люся знала несколько таких аккомпанементов. Ночью — прохудившийся кран, неожиданно точно отстукивающий по раковине ритм, ветер в трубе котельной, сложно смешавший гул и свист. По утрам — ржавые качели, на которые садилась та девочка, что так любила перед школой посидеть на качелях, пока бабушка не начинала кричать с балкона: «Сейчас же в школу!». Люся долго собиралась подружиться с той девочкой… Старый лифт, бьющий кабинкой по стенкам шахты, до которой можно дотянуться, высунувшись из окна. Подъёмный кран, дирижирующий стройкой где-то над головой, скрип кровати за перегородкой, если к соседке перед работой заглянул сосед-гаишник, и конечно, конечно стук вагонных колёс.
Крепко сжимая пойманный в кулак хвост, она освободившейся рукой взяла со столика металлическую заколку. Щелчок — волосы были закованы. Люся включила фен и развёрнутым плашмя гребнем стала приглаживать их, липкие и лоснящиеся от геля.
Когда с волосами было кончено, Люся сняла со стены гитару. Выудила из кучи мелочей в небольшой вазочке медиатор. Медиатор оказался сильно искривлён, так что Люся швырнула его обратно и стала осторожно, чтобы не испортить маникюр, перебирать струны пальцами.
«Ты падок на продажную печаль. Ты возбуждаешься — не правда ли — на эти звуки… Ты ждёшь, когда же сутенёр-рояль Предложит публике мои услуги».
Пожалуй, это может быть началом. Первый куплет акапелла, низко. А после, развязно и сначала несколько размазано, вступает рояль. Хотя… никогда она не споёт этот блюз под рояль. Впрочем, и никакой другой из своих блюзов не споёт.
Люся поймала себя на том, что снова смотрит в глаза своему отражению. Отражение стало непростительно настырным. Да, да, нужно что-то решать. Лучше бы уехать из города. Куда-нибудь подальше. Да! В Москву? Почему бы нет?
Она встала и прошлась по каморке. Щит «Осторожно, идут стрельбы» снова попался ей под ноги, она пнула его, не пощадив своих концертных туфель.
Щит залетел под буфет.
На туфле появилась глубокая царапина.
Никуда она не уедет, Митя не поедет с ней.
Несколько следующих секунд
— Дело «тридцать один — двадцать», в зал!
Имевшие отношение к «тридцать один — двадцать» встрепенулись и тихой калякающей стайкой потянулись в глубь, к лестнице. Рядом с мягким стуком сложились освобождённые от задов седушки. Тела пересекли вестибюль, на смену им на освободившиеся места поспешили другие тела. Седушки заскрипели и завздыхали под их задами.
— И вот она, представляете, как кинет этими котлетами мне под ноги: «жрите!». Представляете, «жрите!», — кричит. Котлеты все по хате!
— Да-а-а… Повезло. А сын что?
— А что сын? Сын… При чём тут сын?
Иногда разговоры сливаются в тихий баюкающий гул, вялый поток, из которого время от времени выплывают отчётливые слова. «Судья. Статья. Штраф». То с одной, то с другой стороны наползают обрывки разговоров, чужие беды, выхваченные из мрака произвольно, как кусок скалы на повороте горной дороги.
— Дааа, жаль, жаль, что у Вас свидетелей нету.
— Как же нету? Я же ж Вам говорю: весь двор слышал.
— Так то слышал, а рядом кто стоял? Нет. Скажут: может, кино какое включено было. Стало быть, нет свидетелей.
Вынырнув из дрёмы, Митя испуганно прижимался спиной к стулу: пистолет был на месте, оттягивал ремень и давил в поясницу выступом предохранителя.
Чтобы отогнать сон, Митя принялся усердно рассматривать вестибюль суда. Сон отступил, на прощанье неприятно оцарапав глаза.
Придти в здание суда со служебным «Ижом» спрятанным под куртку, было, конечно, безрассудством. Но сегодня, в субботу, Митя работал, а ему непременно нужно было попасть к судье. Толик на смену не вышел — болел — а оставить пистолет новичку или тем паче Вове Сапёру Митя не решился. После их стычки, закончившейся объяснительными и строгим предупреждением каждому, они так и не помирились. Сапёр смотрел волком и не здоровался. Вполне мог позвонить Юскову и вломить по полной программе: приезжай, посмотри, как Вакула службу тянет. Упустить сегодняшний день Митя не мог, пришлось бы ждать до вторника. У него было целых четыре часа до вечерней инкассации, так что он просто сунул пистолет за пояс и слинял из банка. Такое бывало и раньше — правда, до сих пор дальше, чем до соседнего магазина Митя со служебным оружием не ходил.
Суровой статуи с мечом и весами тут нет, как нет герба или федерального фетиша в виде портрета Президента, но зато есть строгий судебный исполнитель, исполняющий ко всему прочему функции охранника. Профессиональным взглядом Митя оценил: исполняет на совесть, стоит как вкопанный, выходя покурить, замыкает решётку.
Есть ещё строгие девчушки в канцелярии. Было интересно наблюдать за ними, втиснувшись в узенькую щёлочку между закрытой створкой двери и стойкой, на которую следует выкладывать заполненные бланки. Девчушки совершенно стеклянные, все проводки и шестерёнки на виду, так что можно любоваться устройством государственного человека. Митя понял, что ошибался: нет, вовсе не природное хамство движет ими — где рекрутировать столько хамов? — тут гораздо тоньше: ведь церемония общения государства и человека должна быть соблюдена. Вовсе не абы на чём, не на болоте беспамятства стоит всё. Ничего, что так забывчив и рассеян народ — Родина помнит, Родина знает. «Вот она, наша традиция, — подумал Митя, подглядывая за юными служительницами Фемиды. — Вот уж что бессмертно, никакой революцией не одолеть. А как иначе? Как ещё удержать всех этих жужжащих людишек на должной дистанции? Ведь если не держать — покусают. Ох, покусают. Экспроприируют по самые помидоры! Как дать им почувствовать своё положение пред этой громадиной, перед призраком, имя которому Государство? Ведь сами не поймут ни за что. Куда там! Всё принимают за чистую монету — теперь демократию… только и поминают её, когда что-нибудь не в их пользу. Как удержать таких, как я, испорченных божественной русской литературой? Вот уже второй век по капле выдавливаем из себя раба. Ведь дай волю — так и будем выдавливать, страдая и бездельничая. Ещё пару столетий минует, а мы так и не найдём, чем же заменить своего раба, чем вытравить его, раба-паразита. Нет, тут с кандычка не получится. Только и остаётся, что ткнуть каждого мордой в каку, заставить зенки виноватые поднять, присмотреться, на какую высоту гавкает».
А барышни решили, что Митя глазеет на их обтянутые весенними тканями прелести. Та из них, которую дожидался Митя, взглянула на него с презрительной иронией.
— Выйдите и подождите за дверью.
— Почему?
— Вы другим мешаете.
— Да никого же нет. Я здесь постою, ничего.
Девушки уже многому научились. Правда, не всему. Они ещё не до конца государственные. Они проходят здесь учебную практику. Судя по сбивчивым угловатым линиям, которыми нарисованы их лица — такими обычно художники делают наброски, в процессе рисования понимая, что лучше бы всё несколько изменить — до дипломов им ещё далеко: второй-третий курс. Совсем недавно им звенели звонки на урок и с урока, а прогулка с мальчиком от подъезда до подъезда обсуждалась с подругами. Для них всё только начинается. Перечитаны учебники, проштудированы кодексы. Настала пора примерить на себя настоящую работу. С десяти до часу, с двух до пяти, четыре дня в неделю.
В окне рябит от новенькой яркой листвы и, переодевшись в лёгкую весеннюю одежду, так приятно пройтись по улице, считая растревоженные мужские взгляды. А тут вредные старухи в платочках, и склочные соседи, истцы, ответчики, духота и оглушительные печатные машинки вместо компьютеров. Они оформляют постановления суда, складывают по папкам, выдают копии участникам процесса. И каждому вынь да положь в срок, да без ошибок, да чтоб выслушали с разинутым ртом его идиотские вопросы.
Они начинают вживаться, они меняются — но пока прокалываются на всякой всячине. Выдерживают довольно долгие немые паузы, делая вид, что в упор не видят и не слышат вопрошающего, листают себе бумаги — а всё-таки подёргивается веко, и руки, переворачивающие документы, копотливы и рассеяны — и видно, что краем глаза она за тобой наблюдает — сверяется, есть ли контакт. Они пока не тверды, пока ещё не умеют говорить «ты» так, что кажется, будто в тебя плюют. В самых сложных случаях на помощь им приходит пышная молодая дама, с задумчивым взглядом под наклеенными ресницами сидящая в дальнем углу кабинета. Если взглянуть ей в лицо, кажется, что падает бетонная плита. Стоит кому-нибудь из притиснувшихся к стойке зарваться, зайтись возмущёнными тирадами по поводу того, что не готова нужная бумага или по какому другому поводу, как она вырастает в центре комнаты, и мощный государственный глас решительно останавливает зарвавшегося, одним махом усмиряя и водворяя его на место, откуда ему не стоило и сходить. Проделав этот трюк укрощения, своим подопечным она не говорит ни слова. Замолкает, прибирая разметавшиеся эмоции. Она возвращается на своё место, а девчушки как ни в чём ни бывало стучат на машинках, развязывают-завязывают папки — но у каждой одинаково меняется лицо: на секунду взрослеет, бетонно застывает в новом очень взрослом выражении.
Митя не сдержался.
— И всё-таки, скажите, когда-нибудь хочется понять, почему наше общение складывается именно так? То есть, если закон — это голос государства, то, судя по всему, оно общается с нами каким-то весьма нетрадиционным местом.
Он привлёк её внимание, она даже повернула к нему голову.
— Ну… вы меня понимаете…
Он рассмешил их. Они похихикали, переглядываясь и заодно поглядывая на бетонную женщину. Но та, отвернувшись к окну, безразлично обмахивалась папкой. Такой ерундой её не пронять.
Митя ждал, удобно расположившись в кресле под китайской розой, когда появится помощница назначенного ему судьи и войдёт в кабинет возле канцелярии.
…Ваня вспомнил про его день рожденья совсем недавно.
— Алло? Я должен… знаешь, я должен сказать что-то… Ты… я должен сказать… извини, что день рожденья, — видимо, от волнения Ваня запутался в русских словах, и решил перейти к сути. — У меня в компьютере сбой был. Понимаешь, в компьютере установка стояла, программа мне напоминала про все день рожденья… дни рожденья, — поправился он, — и… в программе сбой был, она отключилась почему-то.
— Понятно.
— Не обижайся, ладно? Ты приезжаешь?
— Конечно приеду, сыночек! Конечно приеду! Вот скоро паспорт будет готов, и бегу за билетом.
— А деньги? Куда выслать, скажи.
— Да есть деньги, Ванечка. Я же копил всё это время, я же только тем и жил, думал, как приеду к тебе. Да ты не звал.
— Я… прости меня… я не решался… и мама не решалась.
Сыночек мой, я увижу тебя, скоро увижу тебя. Я приеду во что бы то ни стало. Дойду пешком, захвачу самолёт с заложниками. Я обязательно вырвусь к тебе. Всё остальное не важно. Только прошу тебя, называй меня «папа», с первой же минуты называй «папа». Скажи мне: «Здравствуй, папа». И тогда я ни о чём не пожалею. Забуду, как подносил пистолет к виску, как задыхался от запертой в грудную клетку любви. Тогда всё обретёт смысл. Называй меня «папа». А попросить друг у друга прощения мы ещё успеем.
В день, когда Митя с Толиком так неудачно наведались в гости к Олегу, как только их выпустили из ментовки, они отправились пить. Митя чувствовал себя виноватым, поэтому предложил выставить бутылку «в лечебных целях».
— Идём, подлечим нервы?
И Толик, проникновенно вздохнув, сказал:
— Мне, кэ цэ, нужен глубокий общий наркоз.
Они вернулись на Крепостной, отогнали Толикову «восьмёрку» на ближайшую стоянку и отправились искать заведение. Им попалась как раз та тошниловка, в которой Митя когда-то повстречал Гайавату с волосатыми ушами и так незаслуженно попал под раздачу. Хотя заведение было отремонтировано после разгрома, трезвому глазу оно показалось ещё отвратней. Но ни Митя, ни Толик не собирались терять время на поиски. Нужно было поскорее забыть неприятные часы в ментовке, и они решительно нырнули в подвальчик.
Молчала перемотанная изолентой магнитола. Гайавата сидел одиноко за столиком и смотрел в пустой стакан. Он был в тех же пиджаке и майке с надписью “The True American”, аккуратно побритый и подстриженный везде кроме ушей. Заметив Митю, Гайавата радостно взмахнул рукой.
— Твой корешок? — удивился Толик.
— Здешний вождь, — шикнул на него Митя, направляясь к столику Гайаваты.
Вождь вместо знакомства сказал:
— Момент, — и замахал в сторону бара, привлекая внимание официантки.
Добившись её взгляда, величественно показал ей указательный палец, добавил:
— И бутерброды. С сыром.
Толик переглянулся с Митей, хмуро шепнул, наклонившись поближе:
— Племя быстрых халявов? Я, бля, не люблю.
— Да какая тебе разница, — шепнул Митя в ответ. — Я угощаю. Ты посмотри, какие раритетные уши!
Они напились со скоростью летящей в цель стрелы. «Шлёп!» — и от мироздания остались лишь самые простые элементы: квадрат стола да цилиндры стопарей. Бутылку, видимо, как форму гораздо более сложную, приходилось каждый раз заново отыскивать посреди пустого стола. Лица Толика и Гайаваты смешались для Мити в одно обобщённое лицо, оно летело в сигаретном дыму куда-то вверх и в сторону, потом резко падало и раскалывалось на исходные два лица: спящее лицо Толика и оживлённое, настойчиво приближающееся лицо Гайаваты. В одну из таких фаз Митя и почувствовал, как Гайавата грубо трясёт его за плечо. Он попытался, как в первую их встречу заговорить верлибром, но вождь оборвал его:
— Погоди моросить. Я тебе про паспорт толкую.
Когда он успел рассказать ему свою историю, Митя уже не помнил: в прошлый раз, только что?
— Слышь ты, что тебе говорят? Слышишь меня? Внимательно! В общем, у меня знакомец есть на работе, узбек. Он как ты. В смысле, хрен знает с каких времён здесь живёт. Так он пошёл в суд, там постановили, что он проживает здесь… ну, в общем, хрен знает с каких времён — ну, что он нормальный гражданин. Так и присудили, стало быть, чтоб ему паспорт выдали. Понял, нет? Вот те крест, говорю, как есть! На той неделе только обмыли. Так он ваще узбек! О! — Гайавата растянул пальцами глаза, изображая знакомого узбека. — Хочешь, я тебя с ним сведу?
Пьянка пьянкой: закончилась похмельем — но про узбека Митя запомнил крепко. Утром постоял у зеркала, растянул пальцами глаза, посмотрел-посмотрел, поморгал, настраивая резкость, и прямо с больной головой — благо был выходной день — отправился в районный суд. Оказалось, что таких как он в приёмной даже не дослушивают — в ушах навязли. Работник суда, жгучий брюнет с пробором, остановил его взмахом ладони и велел идти к адвокату, составлять иск, затем искать свидетелей, способных подтвердить, что он действительно проживает в России с девяносто второго года.
— Так я ещё раньше… — попытался встрять Митя, но был остановлен тем же выразительным жестом.
Нужно было найти двух свидетелей, составить при содействии адвоката иск и подать заявление.
— Следующего пригласи. И скажи, что больше пятерых до обеда не приму!
Растерянный и смущённый, Митя вышел в коридор. У лестницы, ведущей вглубь здания, стоял человек с комплекцией телеграфного столба, в форме, с наручниками на поясе.
— Не подскажите, где адвоката найти? — спросил у него Митя, и он молча указал на стоящего в дверях неопрятного толстячка.
Уловив этот жест, толстячок приподнялся на носочках и внимательно смотрел на Митю. Митя пошёл к нему, стараясь осторожней нести полную осколков и всё ещё рвущихся снарядов голову. На крыльце в глаза ударили колючие солнечные зайчики, рассыпанные повсюду: по тающему снегу, по корочкам льда, по стёклам автомобилей.
— Мне иск нужно составить. По поводу гражданства… в связи с новым законом… У меня вкладыша нет, а…
— Понятно. Идём ко мне в контору, тут за углом. Пять минут делов.
Он спустился на одну ступеньку, дожидаясь, когда Митя последует за ним.
— Погоди. А сколько это стоит?
— Пятьсот.
Он спустился ещё на одну ступень, всем своим видом выражая уверенность, что теперь-то Митя непременно должен за ним последовать.
— Нет, я в другой раз приду. У меня столько сейчас нет.
— А сколько есть? — адвокат вернулся на одну ступеньку вверх.
Мите сделалось неприятно оттого, что этот одетый в штаны с оторванной пуговицей человек торгуется с ним по поводу такого важного для него дела, будто речь идёт о картошке. Но так же как вчера с кабаком ему не хотелось терять время на поиски. Да и кого искать: адвоката подешевле, поопрятней, чтобы все пуговицы на месте? Адвокаты, почуял Митя, племя самобытное и не регулярно сытое — так не лучше ли довериться первому попавшемуся? Всё равно наугад. Пересчитав вынутые из кармана купюры, Митя сообщил:
— Триста пятьдесят.
— Идёт! — и толстячок сбежал вниз уже до самого конца, и оттуда показал за ворота, элегантно согнув в локте руку, мол, прошу, нам сюда.
Иск и впрямь был готов через пять минут.
Назавтра были собраны справки из университета, сделаны ксерокопии всех документов, вплоть до комсомольского билета, который хранил на память. Оставалось вручить иск судье.
…В кабинете возле канцелярии появилась нужная барышня-помощник, и через пару минут, записав дату предстоящего судебного заседания, Митя был свободен.
Он пошёл под весенними изумрудными деревьями, свернул в кривой переулок только потому, что ему понравилась серая чешуя мостовой, мокро блестящая на повороте, где на неё плеснули водой, и медленно зашагал в сторону дома. Идти было далеко. Это его радовало.
Когда мостовая закончилась, он выбрал один из двух расходящихся под острым углом переулков за то, что вдалеке над его крышами заметил крону большого дерева — яркое зелёное облако. Возле ближайшего дома на стуле стояли бутылки с маслом — на продажу — и, проходя мимо, Митя наблюдал за тем, как внутри бутылок катится, следуя за его движением, пленённое солнце. В каждой бутылке по янтарному солнышку. Но вот он миновал какую-то критическую точку, светила уткнулись в стенки бутылок и погасли. Его обогнал мальчик на скрипучем самокате, отчаянно молотивший в землю подошвой ботинка. Митя посмотрел ему вслед и твёрдо решил, что переедет жить к матери. Он повторил эту мысль ещё раз, крякнул вслух.
— Так надо, — добавил он, будто спорил с кем-то.
Дерево оказалось вовсе не в том переулке, по которому шёл Митя. Скоро он остановился у поваленного забора. За забором раскинулась балка, а на противоположном её берегу вновь продолжился жилой район. Тыльные стороны тянущихся вдоль балки подворий выглядели, как водится, убого: глухие стены, сползающие по склону сараи, всевозможный хлам, сваленный когда-то за дом и цветом сравнявшийся с землёй, а кое-где и заросший мохом. К газовой трубе прислонилась раскрытая гладильная доска, густо усеянная поганками. Митя уселся на пенёк от развалившейся лавки, смахнув с него труху. По руке размазалась гнилая древесина. Митя поднёс ладонь к носу и понюхал. Посреди весны пахнуло той приторной горечью, которая прячется в осенней палой листве, там, под бурыми спинками листьев — придя на этот запах в парк, нагибаешься, хватаешь пригоршню и, оторвав её, открываешь светлые влажные брюшки, горько пахнущие временем…
— Ха! — сказал Митя своей пахнущей осенью ладони, чувствуя, что уже отпустил себя, уже выскользнул из круга.
Листва мерцала на лёгком ветру. Давненько он не любовался деревьями, а когда-то в прошлой жизни мог долго вот так сидеть, рассматривая кроны или рисунок на коре стволов. После этого он испытывал чувство, похожее на то, которое ложится на сердце, когда хорошо поговоришь с человеком. Но это было давно. С тех пор ему случалось заниматься разными делами. Вот, например, теперь он промышлял гражданство, блуждающее российское гражданство.
Митя смотрел на замусоренный склон, по которому мужиковато ходили грачи, на задние дворы и ржавые коробочки гаражей — но, кажется, видел что-то другое.
Ему остро захотелось курить, впервые с тех пор, как он бросил по-настоящему. Митя вздохнул и полез в карман за бумажником, где у него на этот случай хранилась сигарета и зажигалка. Прикурив, он не почувствовал привычного вкуса табака, а лишь вкус тлеющей сигаретной бумаги, но всё-таки затянулся этой кислой гарью.
— Ничего, — сказал он. — Один раз не считается.
Он подумал, что Чуча, наверное, вот так же говорил, или кто-нибудь говорил ему, протягивая шприц. Митя даже поёжился оттого, что вдруг заменил Олега на Чучу. Будто от его мыслей эта подмена может приключиться на самом деле, и в мире произойдёт сбой, как тогда, когда он сунул в хлебницу бабы Зины трояк вместо рубля.
Тлеющая бумага во рту вызывала приступы тошноты. Это было хуже, чем вкус первой сигареты. Но нужно было курить. Нужно было отвлечься хоть чем-то — наедине с самим собой он снова в полной мере ощутил эту невыносимую сосредоточенность. Будто жизнь его, вселенная дней и эмоций, захлопнулась вдруг в крошечный шар, целиком уместившийся в голове.
Такое с ним уже было. В тёмной комнате, в окне которой серело узкое кирпичное ущелье, и в нём — четыре звезды. Рядом лежала мулатка, которую он знал не больше получаса.
— Чёрт! — произнёс Митя, близко глядя на сигарету и рассчитывая, сколько ещё можно сделать затяжек.
Было бы хорошо, если бы Люся стала презирать его. Это был бы выход.
Сигарету он скурил всю, окурок погас, и Митя с шипением потянул через фильтр холодный воздух.
— Я виноват, — сказал он вдруг, со злостью бросив окурок себе под ноги. — Я виноват.
Времени до начала вечерней инкассации оставалось немного, но нужно было обязательно увидеть Люську. И предлог имелся — до сих пор не отдал те четыреста долларов. Конечно, можно заехать и после работы — но Митю вдруг рвануло к ней так, что он чуть не заскулил от нетерпения. Он поймал машину, и попросил отвезти его на Будёновский к «Аппарату». Водитель назвал цену вдвое завышенную, Митя даже не заметил.
Машина останавливалась на светофорах — он ёрзал, выглядывал, скоро ли загорится зеленый. Казалось, попади они сейчас в пробку, он выскочит из машины и побежит.
Только бы не было неурочных вызовов, Сапёр сразу позвонит Юскову: нужно выезжать, а Вакулы нет. Что за дурное упрямство — не иметь мобильника!
На ЦГБ горел зелёный, но свернув на Текучёва, они нарвались на дорожные работы. Продравшись между лежащим столбом и канавой, объехав по тротуару рыжие земляные кучи, они выехали, наконец, на Буденовский.
Сергей, дежуривший сегодня в «Аппарате», долго кричал откуда-то издалека:
— Да сейчас! Иду, сказал!
Он отпер входную дверь, веером растопырив мокрые пальцы, и с недовольным видом впустил Митю.
— Что случилось? Ещё же нет никого.
— Люда здесь?
— Люда? Да здесь вроде, не поднималась. Я бы услышал.
— Открой.
Сергей пожал плечами и, прихватив со стойки связку ключей, направился к служебным помещениям. Он отпер толстую железную дверь, и Митя проскользнул мимо него вниз.
— Не запираю, — буркнул Сергей вслед.
Сбежав по неровной лестнице в подвальный коридор, Митя удивился, когда ему под ноги вдруг прыгнула его тень. Он обернулся — пожарный выход, ведущий в захламлённый внутренний двор «Аппарата», оказался открыт. Коридор был мутно облит дневным светом, уличный шум беспрепятственно катился по бетонному жёлобу.
С сожалением подумал, что Люся стала пользоваться этим выходом, и он её не застанет — но вдруг услышал её голос. Люся пела очень тихо.
Наплюй на всё: здесь продаётся блюз
И водка.
Мимо взволнованных дневным светом крыс, снующих под трубами, он дошёл до её каморки.
Люся сидела на диване, обняв гитару, но не трогала струн.
Правый глаз её заплыл, губы были разбиты. На полу валялись нотные листы, одежда, сломанный пополам фанерный щит. «Шуруп», — кольнула Митю догадка.
Царапают твои зрачки бедро.
А клавиши царапают больнее.
Какой в нас прок, скажи, какой в нас прок?
Какой любовью мы с тобой болеем?
Но
Покуда ночь, и стрелок вязнет шаг,
(Грусть станет слаще, водка станет горше),
Красиво обнажается душа
Моя — глухонемая стриптизёрша.
Суетливым взглядом Митя обшарил её всю, пытаясь определить, что именно сотворил Шуруп — «одежда уцелела! одежда на ней!» — хотел спросить, но не посмел. Подошёл, присел возле неё на корточки. В поясницу тяжело упёрся пистолет.
— Ты с ним не столкнулся? — усталым шёпотом спросила Люся.
Пожала плечами:
— Там замок оказался… хлипкий совсем.
Глядя на растерзанную Люську, он не чувствовал боли. Странно, он совсем не чувствовал боли.
— Надо было замок…
В коридоре раздались шаги.
«Сергей?», — подумал Митя и поднялся, чтобы прикрыть дверь.
…Люся сильно исцарапала ему лицо.
Митя узнал его с первого взгляда. Годы, проведённые в тюрьме, мало отразились на облике Шурупа. И даже одет он был так, как обычно щеголял перед жильцами Бастилии: в светлую сорочку и яркий галстук. Именно такой Шуруп поднимался пританцовывающим шагом по раскатистой железной лестнице, насмешливо поглядывая на окна.
— Ха! И правду говорят: возвращаться плохая примета.
Шуруп сунул руки в карманы, и правая его рука сжалась в кулак. Оглядев Митю с ног до головы, сказал:
— А про тебя я и забыл, что ты есть на этом свете. Н-да…
Он улыбнулся задумчиво. Слишком наиграно.
— Непруха мне с тобой, шоколадина, — бросил Шуруп Люсе. — Непруха. Пожалел опять. Да и тогда. Зинку, царство небесное, не пожалел. А тебя… что в тот раз, что в этот, — он сделал недоумённую физиономию. — Чего тебя жалеть?
Митя ждал от себя эмоции: ярости, страха… Не было ничего.
Он коснулся сквозь куртку рукоятки пистолета.
Сейчас ему казалось, что Шуруп вернулся сюда, увидев его, Митю, подходящим к дверям «Аппарата». И даже вроде бы припомнилось что-то — фигура, схваченная краем глаза на перекрёстке.
Шуруп сказал всё с той же ненастоящей задумчивой улыбкой:
— Плохая примета — возвращаться-то. Плохая. Ты в приметы веришь? — правая его рука шевельнулась в кармане. — Х… получается! — заорал он, но тут же сказал тихо и спокойно. — То Зинка, то ты вот теперь. Глупо, а? Зинка, дура, напоролась — твоя очередь теперь?
Кажется, впервые в жизни Митя знал наверняка, что делать. Несколько следующих секунд предстояло прожить правильно, без оплошностей. Своими собственными руками — взять и прожить правильно.
С коротким звонким щелчком над ними перегорела лампочка.