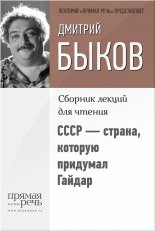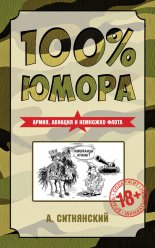Русскоговорящий Гуцко Денис
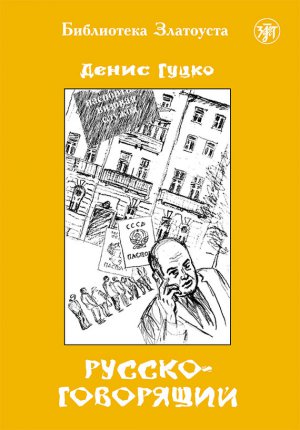
На улице под ногами хрустнул иней, он постоял немного, выбирая, к какой остановке идти, и прямо по газону, по ледяной хрусткой траве, отправился в сторону торгового центра. По телу расползлась усталость. Забыть бы всё и никуда больше не ходить. Если бы не Ванино письмо, не эта жар-птица, порхнувшая из конверта, Митя, скорее всего, просто пожал бы плечами и жил себе дальше. Мало ли какие законы сочинят шальные думские люди! Не упекут же в Сибирь. И в Грузию не вышлют. В Грузию-то не вышлют…
В этом месте Митя крепко задумывался. Весь он будто завязывался каменным узлом, теряя связь с происходящим и наглухо замыкаясь в самом себе. Там он находил главное: воспоминания, у которых никто никогда не отнимет гражданства, не запретит проживать в своих заоблачных республиках. Странная вещь: чем сложнее заворачивалось с его паспортом, тем ярче вспыхивали детские воспоминания, давным-давно, казалось, выгоревшие и остывшие в нём. Они уводили его туда, куда он не собирался больше возвращаться. Много раз стоял он у запертой, запретной двери. За ней кипел праздник. Стоял, прислушивался к неясным голосам — ему бы туда. Детство говорило с ним через дверь, но было плохо слышно, а самое досадное — совершенно невозможно догадаться — о чём может идти речь. Не о паспорте же! Он закрывал глаза. Ну, что там, что? Пахло миндалем, что растёт в военном городке за школой, летучие мыши метались над двором, будто кто-то безжалостно взбалтывал их в огромном невидимом ведре… слышался бабушкин голос. Она говорила издалека, через всю квартиру. Митя жадно прислушивался, ожидая, пока голос отольётся в слова, и надеясь, что на этот раз слова окажутся понятны. «Открой на кухне окна, — говорила она. — И потуши свет». В красноватой пустоте под веками проступала тбилисская квартира, его первый и последний настоящий дом: и бежевые обои гостиной — ярко, до малейшего завитка узора — и огромный трёхведёрный аквариум с полосатыми рыбками данио рерио, снующими туда-сюда стремительными стежками, будто в надежде сшить вместе лево и право…
— Уснул. Смотри, не разбуди.
Девушки хохотнули и прошли мимо.
Митя сидел под навесом остановки — видимо, давно, поскольку успел задремать. Исподлобья огляделся, но больше никто из стоящих и сидящих вокруг не обращал на него внимания. Упругий и холодный ветер возился с листками объявлений, с полами и воротниками прохожих.
Ветер-живодёр выковыривал их из одежды, как устриц из панциря. Заглатывал целиком. Утренние, мягонькие, озябшие декабрьские тельца. Ежеминутно летящие в холодную влажную глотку, они морщились, вздыхали, прятались за выступами стен. Серое акварельное небо лежало на высотках, к ногам то и дело прибивало мусор с рынка. Принимать начнут с девяти, но чтобы попасть, нужно занимать пораньше. Митя пришёл в шесть, перед ним было двадцать восемь человек. Здесь, как и в ЖЭУ, записывались на листках. Листки приклеивали к дверям скотчем. Скотч приносили с собой. Ручку Митя не захватил, и решил ждать, пока к списку подойдёт следующий, чтобы попросить ручку у него. Ждать пришлось долго. Он стоял возле самой двери на догнивающих ступенях, шатких как трясина, ветер обсасывал его со всех сторон. Наконец, на тротуар въехала видавшая виды «восьмёрка», из неё вылез крупный мужичок лет сорока. Мужичок знал, что к чему, на ходу доставал из кармана ручку.
— Извините, не одолжите? записаться нечем…
Он наградил Митю обидным — и вроде бы оскорбительным, а в общем-то привычным, как «… твою мать» — взглядом и молча вписав себя, так же молча протянул ему ручку. Теперь Митя был тридцатым.
Пристрастие к записыванию на листках, что и говорить, выглядело странно. Ведь как только начинали пускать, — рассредоточенная толпа лавиной сваливалась к заветной двери, и список терял актуальность.
— А у вас какой номер?
— Да мне только спросить.
И ветер не отставал, укрыться от него было негде. Митя подумал, что зря перед выходом пил чай, теперь чай естественным образом просится наружу.
В половине десятого позади толпы раздались строгие окрики:
— Пропустите! Пропустите, блин!
Старушка в криво надетом жёлтом парике, не разобрав, прошамкала:
— В какую комнату? Тут очередь.
— Да я щас, нахер, развернусь, и вся эта очередь домой отправится!
Переступая по-пингвиньи, давя друг другу пальцы, очередь нехотя раздвинулась.
Девушка лет двадцати в густом вечернем макияже, сине-золотом, скривив яркие губы, взглянула в предоставляемый ей тесный проход, сказала: «От ить, бараны!», — так смачно и хлёстко, как про настоящих баранов никогда не говорят. Три хмурых тётки, стоявшие возле девушки-с-макияжем, очевидно, были её коллеги. Она прошла, твёрдо ставя каблук, к двери, звякнула ключом в замке, провернула, вынула, размашисто распахнула дверь, загудевшую о чьи-то кости, кинула связку в сумочку, застегнула сумочку. Дёрнула спиной, будто отряхивая насекомых:
— Да чё напираете, блин!
— Можно заходить?
— Пригласят!
— Так холодно же…
Девушка-с-макияжем уже почти вошла, её хмурые коллеги двинулись следом, но кто-то пробубнил:
— Пригласят… Когда пригласят-то? Уж полчаса, как работать должны.
И она, отодвинув своих стремительным рубленым жестом, вынырнула обратно, зорко оглядела толпу:
— Кто тут умный у нас такой? А?!
Никто не отзывался.
Но взгляд её безошибочно выудил из плотных шеренг чёрный потёртый берет, очки с обмотанной грязным лейкопластырем дужкой, дикорастущие усы под посиневшим носом. Она тяжело кивнула и скрылась в помещении. Толпа стянулась к открытой двери.
— М-да, — сказал мужик из «восьмёрки» чёрному берету. — Она тебя запеленговала. Мой тебе совет, мужик: иди домой, и раньше, чем через неделю не приходи. Может, забудет.
— Тьфу ты, будь оно неладно! — берет постоял в раздумье и тронулся прочь.
Пригласили в начале одиннадцатого. Вяло переругиваясь, люди потащились по холлу и, разделившись на три потока, дальше по узеньким коридорам, увешанным плакатами, листами, листочками. Высмотрев нужный кабинет, оседали здесь, налипали на стену, врубались плечом в дверной косяк.
Мочевой пузырь давил на глазные яблоки. Шмат людей, втиснутый между стен, источал усталость и панику, вялотекущую, подспудную, но готовую пыхнуть по первому же поводу. Митя нюхал меховой воротник, неожиданно пахнущий пивом, о колено его как плавник большой рыбы бился дипломат. Из множества ощущений, наполнивших его, только одно было приятно: основательно подмороженные ягодицы оттаивали у батареи.
— Третий день не могу попасть.
— У вас что?
— Ребёнок. Надо срочно гражданство оформить. А они запрос теперь делают по месту рождения.
— Зачем?
— Кто ж их знает… Вы можете это понять? Я не могу это понять. А он у меня во Владивостоке родился. Представляете, сколько времени уйдёт, пока эти напишут, а те ответят… А его пригласили по обмену на три месяца. Если за месяц не управимся…
— Ну, это вам к начальнику надо.
— Думаете?
— Знаю.
Митя решил к начальнику сегодня не идти. Решил — безо всякой на то причины, наобум, как в незнакомой карточной игре — начать с малого, с инспектора по гражданству. Ему понравилось название, веское и категоричное: Инспектор По Гражданству. «Инспектор Такой-то. Предъявите-ка ваше гражданство!».
Они стояли у двери номер «два» минут двадцать, но никто не звал их вовнутрь. Мочевой пузырь висел в нём чугунным якорем на тоненькой леске. Скоро терпеть стало совсем невозможно.
— Извините, а где тут туалет?
— Шутишь? Какой туалет? Вишь, даже стульев нет, чтоб присесть. Туалет ему где!
Через некоторое время открылась дверь. Открылась с размаху, и как ложка о холодец, чавкнула о толпу. Никто не издал ни звука.
— Разошлись! — рявкнул из-за приоткрытой двери знакомый голос. — Дорогу дайте!
Она вышла прямиком на чью-то ногу.
— Да убери свои чувяки, дай пройти!
Движения были нарочито резкие и свободные. В руках у неё был чайник. Она рассекла толпу и скрылась за поворотом.
— Кохда ж пустють?
— А вы спросите.
— Вот сами и спросити.
— Спросите, вы же ближе к двери.
— Я пропущу, колы надо. Пропустить?
— Да ладно, стойте уже. Сами ноют, а сами спросить не могут.
«Почему я оказался здесь? Почему, как ни сопротивляйся, всё равно тебя отыщут, вынут, встряхнут и сунут в самую гущу, в ряд, в колонну, в злые потные очереди? Православные, советский народ, россияне, — а будет одно и тоже: толпа, Ходынка, очередь. Бесконечная очередь за нормальной жизнью».
Митю мутило тяжёлым, тупым возмущением. В узком коридоре стояла зудящая тишина. Спрессованные люди молчали. Говорить здесь было так же опасно, как курить на бензоколонке. Потели и молчали.
Она вернулась — так же размашисто, цепляя локтями и расплёскивая из чайника. Митя преградил ей дорогу.
— Извините, когда приём начнётся?
Она была бы симпатична, если б не крикливая косметика и этот взгляд. Ровный плоский блеск оптических приборов: к микроскопу приклеили ресницы и подвесили вишнёвые губы. Не смотрит, а осматривает. Проворачивает окуляры.
— Уже, кажется, давно время приёма?
Окуляры скрылись под ресницами, сверкнули ещё раз — она обогнула Митю и вошла в кабинет.
— Чай будут пить.
— Чтоб им захлебнуться.
Сзади Митю толкали входящие и выходящие. Инспектором по гражданству оказалась именно она. Пока она говорила по телефону с гостившей у неё подругой, забывшей на холодильнике свой мобильник, Митя нервно огляделся. Ему совсем не интересен был этот пропахший дезодорантами кабинет. Но в туалет хотелось неимоверно, и дожидаясь внимания инспектора по гражданству нужно было чем-то отвлечься. В кабинете номер «два» принимали четыре инспектора. Молодые девушки. Стульев перед их столами не было, так что посетители оставались стоять. То и дело они наклонялись, чтобы положить какую-нибудь бумажку. Те, кто плохо слышал, и вовсе не распрямлялись, так и зависали в полусогнутом состоянии, целясь ухом в направлении инспекторских голов, чтобы не дай бог ничего не пропустить.
Наконец, она повесила трубку и села, положив скрещённые руки на стол. В вырезе её кофты вздувались и раздавливались друг о друга два белых купола. Но ни одной мужской мысли они в Мите не породили, как если бы из кофточки выглядывали гипсовые шары, абстрактные геометрические фигуры.
— Вот, — он неслышно вздохнул и выложил паспорт. Говорить нужно было быстро. И не только из-за острых позывов в низу живота. Ведь он в казённом заведении. Он проситель. А хороший проситель проворен как голодная мышь — совсем недавно Митя имел возможность освежить это почти забытое советское знание. Заранее готовьтесь к входу, товарищи. Просите быстро, не задерживайте движения.
Она взяла паспорт, начала торопливо листать.
— У меня вкладыша нет, а прописка в девяносто втором была временная, а вообще я здесь живу с восемьдесят седьмого, я учился здесь, в университете, в армии отслужил…
Чем дальше он говорил, тем противнее становился самому себе. Все обязательные метаморфозы были налицо: спина ссутулилась, интеллект угас, и в горле рождались какие-то писки, которые нужно было с ходу переводить на человеческий язык. Пробовал кашлять, басить, но ничего не получалось. Сами слова, которые он произносил, стоя здесь после многочасового ожидания сначала на ледяном ветру, потом в потной тесноте, с холодными ступнями и гудящим мочевым пузырём, невозможно было произносить иначе.
Мысль о писсуаре истязала его.
— А почему вы сюда пришли?
Он не сразу понял, что она имеет в виду.
— Что — почему?
— Ну почему вы пришли именно в нашу ПВС, а не в Ленинскую, например? Мы не оказываем услуг лицам, не прописанным в нашем районе. До свиданья.
— Так вы же меня и не прописываете.
Она развела руками, отчего верхняя пуговица чуть было не расстегнулась, наполовину выкатившись из петельки.
— Не прописываем, значит, не видим основания.
— Вы меня послушайте. У меня пенсионное есть, ИНН, всё в порядке, и я помню, в девяносто втором, когда тот, старый, закон вышел, я ходил в паспортный стол за вкладышем, но мне его не дали, сказали, что не положено — как раз из-за временной моей прописки. Это же замкнутый круг…
Митя торопился, паника уже гнала его по своим горящим лабиринтам. Она со вздохом откинулась на спинку стула и каким-то лихим спортивным жестом швырнула ему паспорт через весь стол.
— Следующий!
— Подождите, подождите. Как? Как — следующий? А мне что делать?
— Идите к адвокатам.
— К каким адвокатам?
— Хм! К адвокатам!
— Вы хотя бы выслушали меня.
— А что вам не понятно? Согласно принятому закону, гражданином России признаётся тот, кто имеет вкладыш о гражданстве либо постоянную прописку на шестое февраля девяносто второго года. Ни того, ни другого у вас нет. До свиданья.
— У меня же постоянная прописка буквально через пол-года, даже меньше. Неужели из-за этого… Мне же вкладыш тогда не дали как раз из-за временной прописки. И потом…
— Вы приехали к нам с территории иностранного государства.
— Какого такого иностранного?! Тогда одно было государство, СССР называлось. Может, слышали? В школе не проходили? И потом, ведь в том старом законе говорилось, что гражданином признаётся каждый, проживающий на территории России, кто не подаст заявления об отказе о гражданстве. Я не подавал.
Она с удовольствием пронаблюдала за его срывом, сказала:
— Ну, раз вы такой умный, можете обойтись и без адвокатов. На книжном рынке на стадионе «Динамо» вы найдёте всю необходимую литературу. Следующий!!
Сзади скрипнула дверь, пахнуло как из спортивной раздевалки. Так же, как в ЖЭУ, кто-то сходу принялся ворчать, чтобы он не задерживал, он ведь тут не один… Митя лишь пожал плечами, сунул паспорт в карман и выскочил.
— Следующий!
Он стал протискиваться к выходу. В голове раскручивалась безумная карусель, всё мелькало и рвалось, и в этих лоскутках мыслей о своём новом непонятном статусе, о срывающейся поездке к сыну одна-единственная мысль занимала его по-настоящему: «Где бы отлить?!!».
Олега он встретил, в блаженной неге выходя из-за гаражей. Учитывая их расположение у глухой стены, сомнений в том, что он там делал, не возникало. Заметив, что из-за крайнего гаража вытекает резвая струйка, Митя смутился ещё больше и неожиданно для самого себя поздоровался. Он привык не замечать на улице своих бывших сокурсников. Даже если оказывался с кем-нибудь бок о бок, даже если в узком переходе его вдруг выносило прямиком на чьё-нибудь приветливо улыбающееся лицо. Не замечал, с задумчивым видом скользил мимо.
Но не на этот раз. Отвернувшись от подбирающейся к ним струйки, они пожали руки, похлопали друг друга по плечу. Рукопожатие у Олега было удивительно ломкое и юркое — будто накрыл ладонью шустрого нервного зверька, зверёк хрустнул и тот час рванул на волю. И тот час Митя вспомнил, что всегда замечал эту черту Олега, не любил здороваться с ним за руку, но здоровался, чтобы не обижать. Университетская жизнь — античная, ископаемая, засыпанная пластами сгоревшего времени — вдруг оказалась вполне живой, прыснула соком из-под беглого рукопожатия, окружила стенами, лицами и голосами. Посыпались живописные подробности, в основном совершенно никчёмные — чем никчёмней, тем живописней. Говорят, у Олега отец — из КГБ, Олег на прямой вопрос отнекивается с двусмысленной улыбкой… с ним никогда не видели ни одной девчонки, поэтому ему несколько не доверяют… почему-то его прозвали Чучей, никто не помнит, почему… на госэкзамен он пришёл в галстуке-бабочке, в галстуке-бабочке из чёрного бархата…
— Ну как ты?
— Отлично, — Олет сунул барсетку подмышку. — А ты? Как у тебя дела?
— Бывало лучше, только не помню, когда.
— А что так?
Обычно Митя не рассказывал посторонним о своих проблемах. По крайней мере тем, от кого не зависело их решение. Но в тот раз он поступил совершенно анекдотично. На вопрос-междометие «как дела?» — ответил подробно и обстоятельно, жестикулируя и заглядывая в глаза. Олег слушал на удивление живо. Поддакивал, уточнял. Он оказался на редкость сведущ в вопросах такого рода. В конце концов он раскрыл барсетку, покопался там, но огорчённо поджал свои сырые выпирающие губы:
— Нету. В кабинете забыл. Сегодня как раз новые привезли. Хотел тебе визитку дать, — и пошёл энергичным деловым речитативом, — Приходи ко мне в понедельник, утром, принеси документы. Решим вопрос. Приходи в «Интурист», встретимся там, лучше всего в фойе. Давай в фойе. Не люблю в кабинете.
Выслушав, Митя помычал:
— М-м-м, — и стал беззвучно жестикулировать, будто руками пытался вынуть из себя слова.
Наконец, спросил:
— А-а-а… ты где работаешь?
— В «Интуристе».
Олег не торопился с комментариями. Достал блокнот, вырвал листик, записал номер телефона:
— На. Домашний и мобильный. Не сможешь в понедельник, позвони мне домой, договоримся.
— В «Интуристе»?
— Ну.
— А-а-а?
— Зам генерального у Бирюкова. В понедельник приходи, поговорим. Сейчас извини, старик, некогда. Скоро машина подойдёт, а мне ещё надо кое-что успеть. Пока!
«Да, — подумал Митя, глядя вслед провалившейся в темноту подъезда фигуре, — Вот тебе и Чуча». Спрашивать, какое отношение может иметь гостиница «Интурист» к его «вопросу» Митя не стал. Дураку понятно. «Интурист»! Но Олег каков! Сто лет не виделись, а он! Молодец.
…И всё-таки он не пошёл в понедельник к Олегу. Отговорка, конечно, была: в понедельник ему выпала рабочая смена. Но ведь при желании не составляло никакого труда найти себе подмену.
Тесная «дежурка», словно коллективный панцирь, давно приросла к каждому, стала продолжением спины, коробочкой для мозга. Удивительным образом, сидя в ней, можно было часами думать о вещах, не выходящих за пределы этих пяти квадратных метров. Пяти пыльных квадратных метров, наполненных резиновыми палками, рациями, журналами сдачи и приёма оружия, порножурналами, дочерна пропитанными ружейным маслом тряпицами. Митя больше не боролся с этим как когда-то в армии. Теперь это ни к чему. Охрана коммерческого банка оказалась всё той же казармой. Казарма оказалась лучшим в мире лекарством от непрошенных мыслей.
— Слышь, вали иди на вход, твоё время.
— Да ну на …! Ещё пять минут.
— Часы свои выброси на …! Ровно два уже.
«Дежурка» насквозь пропахла мужиками. Потеющими за работой мужиками. Они сами насквозь пропахли «дежуркой». Самые заносчивые, вроде начальницы валютного отдела, сталкиваясь с ними в коридорах, не здороваются и воротят нос. Зовут их сторожами. За это они зовут сотрудников банка «банкоматами». Однажды «банкоматы» пожаловались председателю правления, господину Рызенко. Мол, охранники-то воняют — такие люди в банк приходят, а тут… Юскова, начальника охраны, Рызенко вызывал к себе. Пришлось ему брехать, что «пацаны» постоянно упражняются — подтягиваются на перекладине, поднимают гири — отсюда и запах. «Пацаны» — все и навсегда здесь пацаны. Маленькая собачка всю жизнь щенок. Митя, как и все, не сразу уловил, где его место в банковской иерархии. Впрочем, поначалу было иначе. Вернее, всем очень хотелось, чтобы было иначе. И охранникам, и самим «банкоматам». Время было такое — всем чего-нибудь сильно хотелось, потому что до этого не знали, чего хотеть — и казалось, что самого желания достаточно, чтобы оно сбылось. Хотелось красиво: чтобы все в дорогой одежде, чтобы друг с другом на «вы». Не вышло. А ведь до сих пор, принимая новичков, Юсков прополаскивает им мозги в розовом отваре: «Работа для настоящих мужчин… ответственность за безопасность… безопасность — дело первостепенной важности… молодой сплочённый коллектив».
— Опять Витю на … послали.
— Да ты что?
— Ну. Он генеральшу не узнал, не пускал её в банк.
— Памяти у него ник-какой на лица. Мне, например, одного раза хватило.
— Главное, видит же, что за ней полковник идёт, дверь ей открывает.
Проржавевшую перекладину во дворе они после того скандала по поводу запахов спилили. Пилили «болгаркой» — шумно, снопы искр летели в окна валютного отдела. Им, конечно, не понравилось такое к себе отношение. «Банкоматы охренели!». Они накупили одеколонов, стали проветривать комнату и следить друг за другом: «— А ты, брат, в этих же носках вчера работал». Некоторое время всё было галантно. Как когда-то хотелось. Юсков лично обнюхивал их и оставался доволен. Но потом запах казармы вернулся. Одеколоны закончились, менять на каждую смену носки оказалось канительно. Их больше не трогали. Глаза в сторонку, топ-топ мимо. Сторожа, что с них взять…
— База — сотому!!!
Вова спросонья дёрнулся так, что стул под ним треснул и сломался. Смеяться не стали. Слишком он нервный, этот Вова-сапёр. Любит рассказывать про свою контузию, на каждой смене хоть раз любит с кем-нибудь поругаться. Носит в кармане фотографию жены топ-лес. Показывает: «Видал такое? Шестой номер!».
— База — сотому!
— База на приёме.
— Встречайте.
— Понял тебя, сотый. Встречаем.
Вова снял ноги со стола и встал. На одном из мониторов остался след обувного крема — повод для взбучки со стороны Юскова. Но никто не вытрет: западло. Лицо у Вовы опухло, левая щека, на которой он лежал, вся была в розово-белых складках. Он стоял, щурясь и сопя, и поправлял съехавшую на сторону кобуру. Толик незаметно подмигнул Мите — мол, сейчас выпрется в таком виде Мишу встречать. Была очередь Вовы-сапёра встречать на входе «первого». Конечно, не стоило выползать навстречу Рызенко как крот из норки. Толик раз десять ему повторял: не спи, скоро Миша приедет.
— Я схожу, — сказал Митя. — Будешь должен.
— Угу, — отозвался Вова и тут же плюхнулся на место.
Ничего трудного в том, чтобы постоять у входа, держа руку на кобуре и зорко оглядывая окрестность, нет. Но дело не в этом. Нельзя нарушать правила. Никогда ни за кого ничего не делай — главное правило казармы. У кассы Митя замедлил шаг, наклонился к щели между барьером и зеркальным стеклом.
— Едет, — бросил он.
В ту же секунду в кассе по направлению к двери застрочили каблуки. Утром Рызенко взял в кассе денег. Три тысячи евро. Не оказалось наличности в кармане, срочно была нужна. В этом есть шик — как он прибегает к кассе, как, наклонившись к барьеру, говорит: «Девчат, денег дайте». Девчата хихикают. «Сколько вам, Михаил Юрьевич?». Он частенько так делает. Уедет, вернётся через час: «Возьмите, я вам, кажется, должен». Девчата снова хихикают. Но сегодня вышла накладка. Скоро вечер, кассу сводить, а валюты в кассе не хватает. Забыл, наверное. Девчата в кассе волнуются, не хотят засиживаться допоздна.
На улице моросило. Прохожие торопливо пробирались между припаркованных перед банком машин. Скоро из-за поворота вырулил чёрный «Мерседес» и, сделав лихой вираж через всю улицу, встал напротив.
Двери «Мерседеса» хлопнули. Мите всегда нравилось слушать, как хлопают двери крупных породистых машин. Есть в этом звуке что-то от хруста яблока. Громадного сочного яблока. И в жестах, какими захлопывают красивые глянцевые двери — столько же радости, сколько в жестах, подносящих ко рту яблоко. Хрусть! Рызенко выскочил раньше телохранителя и затрусил к банку. Он всегда торопился. Он выскакивал из машины и бежал. И лицо у него было как у шахматиста, обдумывающего ход. В десятках глаз, вольно и невольно, мимоходом и надолго задержавшихся на нём, одно и то же: зависть и любование. Все хотят вот так хлопать дверью «Мерседеса» и бежать к банку впереди телохранителей.
Митя решился. В самый последний момент, когда Рызенко уже подходил к лестнице, шагнул наперерез.
— Михал Юрьич…
Рызенко остановился, поставив одну ногу на ступеньку. Выглядел он нерадостно. «Без раболепия, — напомнил себе Митя, — без раболепия». Неделю назад всё получилось вполне пристойно. Постучал, вошёл. Держался уверенно, правая рука на кобуре, левая вдоль туловища. «Извините, что отвлекаю». Рызенко выслушал его, посмеялся законодательной шутке. Он ведь и сам когда-то куда-то баллотировался. Обещал подумать.
— Михал Юрьевич, я подходил к вам в прошлый понедельник, — начал Митя, встав слишком близко, слишком прямо заглядывая Рызенко в глаза. — Насчёт паспорта… насчёт гражданства…
Пауза затягивалась, и он начинал жалеть о том, что затеял. Рызенко молчал. Быстрая тень пролетела по его лицу, он вспомнил.
— А! Ну и что?
Митя жалел, жалел, жалел. Решительно и бесповоротно жалел о том, что затеял. «Личка» стояла поодаль, наблюдая за их разговором. Лучше бы позволил Вове выйти с мятой щекой на всеобщее осмеяние. Но деваться было некуда, нужно было договаривать.
— Я Вам рассказывал. Мне в ПВС паспорт не меняют. Закон новый вышел… Вы сказали, что подумаете, — голос был сладок, липок, голосовые связки выделяли сироп. Сплюнуть вместе с языком. Он покашлял, — …что подумаете насчёт того, что можно сделать.
Рызенко пожал плечом и подался вперёд, быстро наполняясь движением.
— Так что ты хочешь, чтобы я поехал туда, им морды набил, что ли?
И он побежал вверх по лестнице. Шесть ступенек крыльца пролетел как выпущенный из пращи, дёрнул массивную дверь. «Забыл открыть», — спохватился Митя. Вслед Рызенко, приноравливаясь к его шагам, уже цокала каблуками по мрамору начальница кассы. Митя поправил кобуру и пошёл вдоль банковских машин, бессмысленно разглядывая номера. Водители кучковались вокруг расстеленного на чьём-то багажнике кроссворда, и скорей всего, ничего не видели. Парни из «лички» уже выгружали из багажника коробки с водой. «Не в настроении, — подумал Митя. — Не надо было сегодня подходить. Плохое настроение. Оно и утром было заметно, что не в настроении. Зачем было лезть?». Над сливающимися в полосу крышами машин дрожала изморось. Крыши блестели. «Может быть, если бы в пятницу подошёл, после обеда… А сегодня не надо было. Зря. Сегодня не надо было».
Он перестал раздражаться. Пусть. В конце концов, раболепие как норма этикета не так уж унизительно. С каким-то медицинским интересом Митя всмотрелся в себя. Всё там на своём месте — и раболепие тоже. А куда ему деться? Чего ты ждал? Тебя имели, не спрашивая разрешения, тебя учили выбирать сердцем, регулярно ныряя к тебе в карман, — и чего ты ждал после этого?
Вышел Толик, усмехнулся:
— Ну, спросил?
— Спросил.
— И что?
Митя хлопнул правой рукой по сгибу левой. Толик усмехнулся ещё раз, покачал головой.
— Ну и что, грузинский нелегал, на историческую родину? Где же ты, моё Сулико?
Собственно, шутили по поводу Митиного паспорта все одинаково. И Митя посмеивался вместе с ними. Не рассказывать же им, что на самом деле зависит сейчас от этого паспорта. Вынув пачку сигарет, Толик показал: будешь?
— Бросил.
— Правильно, генацвале, нелегалам здоровье главное. Кэ цэ, мало ли что. Подполье или в горы придётся уйти.
Эти Толиковы словечки: «кэ цэ» да «кэ чэ», максимально сокращённые «как говорится» и «короче», — Митя и сам иногда употреблял на работе. Ничего не поделаешь, когда столько лет работаешь вместе, начинаешь ассимилировать. Толик в свою очередь тоже перенял у Мити кое-что: стал брить подмышки и читать толстые книги.
В девяносто третьем, когда Митя устроился в «Югинвест», он чувствовал себя достопримечательностью. «А это наш грузинский казак». Всех чрезвычайно занимал его акцент и «нерусские замашки». Акцент то уходил, то возвращался, постепенно затихал как эхо. Замашки оставались. Определить толком, в чём они выражались, эти нерусские замашки, вряд было возможно. Так… есть что-то — расплывчатое. Как аура. Ни увидеть, ни пощупать, а понимаешь: чужое. Он, например, упорно не хотел взять в толк, что «… твою мать» — это просто междометие, на него никак не надо реагировать. Митя и сам всегда ощущал это своё невразумительное отличие от окружающих. Будто пририсованный. Не то, чтобы плохо… но вся картинка мелками, а он карандашом. Руки-ноги, голова-ремень. Такой, как все. А всё-таки, если приглядеться, заметно отличие. Заметно. Да ещё под углом глянуть, пальцем поскрести — заметно. Чужое. Оно не умирало, как можно было ожидать, с годами, оно пряталось. Пряталось поглубже, но выскакивало в самых неожиданных местах. Митя научился казаться своим. Привык казаться своим. К Мите привыкли. Тема эта давно всем наскучила, разве что скажут иногда, когда говорить не о чем: «Слыхал, что там в твоей Грузии творится?». Он ответит: «Да слыхал», — и подумает, что она вовсе не его, Грузия. Давным-давно не его. С тех пор, как по улицам прошли портреты пасмурного усача — перестала быть его Грузией.
— Что будешь делать?
— Не знаю. Меня больше загранпаспорт интересует. Если бы можно было сделать его, отдельно.
— Зачем тебе?
— В турпоездку хочу съездить.
— Ни … себе! А бабки?
— Копил.
— Вас, богатых, не поймёшь. Турпоездка! — он осуждающе покачал головой. — На левый берег с тёлками съездил — лучше любой турпоездки. Ладно, кэ цэ, поспрошаю. У сестры сосед кем-то в УВД. Может возьмётся?
— Спроси.
Толик кивнул.
— Да, — вздохнул он, переводя разговор на свою любимую тему. — Раньше не так было.
— Да.
— По-человечески всё было. Платили как людям.
Толик, как и Митя, был из старой гвардии. Оба застали те времена, когда Рызенко здоровался с охранниками за руку и лично привозил им на Новый год ящик «Мартини»: «— Только банк не пропейте. Он мне ещё нужен». В те времена он мог приехать в банк в воскресенье и, сидя с ними в холле, смотреть по видику Тайсона. Интересные были времена. Колёк Морев, сын Морева-старшего, вора в законе, по-приятельски разрешал посидеть за рулём своих джипов. Вытаскивал из-под свитера «Кольт», давал подержать. Рассказывал им, как своим, про то, с чего начинал. Про гоп-стоп в парке имени Вити Черевичкина, про то, как сбивали шапки, как кроссовки добывали. «Хватаешь его за ноги, хоп на себя. Потом только тяни, обычно слазят на раз». И они слушали как свои. А Колёк рассказывал. Они гордились знакомством с Кольком Моревым. Но особенно гордились тем, что могли, проходя мимо стоящего у входа Морева-старшего, поздороваться с ним и получить в ответ еле заметный, полный достоинства кивок. Мало кто в городе мог поздороваться с вором в законе. Теперь не то. Морев-старший давно в Москве. Колёк руководит Областным Слуховым Центром, поставляет аппараты для слабослышащих.
— Пойду пожру, — Толик затушил окурок о подошву ботинка. — Не идёшь? Пусть, кэ чэ, этот гоблин на воротах стоит. Нечего баловать.
— Попозже. Подышать охота.
— Даа…
Толик предался воспоминаниям. Сладкий девяносто третий. Командировки за валютой в Москву, миллион долларов в спортивной сумке ‘Puma’. Ежеквартальное повышение зарплаты. «Банкоматы» заискивающе просят: «Ребята, не поможете ваучеры перетаскать?». А они им: «У вас, что, мужиков в отделе нет?».
— Помнишь? За малым, что не посылали их. Кэ цэ, были времена!
Митя поддакивал рассеяно. Что и говорить, он ожидал другого от Рызенко. Надеялся, что тот поможет. Митя точно знал, что ему это ничего не стоит. Одному из своих телохранителей Рызенко «сделал» военный билет. Другого вообще от суда отмазал. Митя, конечно, не телохранитель. Двери открыть, постоять на виду у важных гостей, держа руку на кобуре. Вывести скандального клиента. Двери, опять же, закрыть. Но он ожидал другого. Думал — те легендарные времена, когда всё только-только начиналось, когда новорожденный мир едва проклёвывался сквозь оседающую пыль, львы лежали рядом с антилопами, банкиры здоровались за руку с охранниками, — думал, те времена что-то да значат, как-то особо их связывают — вне иерархии. Но Рызенко отказал.
Лучший друг и отличник горней подготовки
Когда Люська пела так, как сегодня, хотелось умереть или жить по-другому. Но всё, что он мог себе позволить — тайком выкурить сигарету. Встав из-за столика в тёмном углу бара, Митя сквозь декоративный гипсовый портик вышёл в «большой» зал, к торчащим на каждом столике бутылкам, к красиво курящим женщинам, к холодным бесполым девушкам, к блестящим лысинам, которые мгновенно выделились из общей картинки и, как обычно, сложились в биллиардную схему, будто рассыпанные по столу шары.
Через дорогу от «Аппарата» высился забор долгостроя-рекордсмена: скончавшееся вместе с советской властью НИИ так и не успело въехать в новое здание. Уродливые рёбра и позвонки его остова прятались за забором будто охраняемый законом реликт. Давным-давно — в плейстоцене, при Перестройке — когда он только приехал в Ростов, здесь был рынок. Крохотный вечерний рынок-с-ноготок возле белёных кривеньких домиков. Однажды он купил здесь варенец, первый раз в жизни купил варенец — как нечто экзотическое, не знал даже, как называется… — Дайте вот это. — Что — э т о? — Вот это. — Варенец, что ли? Торговка решила, что он выделывается.
Он приходил сюда лишь пару раз, потом рынок разогнали, снесли белоснежные халупы и обнесли место забором. Но сейчас Митя смотрел на обклеенный объявлениями и афишами забор и отчётливо видел торговок в платках и соломенных шляпах, обложенную зелёными листьями рыбу, с которой монотонно гуляющая туда-сюда ветка сгоняет столь же монотонно прибывающих мух, и пучки лука, и стаканы с варенцом. Перед глазами стояла чья-то очень знакомая спина. Он знал, кто это: первокурсник Митя с веснушками и клочковатыми детскими усиками. Странно было осознавать не то, что это невозможно, а что если бы вдруг — если бы можно было устроить такую встречу с самим собой, с семнадцатилетним — встретились бы два совершенно чужих человека, не имеющих между собой ничего общего. Разве что имя, но имя — такое несущественное совпадение. Два человека, не умеющих сказать друг другу ни единого слова. И связаны эти двое весьма отвлеченной, мёртвой связью.
Но закончилась сигарета, Митя прервал свои мысли и потянул дверь.
Мимо тех же бутылок и лысин, выстроившихся теперь уже в другой биллиардной схеме — будто кто-то, пока он курил, закатил пару шаров в лузы, изменил их расположение.
…Два чужих человека. Им было бы невыразимо скучно, если бы вдруг пришлось говорить друг с другом.
— Как дела, Митя?
— Ничего, Митя, нормально.
И каждое следующее слово глупее предыдущего. А если бы вдруг столкнуться с самим собой, в каком-нибудь неожиданном месте, в очереди к зубному… Вот так: пришёл зуб сверлить, а там, на диванчике — ты. Аномалия. Сидит, посматривает исподлобья. Приёмная без окон, четыре на четыре, прошлогодние мятые журналы, больная библиотечная тишина — и никого, только ты и ты. И журнальные страницы хрустят как валежник в осеннем лесу.
О, пытка человеком!
…Люся вздохнула во сне и закинула руку за голову.
Иногда ему бывает стыдно за то, что он с ней проделывает. Он смотрит на неё спящую и клянётся всё это прекратить, но утром они прощаются, целуясь уголками губ, говорят «пока» — и ничего не меняется. Чёрт возьми! Не может он, не имеет права пустить корни, начать жизнь заново. Единственное, что ему нужно — Ваня. И ради одной только мечты о том, как всё чудесным образом изменится, и он будет там, возле сына — Митя готов жертвовать всем. И Люсей.
Сломанная спичка, наконец, сухо фыркнула и зажглась. Огонёк плеснул косыми падучими тенями и, сжавшись, задрожал в кулаке. Будто и ему было зябко в этом тумане. Митя затянулся и пустил дым в сторону от открытой балконной двери. Сигаретный дым расплющился о туман, побежал кольцами. Митя смотрел на растекающийся дым, прислушиваясь к тишине, и подумал, что, кажется, не любит тишину. В комнате мерцал телевизор, покрытый пледом. Мерцала и плыла и сама комната — как телевизор, показанный по телевизору. Он часто так делает, ему нравится смотреть на расплывчатое и мерцающее. В минуты, когда можно стать самим собой, выползти из-под всех защитных оболочек нагим и мягким, он частенько впадает в созерцание. Может быть, он по природе своей такой вот созерцатель. Рассуждатель. Пожалуй, что победителем, какими хотела видеть его Марина, он и не сумел бы стать. Такой как он — заведомо в проигрыше. Скомандуют «внимание — марш», а он засмотрится, как здорово все рванули. И что, казнить, тащить на беспощадный капиталистический трибунал?
На спинках стульев развешена одежда. На одном — его, на другом — её. Бретелька бюстгальтера выползла из-под блузки до самого пола. Черви выползают из-под разбухших от дождя листьев, змеи — из-под нагретых солнышком валунов. Бюстгальтеры — из-под блузок, развешенных на ночь на спинках стульев. Отдыхают. От волнительных вечерних трудов, от тяжкой дневной службы. Люся называет бюстгальтеры намордниками. Снимая, говорит:
— Уморились мы в намордниках.