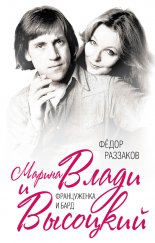Поздно. Темно. Далеко Гордон Гарри

Три года назад ходил через день, пятьдесят с чем-то литров принес, существование свое оправдывал. И так бездарно разошлась — втискивал всем помногу, друзья недоумевали — сколько той клюквы надо, брали, чтоб не обидеть. Только теща знает толк: «Не откажусь».
А летось, как Славка говорит, принес полведра — и хватило. Легче купить, ведро по шестьдесят, а то и по пятьдесят, но… Призрак неукушенного локтя не дает покоя. И потом — трудно на болоте, но помнится потом долго, как Север.
Читать нечего, все бабушкины «дрюоны» и детективы. На всякий случай надо лечь пораньше, если идти. Выходил ночью — вызвездило, иней на траве.
- Ночь талая полна с краями,
- И ветра нет.
- Стоит звезда в глубокой яме,
- А сверху — свет.
- Зеленый воздух заструился
- В пандан ручью,
- Передний волхв остановился,
- Задул свечу.
- Таит цветных туманов сонмы,
- Лесов альков,
- Глиссандо над рекою сонной —
- Каскад мальков.
- В траве высокой не найти, чьи
- Альты, басы,
- Чисты посвистыванья птичьи —
- Светлей росы.
- Многоголосие несется —
- Молчать невмочь,
- Под дымчатым покровом солнца
- Ликует ночь.
Утром вода на веранде замерзла. Выпил кофе, стараясь не спешить, — «Опять помчался» — сказал Танин голос, — выкурил сигарету. В рюкзак положил корзинку, литра, кажется, на два, и бутерброд с салом завернул в полиэтиленовый пакетик. Свитер и телогрейка — дождя наверняка не будет.
В желто-зеленом сияющем небе — ни облачка. На единственной улице в деревне лежали поперек чистые тени. У Славкиной калитки на столике стоял вымытый дождями фаянсовый чайник с отбитым носиком — пепельница. Сверкнул впереди на солнце ярко-зеленый свитер Василия.
— По ягоду, — спросил Василий, — один?
— А ты не пойдешь?
— Нет, я уже набрал, — Василий повернулся и побрел, сутулясь и кашляя, в избу.
Возле дома Шурика Карл свернул на лесную тропинку. Минут двадцать, перешагивая через поваленные деревья, до проселка, а там — прямо до Кокарихи, мимо двух злобных собачек, мимо угрюмого Андрея, бурчащего в ответ на приветствие, мимо Колькиного дома, дальше, по столбам.
Заржавленный, выбеленный годами автобус «ЗИС», неведомо как попавший сюда, сквозь бездорожье, справа, среди черных развалин, дикая плантация дягиля — четырехметровые трубчатые стволы, огромные зонтики диаметром с ведро, больше даже.
Перед Кокарихой — болотина, — вспомнил Карл, — как бы не вляпаться. Болотина оказалась еще более устрашающей, чем в прошлом году, обойти ее можно было, только свернув в густой ольшанник, продираясь, и то…
— Нет, не зачерпнул, — вздохнул Карл с облегчением и тут же почувствовал, как правый сапог наполняется ледяной тяжестью.
По лесу, по мокрому лугу, сквозь порез в подошве вода не поднималась, так, вечером носок оказывался влажным, а тут…
— Старый ты козел, — обозвал себя Карл, — дожил до пятидесяти пяти, а позаботиться о себе элементарно не можешь. Ведь это же непрофессионально. Как Эдик, ей Богу, недаром батя называл тебя Э-два. Ведь есть же другие сапоги, Виргиния, поискать только.
Дело плохо — если б зачерпнул через верх — куда ни шло — согрелась бы со временем вода, вышло бы что-то вроде мокрого гидрокостюма. Но когда подпитывается снизу, — долго не походишь, ломая ледяные корочки на лужах. Добро бы еще на обратном пути.
Повернуться и пойти домой — еще не родилось такое благоразумие… «Ино еще побредем». Карл вылил воду из сапога, отжал носки, хлопчатый и шерстяной, и снова надел. По твердой дороге еще можно было громко топать, особенно правой. Он посмотрел на себя со стороны и ухмыльнулся: прямо Магролик какой-то. На болоте будет хуже.
Проскочив пропитанной водой перелесок, Карл увидел болото. Поросшее у берега высокой рыжей осокой, дальше оно представляло собой унылое последовательное чередование равновеликих, примерно, кочек величиной с круглый кухонный стол, только гораздо ниже. На каждой кочке стояла полувысохшая елочка, метр-полтора, не выше, под ней индевели яркие или сизые маленькие игрушки — клюквины: Новый год прошел, и Рождество прошло, и хозяева исчезли бесследно. И так — до самого горизонта, только слева и справа темнели береговые мысы.
Кое-где на елках висели тряпочки или пакеты — сборщики клюквы оставляли ориентиры.
Карл менял положение — то упирался коленями в мокрую, холодную кочку, то склонялся над ней. За несколько десятков секунд выступившая под ногами вода поднималась до края сапога. Приходилось с трудом вытаскивать ноги, ставить их на новое место. Правая нога ныла нестерпимо, начал болеть затылок. Карл снял телогрейку, положил на кочку, сел и с трудом стащил сапог. Выкрутив носки, он повесил их на елочку, понимая, впрочем, что это бесполезно. Воду вытряхнул, стельку вытер досуха болотной травой, снял шерстяную шапочку, обмотал ногу и сунул в сапог. Несколько секунд он испытывал блаженство, затем, боясь промочить еще и телогрейку, встал, — и все началось сначала.
Клюквы было много, но первая корзинка, как всегда, была самая трудная. К полудню солнце пригрело, Карл снял телогрейку, промокшую шапочку развешивать не стал, а сунул вместе с носками в карман рюкзака. Срезал с кочек траву и запихивал ее в сапог. Стало полегче.
Корзинки Карл набирал доверху, с горкой, чтоб не оказалось, что собрано меньше, чем он думал. После третьей корзинки он позволил себе уйти. У самого берега, у осоки, увидел он нетронутые россыпи и снова сел.
Возвращался он весело — нога уже ныла привычно, рюкзак был легок, но и не болтался, висел приятным комочком. Было так тепло, что телогрейку пришлось нести в руке.
Кокарихинскую болотину пролетел напрямик, зафантаж. Ну, набрал еще воды, ну штаны намокли.
Домой он пришел около четырех. Есть не хотелось, но вспомнил, достал из рюкзака бутерброд, наткнулся на мокрые тряпки. Так Растопить печку, повесить эту мокрую дрянь, потом клюкву рассыпать, пусть сушится. Не удержался, тут же взял литровую кружку, оказалось — ровно восемь литров. Это за счет горки, да и корзинка, может, два с половиной.
— Хорошо, — сказал он, окая, не как Славка даже, а как Ян Яныч, окающий в шутку, но почти всегда.
Печка горела, Карл переоделся в теплое и сухое, открыл банку тушенки, нарезал хлеб, почистил и разрезал пополам луковицу. Налил водки, чуть повыше половины граненого стакана.
— Со свиданьицем, — отнесся он к печке.
Выпил залпом. Водка с шелестом упала на что-то твердое и холодное, поднялась теплым облачком, раздвинула грудную клетку. Потеплели уши.
«Пью один, как Юрочка» — подумалось без тревоги.
— Юрочка. Что натворил. И умер как-то по-детски, вот, дескать, посмотрю, как вы будете плакать. Знал ведь, что нельзя, а выпил бутылку водки всю, до последней капли.
— Ладно тетя Женечка — она младенец, на небесах она, Алла Евтихиевна — страстотерпица, ей зачтется. Даже Вовка Лосев — и то понятно. Был в нем какой-то лад, хоть и перепутанный, бешеный. Эдик. Эдик — просто победитель.
А Мишка на похоронах Эдика все хохмил, доказывал, что он на очереди, изображал в лицах как все будет. «Ничего святого» — говорили о нем с благородным негодованием. Да кто сказал, что негодование может быть благородным! Это как праведный гнев — чушь собачья. Может, он просто мудрый. Этакий приблатненный Пьеро, и всю жизнь самоотверженно валял спектакль, не мог не валять. И не боялся быть непонятым и неприличным. Во всяком случае, хорошей мины не строил даже при хорошей игре. А ты, приезжая в Одессу, добирался до него в последнюю очередь. Если вообще добирался.
Карл выпил полстакана.
— Прости меня, — сказал он и застеснялся.
— А Юрочка…
«Потому что превыше ночных разговоров ничего я не знаю и знать не хочу». Его кредо. А ночные разговоры как раз и опасны иллюзией понимания. Во всяком дерьме он искал друга, и платил, по бедности, чистой монетой. Даже в себе он искал друга, и не находил, потому что любил себя самозабвенно…
Книжку хотел назвать «Свет в окне». Очень точное название — не было, наверное, ночного стекла, на котором бы он, биясь, не оставил свою пыльцу.
Поразительно, как один человек вместил в себя все несовершенства — и свое, и своих друзей, и тех, кого считал друзьями. Какие мы были чистенькие рядом с ним…
Карл проверил печку, поворошил кочергой. Еще полчаса примерно. Надо выпить. То первое, чудное тепло не повторялось, тепло было в избе.
— И на том спасибо, — сказал Карл, помаялся немного, закрыл печку и лег спать.
Проснулся он перед рассветом, не вполне протрезвевший, выпил воды и снова лег. Тревожно было на душе и стыдно, будто буянил он вчера в приличном обществе, но спросить было не у кого, все разошлись.
Встал он в одиннадцатом часу, с теми же ощущениями, даже хуже — словно ребенка обидел. Голова не болела, а так — была неприятна.
Солнце не сияло, как вчера, оно пропадало и появлялось, менялось в лице, было тепло почти по-летнему, буднично прокрякали над головой две утки.
Карл взял тачку, вилы и стал вывозить растительный мусор. Всякий раз, подъезжая к яме, он смотрел на реку. Река была белая, спокойная, мелкую зыбь разводил южный ветер.
Карл двигался медленно, предвкушая и оттягивая долгую рыбалку. После пяти или шести тачек оказалось, что вывозить больше нечего. Он взял пассатижи, стамеску и пошел отдирать полиэтилен. Крыша парника в середине провисла, на ней лежала объемистая радужная линза дождевой воды. Часть лужи пролилась на руку, затекла в рукав, Карл сказал «ёбт!»… и повеселел.
Червей, как ни странно, почти не было, и это после таких дождей… Он резко поднял втоптанную доску у порога — земля была сухая, дырчатая, единственный червь пытался уйти. Карл догнал его и увидел еще одного с краю. Червяк был светло-розовый, тонкий, и едва шевелился. Карл взял и его. Вспомнил про парник — туда бабушка запихивает весь навоз. Несколько раз копнул — все правильно.
Заставил себя пообедать — сейчас только два, а стемнеет в восемь, а то и позже — день светлый. Выпил бульона из кубика, доел вчерашнюю тушенку.
Поплавок покачался, кто-то задел хвостом леску, потом надолго успокоился. «Одно и тоже, — думал Карл, — сначала „июль, июнь — на рыбу плюнь“, потом август, тоже нехорошо, теперь вот сентябрь. А рыбы полно, вон к вечеру как забухает. И что еще надо — тихо, ветер южный, погода после ненастья установилась, червяк живой, а по осени, как и весной, другой наживки и не нужно».
Карл постоял полчаса и погреб дальше. На глубине, может, она и стоит, но если свалилась, клевать уже не будет. И якорь тяжелый таскать туда-сюда. Надо стать в утильнике возле устья ручья — идеальное место и глубина метра два. Тем более, вечереет, скоро она пойдет к берегу.
Карл загнал нос лодки в утильник, она стала неподвижно без всякого якоря, пересел на корму и закинул, хорошо закинул, как раз куда хотел.
На берегу ручья, у пляжа, появились коровы, некоторые спустились к самой воде, над бугром показалась подпрыгивающая голова Коли, а вот и весь он, едет тихонько на велосипеде. Карл отвернулся, чтоб не махать рукой, не нарушать безнадежную эту гармонию.
Зазвенела моторка, показалась — красная, типа «Крым» — рыбинспекция. Человек в черной шапке с кокардой, проезжая, уставился на Карла, уже миновав, никак не отвернется, шею сломает. И то понятно — не каждый день увидишь в прибрежной куге идиота с удочкой, тем более, что закончился дачный сезон.
Заколебалась вода, волны от моторки подошли к берегу. Поплавок мягко поднялся, опустился, еще выше поднялся, опустился и… пропал. Карл подсек — окунь кинулся к траве, но был слаб, и скоро оказался в воздухе — раскачивался над лодкой. Строевой. Для ухи годится.
Поплавок стоял, как будто никогда и не погружался. У противоположного берега заштилело, в черной воде отразился бор. — Там-то уж точно, — в очередной раз обманулся Карл, знал, что обманывается, но вдруг… Он погреб к тому берегу, торопясь, поглядывая на солнце. Минут пятнадцать выпадает, это как через луг идти. «Опять дергаешься», — сказал себе сам, без помощи Татьяны, но темпа не сбавил.
У того берега оказалось прохладней, солнце осталось за излучиной. Мелкие окушки заклевали сразу, надежно, верно, Карл поймал штук шесть или семь. Явно вечерело, но солнце еще угадывалось.
Клев как отрезало, рыба плескала вокруг, не успевали круги разойтись, как их перебивали другие, накладывались, сопрягались. Карл разволновался, бросал прямо в эпицентр, понимая, что это глупо.
Поплавок продвинулся двумя толчками и медленно лег, вернее, улегся, будто устал. Это было подозрительно, и Карл боялся пошевелиться, стал зачем-то считать и, досчитав до шестидесяти семи, не выдержал, аккуратно подсек — Зацеп, — не успел подумать Карл, как кто-то тяжелый медленно пошел по дну, натягивая леску. — Это не окунь, — знал Карл, и потащил осторожно, но решительно.
Что-то белое всплывало медленно со дна, выворачивалось, похожее на утонувшее отражение улетевшей чайки. Перехватив леску пальцами, Карл, замирая, подтащил к борту — ясно уже — леща. Наклонившись, он цапнул его немилосердно левой рукой за голову. Рукав телогрейки намок, вода неожиданно оказалась теплой.
Лещ долго не отпускал крючок, далеко вытягивал мягкие губы. Было в нем около килограмма, а если честно — грамм восемьсот. Был он черен в спине и слегка золотился, будто смазанный маслом, как тщательно хранимая запасная деталь жизни.
Карл вдруг устал. Он снялся с якоря и погреб на середину реки, посматривая на леща. «На кого же он похож? — гадал Карл и не догадался. — На леща и похож, только на большого».
Досадная, посторонняя залетная туча заслонила запад. На ней стояли два маленьких белых облака, сначала неподвижно, затем поднялись выше и разбежались в разные стороны. Казалось, они поднимали занавес — туча пошла вверх, растворяясь в зените, и вдруг в полнеба открылась Высокая Безвкусица. Все свои — решили ангелы, оставим условности, забудем о приличиях, зачем нам эстетика…
Зеленое наливалось малиновым, по малиновому проносилось оранжевое, белое, белое светилось по голубому. Вода переливалась бирюзовым и розовым перламутром, на востоке небо было фиолетовое, прилип к нему прозрачный месяц, кружочек из марли.
Прямо у лодки плавали круглые колокольные облака, молчали великим молчанием. Тишина в колоколах гуще, тяжелей, прохладней.
По привычке Карл готов был обрадоваться — как все-таки хорошо, а в Москве… Но радоваться не хотелось, не хотелось вообще ничего, — ни удивляться, ни вглядываться в поплавок, ни даже курить.
«Наверное, я счастлив», — уныло подумал Карл.