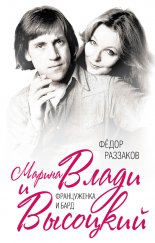Поздно. Темно. Далеко Гордон Гарри

— Поближе кладите, поближе, — кричала тетя Женя, — Иня, я кому говорю!
— Да заткнись ты наконец, — не выдерживал Виргинии, фронтовой сталинградский шофер.
— Шурик, — звала Антонина Георгиевна, — Шу-у-рик! Ты не забыл мою цветную сумку? Там у меня, понимаешь, очень важные вещи!
— Карлуша, Карлуша, не побей яйца, — предупреждала тетя Женя.
Лаяла, проснувшись, Белка.
В канун майских праздников на теплоходике оказывалось много, человек десять односельчан, и Лариса Каменецкая, собрав со всех по полтиннику, царственно поднималась к капитану с просьбой остановиться в Чупеево, в ручье, а не в законном Шушпаново, откуда переть еще полтора километра. Капитан, искоса глянув на руку с деньгами, молча кивал.
Дом в Чупеево был куплен Антониной Георгиевной два года назад у сельского алкоголика Генки Печонкина за шестьсот пятьдесят рублей.
Две недели выгребались скопом смешанные с землей лежалые тлеющие тряпки, башмаки, почему-то на одну, правую ногу, голенища, ведра без дна, поломанные самовары, банки, чугунки, железяки, куски рубероида, расплющенные алюминиевые вилки, электрические лампочки, битая керамика, и много, очень много аптечных пузырьков — баловался Генка календулой и пустырником.
Расписка в получении денег, нацарапанная неверной рукой, была единственным документом, дающим зыбкие права на дом и шесть соток земли.
— И почему бы правительству не разрешить покупку участков? — сокрушалась законопослушная Антонина Георгиевна. — Люди бы себя сами обеспечивали овощами, чем у спекулянтов покупать.
Всех торгующих на базаре Антонина Георгиевна называла спекулянтами.
Обрадовавшись земле, бабушки решительно взялись за дело. Звон их голосов стоял над деревней, как весенний зной, утончался в вышине, раздражая жаворонков. Копала бабушка, копала тетя Женя, сердито выворачивал глыбы Виргинии, азартно, засекая время, ковырялся Карл.
Татьяна металась между огородом, детьми и обедом, тщетно пытаясь пристроить к этому делу старушек.
— Карлуша, — кокетливо окликала тетя Женя, — какой у меня замечательный червяк, иди скорее!
— Карл, — строго кричала теща, — возьми своего червяка, он такой противный!
У Карла давно коробка с червями была переполнена, червей была сотня на квадратный метр, но он из вежливости подходил, вонзив лопату в землю, произнеся короткое «ёбт!»
Карла мучили эти черви — все равно на рыбалку вырвешься разве что к вечеру, часам к восьми, а то и позже, когда устанут бабульки, иначе начнут коситься, да и Виргиния привлекут на свою сторону, благо он не рыболов, а что успеешь за два часа на незнакомой реке…
Деревенские осторожно поглядывали на новеньких, привели однажды восьмидесятипятилетнюю Фёклу. Фёкла постояла, посмотрела на грядки, на цветы и вынесла заключение:
— Горсад!
После этого Антонина Георгиевна почувствовала себя уверенно, домашних стала гонять с новой силой, а ближайшего соседа Славку Печонкина перестала бояться.
Славка был двоюродным братом Генки и на дом имел виды. Дачников возненавидел и грозился даже поджечь.
— Твой дом тоже хорошо горит, — отпарировала тетя Женя, и долго была довольна своей смелостью и находчивостью, рассказывала всем.
— Да перестань ты, — увещевал Виргинии, — тоже нашла чем хвастаться.
Татьяна тем не менее со Славкой быстро поладила, подарив ему бутылку и несколько пачек «Примы».
— Нет, — решительно отказала Антонина Георгиевна, — у Славки брать молоко не будем!
— Отчего же, мама? У Маши гораздо хуже, да и не хватит. У нее многие берут, а она и капризничает.
— Понимаешь, он мужик.
— Ну и что?
— Как что? Ты, Татьяна, как маленькая! Он хватает себя за это самое, прости Господи, а потом доит.
— Мама, а Маша за что хватается? Антонина Георгиевна задумалась.
Тихо было на кимрском причале в начале июня. Татуля сидела на траве, прислонившись к рюкзаку, дремала, подставив солнцу набухший подростковый нос.
Было жарко, но с Волги тянуло слабым холодом, и Татьяна то набрасывала кофточку, то снимала.
Бог с ним, с ликованием, в конце концов это та же тревога, только наоборот, но что-то большее, похожее на покой, кажется уже начинается.
Пьяная лимонница с заплетающимися крыльями тянется вдоль темного, недавно отцветшего сиреневого куста. Загудел буксир, толкающий перед собой баржу с песком, и так привычно загудел, так правильно, как будто есть ему и было постоянное место в повседневной Татьяниной жизни.
Там, в Чупеево, конечно коммунизм и светлое будущее, и дома, в Ясенево, тоже все хорошо, и Карл скоро вернется, и приедет в деревню, и будем мы с ним выбираться на рыбалку в лодочке, которую подарил ему Олег Каменецкий. И Каменецкие эти хороши — и Лариса баба ничего, и Юлька, Татулина ровесница, рыжая, с косой до попы, а Олег — и вовсе чудный. Все это хорошо, все это правильно, но вот сейчас, до катера два часа, и эти два часа — мои, и еще два с половиной хода до Чупеево — тоже мои, шутка ли…
Можно открыто и честно поразиться серой волжской воде и облакам, затосковать по этюднику — в юности Татьяна писала, и прилично; зеленый натюрморт с яблоками, написанный в семнадцать лет, Карл повесил на стенку и не позволяет снять, кажется, не только из вежливости, но на все его уговоры написать что-нибудь Татьяна шарахается, искренне боясь и холста и красок.
Блики, похожие на лунные, возникали в сознании, или это следы, оставленные ангелом-хранителем среди болота… Светлые эти пятна обращались словами, Татьяна следовала за ними, подбирая — одно подберет, второе заметит, а третье — третье имеет в виду, совсем как в сказке.
Ни в коем случае не числя себя поэтом, Татьяна собирала эти пятнышки в строку, а иногда и в стихотворение, случалось это редко, может быть, раз в год, но без этой цепочки, без этого лезвия ножа, все радости ее жизни были бы извращены, безраздельное слияние с домом, с семьей, с детьми превратило бы ее, чувствовала она, из собаки в корову.
«Собака, старая от рождения, — это я».
— Мам, — не открывая глаз, сказала Татуля, — когда Карлик приедет?
— Скоро, подожди, неважно, — не сразу очухалась Татьяна. — Ты вот что, посиди, а я схожу за хлебом, когда еще Карл привезет…
— Не буду я сидеть, — возмутилась Татуля, — пойдем вместе.
— Пойдем, только ты понесешь эту сумку, и эту…
— И понесу, — Татуля не сдавалась.
— Дурочка, — засмеялась Татьяна, — ну какой смысл? Посиди, я только в булочную и обратно.
— Сок купишь?
— Конечно. Тебе какой?
По заросшей лопухами улочке Татьяна поднялась к полуразрушенной церкви, на колокольне выросли березки, подход был загажен и порос высокой крапивой. Старый купеческий городок был хорош, при всей его живописности был он жилым, удобным и теплым, в нем можно было жить с удовольствием, если бы, например, Карла выслали из Москвы, за стихи, разумеется.
«Вот дурище, что я несу, — ужаснулась Татьяна. — Затейливые бредни праздного, неразмятого ума… Тем более, сейчас за стихи даже не высылают. — Сухим венком вокруг дочери обовьюсь».
Хлеба в ближайшем магазине не было, Татьяна пошла дальше по тенистой улице мимо деревянных особняков в стиле модерн. «Где еще может быть деревянный модерн, — думала Татьяна, разглядывая лекальные эркеры, — чудно».
Отыскав хлеб, Татьяна вспомнила о соке для Татули и заторопилась — где-то в центре есть хороший магазин.
Городок раздвинулся, стал жарче, пыль кружилась за автобусами. Сок нашелся вишневый в майонезных баночках, жутко дорогой — что-то около тридцати копеек. Укладывая баночки между батонами, Татьяна вдруг забеспокоилась: Татуля одна, и до катера меньше часа, но забежала все-таки в книжный, благо тут рядом. В провинциальном этом магазине, знала Татьяна, возможны чудеса — в прошлом году попался однотомник Тютчева, и недавно, в мае, возвращаясь из деревни, Карл обнаружил здесь Самойлова.
Ничего такого на этот раз не оказалось, и Татьяна купила для Кати книжечку с рисунками Пивоварова.
Надо же, Татуля сбила ее со строчки, сломала пух, как говорят в Одессе. Но ведь спросила про Карлика, скучает.
Они познакомились, когда Татуле было восемь, гуляли в Сокольниках. Карл, боясь детей и не находя нужного тона, затеял играть в футбол нежным желто-синим девичьим мячиком. Татьяну поставили на ворота, и рубились на полном серьезе, задыхаясь и падая, причем Татуля тонкими ножками, расположенными буквой «X», больно костыляла Карла по голени. Поддаваться в этой ситуации было неприлично, и тридцатипятилетний Карлуша, выиграв со счетом: пять два, торжествующе пробежался по лужайке.
Через полгода, когда они стали жить вместе, Карл вспомнил о своей педагогической находке и спуску Татуле не давал, колотя ее иногда почем зря.
— Это для того, чтобы она не чувствовала себя приемной, собственноручную я бы колотил так же, — оправдывался он. «Собственноручная», Катя, вскоре появилась, ей уже шесть, и папа уже поколачивает ее, правда слегка — то ли рано еще, то ли уже поздно, устал человек.
Футболом Татуля была сражена, смотрела на Карла, как тот смотрел бы на Бобби Чарльтона, и тащила к окну бабушку и тетю Женю, когда Карл маячил в кустах жасмина, поджидая Татьяну.
Высмотрев, женщины огорченно качали головой:
— Еврей, — говорили они, а бабушка добавляла, — тьфу!
Они не были антисемитами в хорошем, добротном смысле, вряд ли они вообще представляли, что это такое, но из жасмина выглядывал немолодой, — на шесть лет старше Тани, — мятый человек, одетый кое-как, и в стоптанных, наверняка, ботинках, с нерусским именем. Еврей — это самое мягкое, что можно было о нем сказать.
Когда Карл впервые позвонил и попросил к телефону Татьяну чуткое материнское сердце почувствовало беду, ошиблось только в масштабе и направлении — тут же Антонина Георгиевна отнесла соседке пять клубков ворованной шерсти, купленной по случаю очень дешево.
— Смеешься, — сердилась она, — а у тебя вон на полке какая-то гадость лежит. Выбросила бы или отнесла куда-нибудь.
Таня не сразу поняла о какой гадости идет речь, оказалась эта гадость булгаковским «Собачьим сердцем», бледным, пятым, наверное, машинописным оттиском.
Кончилось тем, что Татьяна была приговорена к пожизненным узам с этим самым мятым Карлом, причем Карл имел наглость еще и отбиваться.
— Поймите, Таня, — доказывал он мокрым летом семьдесят шестого, — мне едва хватает ответственности только на себя, а я непритязателен. Я не умею зарабатывать, потом — у меня алименты. И еще дочка в Подольске, ровесница Татули.
Лил дождь, они сидели в беседке в Сокольниках, Карл разрезал апельсин пополам, вынул мякоть и положил на колени, на мокрый плащ. Из кожуры получились две пиалы, и Карл налил в них портвейну «Хирсы», они мягко чокнулись, редкие капли с потолка падали в портвейн, вздымая фонтанчики.
— Видите, вы все можете, — улыбнулась Татьяна.
Они долго были на «вы», даже когда родилась Катя, Татьяна, осердясь, иногда говорила:
— Если вы вывариваете ползунки, какашки, извините, извольте выбрасывать.
Приходя на свидание в мокрый жасмин, Карл иногда предупреждал:
— Завтра мы не увидимся. У меня встреча.
— А мне нельзя с вами?
— Можно, наверное, но не нужно, — мялся Карл. Никакой встречи у него не было, он боялся обязательной ежедневности, обыденности в полете.
— Очень хорошо, — кивала Таня, — я тоже займусь своими делами.
На следующий день Карл звонил:
— В жасмине?
— В жасмине, — улыбался Танин голос.
— В семь?
— В семь.
Был еще неприятный для Карла момент непривычного имущественного свойства: достраивалась Татьянина кооперативная квартира, и невольная роль жениха квартировладелицы терзала его щепетильное сердце.
Катер вмещал человек пятьдесят, в страдные дни увозил и сотню, сейчас было просторно — несколько местных старушек с мешками, загорелый пенсионер в штормовке прижимал к колену саженцы, на палубе громко топали юные туристы.
«Все, считай, дома», — радовалась и беспокоилась Татьяна. Уехала она девятого мая, как они там, — сколько уже? — три недели без нее… Были б здоровы. Кате еще, по малолетству, нравится в деревне, делать ничего не заставляют.
Татьяна улыбнулась, вспомнив закутанную посиневшую Катю, сжимающую удочку ветреным холодным вечером. Вытащила-таки, посрамив папу, крупного окуня, граммов на триста.
Река Медведица здесь, в пяти километрах от устья, была шириной с Волгу, метров семьсот. Черный бор на противоположном высоком берегу. Все бы хорошо, только холодно, когда подует северо-запад. Тихая Медведица вскипает, отвратительно синеет, долбит береговые кочки короткой враждебной волной. Яма, что ли, здесь такая, вроде бы самый юг Калининской области, а смахивает на Архангельскую, и болота вокруг, набитые клюквой, и черника в бору, и брусника. Грибы были в прошлом году, и много, в основном подберезовики и подосиновики, это из благородных, а так — и моховики, и лисички попадаются, и сыроежки само собой. Странно, белых почти нет — два-три, не больше. Оттого это, говорят, что почвы здесь слишком кислые, хвощи да папоротники.
В тридцатые годы, когда построили Иваньковское водохранилище, разлились малые реки Волжского бассейна, и Медведица разлилась, а была она метров сто пятьдесят шириной.
Деревню сдвинули с места, переставили повыше, ниточкой, в одну улицу, а вода до старой деревни не дошла, так и стоят одичавшие яблони, да ямы на месте фундаментов поросли болиголовом.
Теперь на старой деревне Карл рыбу ловит, там ее больше всего, не ушла из деревни прикормленная некогда скотным двором рыба, видимо, чувство родины у нее покрепче…
Что касается чувства родины, то мама ведь дом искала не в этих краях, здесь получилось случайно, а искала она там, где корни, за Коломной, где речка Осетр впадает в Оку.
Берега Оки белейшего песка, в пресловутых есенинских ветреных свеях, заросли орешника, пологие горки и дубравы на них, пронзительные березняки и синие сосны, — все это Татьяна хорошо помнила — и названия лужаек, и окрестных деревень.
Берехино, довольно людная, тогда во всяком случае, деревня, тянулась вдоль Осетра, известной среди рыболовов речки, не раз поминаемой самим Сабанеевым.
Ледниковые валуны и теплые глыбы песчаника стискивали прозрачную воду, она вырывалась, выплескивалась через камни, разбрызгивая сияющую на солнце плотву и красноперку, мощные голавли с трудом стояли против течения, в глубоких омутах мрачно похаживали туда-сюда сытые раздраженные окуни, уткнувшись мордами в каменистое дно, спали по-собачьи налимы.
Одуряющие травы росли по берегам, свистели в лугах перепелки, белые грибы сотнями стояли в перелесках.
Татьянин прапрадедушка был, по деревенским слухам, побочным сыном графа Келлера, чье имение стояло неподалеку. Таня и Шурик, выросши, потешались иногда якобы графским своим происхождением, мама же только сжимала губы при упоминании об этом, видимо, накрепко забыла с тридцатых годов о своей генетической неполноценности.
Савву, барского бастарда, отдали на воспитание в деревню, дали ему фамилию Новиков. Савва вырос здоровым усатым мужиком, от нечего делать переходил по дну Осетр, прихватив под мышки два огромных валуна.
Георгий Авдеевич, внук Саввы, лицо имел породистое, с кинжальным носом, осанка его при небольшом росте была тем не менее величественная, и на деревне, где все «Федьки» да «Васьки», обращались к Георгию Авдеевичу, даже старшие, только по батюшке, здоровались с поклоном. И это уже не предание, Таня сама это помнит. Впрочем, отчего бы не уважать человека по делам его, тем более с такой осанкой и совершенно поседевшего смолоду.
А был дедушка видным рыболовом, даже среди таких капризных, по этим местам, мастаков.
Несколько лет назад на нашумевшей выставке «Сокровищницы Зарайского художественного музея» Татьяна наткнулась на портрет своего дедушки. Сходства было процентов девяносто, вряд ли нынешний мастер работая с натуры, смог бы написать более похоже, причем дедушка был похож не только формально — он пребывал в хорошо знакомом Тане состоянии, когда объявлял жене своей, бабе Шуре, бойкот.
Под портретом стояло: неизвестный художник. Портрет графа Де Бальмена.
Вот тебе и на! Правда, вспомнила Таня, имение Де Бальменов было тоже рядом, может быть, даже на полкилометра ближе, чем Келлеров.
В четырнадцатом году молодого потомка побочного графа призвали в действующую армию. Будучи грамотным, был он определен писарем, воевал в Галиции, быстро освоился и, презентабельно выглядя, выбился в небольшое начальство. С семнадцатого года примкнул к большевикам, вырос политически и профессионально, гонялся за Антоновым по тамбовским лесам, мгновенно поседел, едва не потеряв очаровательную жену свою Шурочку, когда антоновцы, выгнав население на площадь, рубили каждого второго. Шурочка, к счастью, спряталась в погребе.
В двадцатом году Георгий Авдеевич был назначен комиссаром Царицынского порта. Следовало собраться в течение суток. И тогда выступила очаровательная Александра. Она действительно была очаровательна — хрупкая, с тонкой талией и большой грудью, с круглым простодушным веснушчатым личиком.
Отец ее был серьезным мастеровым — портным Большого театра, четырех дочерей своих выдал замуж надежно, а одна из них и вовсе стала женой прославленного героя-летчика с детской фамилией Коккинаки.
Так вот, Александра не стала перечить грозному своему мужу, она просто и тихо сожгла его партийный билет. Если можно было поседеть второй раз, Георгий Авдеевич так бы и сделал. Он не развелся с Александрой, даже не побил ее, он поступил более жестоко — перестал ее замечать. Формально они жили вместе, вырастили дочек, Тоню и Женю, возились с внуком и внучкой, но — порознь.
Всю комнату на Трубной в течение, может быть, целого года загромождала делаемая дедом со всей аккуратностью лодка, пахло клеем, кожимитом, канифолью, домочадцы жались по углам — Георгий Авдеевич истово клеил, дырявил, протирал.
Лишившись партбилета, а следовательно — работы, соратников, будущего, находясь, наконец, и вовсе под угрозой уничтожения, дед подался в Москву, к брату своему — нэпману, вошел в долю, и стали они варить мыло. Варили, видимо, успешно — им принадлежал даже известный кинотеатр на Самотеке.
Тоня росла строгой девушкой, не в пример младшей — простодушной растеряхе Женечке. Учась на экономических курсах, несколько лет подряд принимала участие в физкультурных парадах на Красной площади, не исключено, что ее запечатлел в первых рядах сам Дейнека.
Ей исполнился двадцать один год, когда перед самой войной стал за ней ухаживать инженер Иван Никанорович. Поначалу Тоня была в ужасе: Иван был старый, было ему за тридцать, лицом смугл и широк, волосом черен, с раскосыми темными глазами, ни дать ни взять турка, прости Господи, хоть и родом из-под Волоколамска. Похоже, все-таки кровь была в нем северокавказская, Чечня или, скорее, Дагестан. Фамилия его была Алимов.
Иван Никанорович оказался терпелив в своей влюбленности, скрупулезно ухаживал, мрачность его была все-таки приветлива, оживленность его была надежна, в работе он был вдохновенен, и строгая Антонина сдалась.
Иван вскоре ушел на фронт командиром саперной роты, а осенью сорок первого родился Шурик.
После войны капитан Алимов никак не мог демобилизоваться, Антонина поехала к нему куда-то под Бобруйск, и в лютый мороз в заиндевелой теплушке в январе сорок седьмого родилась Татьяна.
— Понимаешь ли, — каждый год двадцать второго января рассказывает Антонина Георгиевна, — для того чтобы помыть ей попку, нужно было растапливать лед.
Гости чокались, пили за маму и поглядывали на зарумянившуюся виновницу торжества, с удовольствием представляя ее мытую попку.
Сохранилась фотография трехлетней Татьяны — Карл все собирается скопировать ее на большом холсте — румяная, в шляпке, в темном батистовом платье в горошек, с сачком в полной руке, щурит на солнце раскосые свои глаза. Берехино. 1950.
Снимали на лето для бабы Шуры и детей амбар у родственников Савиных, боковых потомков побочного Саввы. Наезжали старые друзья-нэпманы, ставшие ответственными работниками. Многие из них вышли уже на пенсию и прогуливались степенно по деревне вдоль Осетра, в дорогих пижамах, с махровыми полотенцами через плечо.
Особенно хорош был молодой отпрыск Бора — курчавились на пижамной груди черные волосы, в тени фетровой шляпы сверкали, едва ли не щелкали, жадные глаза. Бора был настройщиком Мурадели.
С наступлением темноты баба Шура, уложив детей, убегала тихонько к нэпманам играть в преферанс. Возвращалась, случалось, под утро, виноватая, но довольная — она всегда выигрывала. Спать хотелось смертельно, бабушка будила Таньку, с размаху сажала на горшок, сдергивала, снова укладывала, давала ей большую кружку чая с молоком или какао, сдобную булочку, наскоро все это впихивала в нее, укрывала теплой периной и приказывала: «Спи!» После этого укладывалась сама. Шурик уже большой — сам разберется.
В отпуск приезжали Георгий Авдеевич с Иваном, и начиналась титаническая борьба, за которой следила вся река. Ивану недоставало опыта и знания местности, зато самолюбия и нетерпения было в избытке.
Георгий Авдеевич рукой мастера выуживал голавля, и Иван Никанорович, потерпев, выуживал голавля. Клеенчатый метр растягивался на плоском камне, привлекались третейские судьи.
Загадочная рыба клевала у Ивана Никаноровича, дробно дергала, как плотва, клала поплавок, как лещ, и, наконец, с маху топила, как крупный окунь. Иван Никанорович мастерски подсекал и вытаскивал ерша величиной с мизинец. Ерш в ярости был тут же разбиваем о камень. Георгий Авдеевич, усмехаясь, доставал подъязка с ладонь и, посомневавшись, выпускал его.
Побледневший Иван не сдавался. Таня и Шурик мобилизовывались на ловлю кузнечиков. Шурик отделывался дюжиной, выкручивался, отговариваясь непогодой, и исчезал. Таня же добросовестно выполняла заданный урок — сто кузнечиков в день.
Благодаря добросовестности своей и праведности в первом классе была она сандружинницей, проветривала класс на переменках и проверяла ладони мальчишек — мытые ли. А в третьем — звеньевая Алимова стала тимуровкой.
Объект опекания найти было непросто — старушки, как правило, сопротивлялись. Мама посоветовала навестить дальнюю родственницу — бабу Паню, может, что и получится.
Баба Паня покорно сидела на высокой кровати, поджав ноги, грузная, в белой рубахе, с нечесаными желтенькими волосами, пока пионеры елозили мокрой тряпкой по сизому паркету. Обрадовавшись, тимуровцы ходили к ней каждый день — громыхали, толкались, выедали пальцем повидло.
Однажды баба Паня поманила Татьяну:
— Таньк, а Таньк, поди, что покажу.
Она достала стеклянную пол-литровую банку из-за подушки и поставила ее на колени. В банке зеленела какая-то травка.
— Таньк, — сказала баба Паня, — слышала я, при школах есть зверинцы какие-то.
— Живой уголок, — сообразила Таня, — у нас там ежик и морская свинка.
— Поди ж ты, свинка, — похвалила старуха. — Может, возьмешь? — она показала на банку. — У меня тут, понимаешь, давеча глист вышел, да здоровый такой, — старуха, как рыбак, выставила пальцы, раздвигая, — так шут его знает, чего ему надо. Я вот ему травки нащипала, а поди как помрет, ему, чай, особый уход полагается?
После этой истории Таня поостыла к тимуровскому движению, и отряд распался.
«И все-таки школа — самое страшное место на земле», — подумала Татьяна Ивановна, учительница рисования и черчения, глядя на проплывающие берега Медведицы. Именно в школе человек испытывает первую ненависть. Где ж еще? Дома при любых отношениях есть мощный противовес — родство. В садике — в садике ребенок сам по себе, временно, к вечеру его заберут. Там нет этого убийственного понятия — коллектив. Именно там, в коллективе, убивают наповал бабушкиного Бога, если он есть, а если нет — то того, личного, Детского, от которого прячешься по ночам, натягивая простыню на голову.
А трудовой коллектив… Где ж еще есть такое понятие? Да, наверное, везде. Вымотанные, ежедневно стареющие, не поспевающие за своей старостью училки, нервно курящие в туалете, вечная нехватка знаний, как и денег…
— Мам, смотри, смотри — цапля!
— Действительно, цапля, — обрадовалась Татьяна, — а вон еще.
Цапли стояли в береговом тростнике — одна, вторая и третья, слабые волны омывали им коленки. — «А в Берехино почему-то не помню цапель, — подумала Таня, — или не замечала».
В последний раз Таня была в Берехино лет восемь назад, да, перед самым Карлом, одна, вернее, — без Татули, а возила она туда Хайкина. Это был джентльмен лет около сорока, уверенный и снисходительный, он опекал Татьяну, формировал, воспитывал, имея конечной целью на ней жениться.
Татьяне он был интересен — ей надоела богемная архитекторская команда из Гипровуза, где она работала. Замуж она не собиралась, она боялась хайкинского трезвого ума, умеренных его взглядов. Но… «чем черт не шутит, если дремлет Бог», как сказал поэт…
Положительному Хайкину местная природа понравилась, он шутил, наклонялся, поднимал гриб и спрашивал, какой он породы, даже нюхал луговой мятлик — по всему чувствовалось, что готовится он к нелегкому и ответственному действу…
Перед вечером подошли они к причалу. Вода в Оке была белая, кисельные, розовые были берега.
Пришвартовался, покачиваясь под музыку Поля Мориа, белый пароходик. Хайкин резко замолчал. Через некоторое время заговорил сдавленным, не свойственным ему голосом.
— Вот оно, — с предсмертным любопытством почувствовала Татьяна.
Перед ней в пяти шагах плясал пароходик, вышло несколько пассажиров. «А до смерти четыре шага, — промелькнуло в голове. — Господи, да оставьте все меня в покое. Почему я должна что-то решать».
Татьяна вскинула голову — темный иллюминатор качался перед ней, и в нем, в нем — большая белая задница со спущенным сиреневым трико, не задница даже, а, что греха таить, просто жопа.
Пароходик гуднул, и задница, поблескивая стеклом иллюминатора, поплыла, покачиваясь, вверх по Оке под музыку Поля Мориа.
Умный Хайкин замолчал, потом засмеялся, с облегчением и досадой засмеялась Татьяна.
В последних пыльных лучах закатившегося уже солнца увидела Таня из окна автобуса шедших по высокому приокскому лугу слона, жирафа и ослика…
Карл, обрадовавшись этой истории, время от времени объяснял посвященным:
— Всем хорошим во мне я обязан жопе.
Бедный Карлик не станет тебе Татуля ловить кузнечиков. И Катя не станет. Да и зачем тебе это, не надо. Не надо такой ценой — взваливать на себя тяжесть угрюмой этой жестокости противостояния, гордыни, наконец, ради лишней рыбешки. Ты же ловишь другую рыбу, и ты никогда не хотел ничего лишнего. Сам же написал:
- Но это не важно, а важно,
- Что прыгает мой поплавок
- В реке вечереющей, влажной,
- Мечтательной, словно зевок.
Приехал бы скорей. Покрасим лодку в белый цвет. Нет, наверняка захочет в черный. Ну и ладно. Как там дальше:
- Но вот из травы и тумана
- Огромная выросла дочь,
- И мы на заслуженный ужин
- Идем, торопясь и дивясь,
- Домой.
- И никто нам не нужен —
- Ни окунь, ни щука, ни язь.
3
Ничего лучшего не придумал Ефим Яковлевич, как прогуливаться с дамой по Новоясеневскому проспекту. Рассчитывал он, правда, на другое — привести даму к Карлу на смотрины, но никто не отзывался на звонки, и Магроли решил погулять, благо одна сторона проспекта была просто краем леса, а дамы, слыхал Магроли, природу любят.
Сам он не любил и боялся того, что называют природой, для него и асфальт был непредсказуемой стихией.
Его природой были книги. Он ловко скакал по литературоведческим терминам, отводил рукой нависающие постулаты, мечтательно бродил по жирмунским лесам, отдыхал на куртинах Эйхенбаума.
Не менее книг интересовали Магроли живые люди, но в них он слегка путался, применяя щедро и без разбора презумпцию незаурядности. Стоило человеку оговориться и сказать какую-нибудь глупость в непривычной форме, как Магроли издавал свое короткое восторженное «У!»
Карла бесило, когда Магролик радовался какой-нибудь незначительной, а то и вовсе плохой его строчке, а хорошую не замечал. Обидно, когда хвалят не за то, что ты заслуживаешь.
Магроли любил свои пристрастия, как друзей детства, как родителей, и в новом для него мраке московского бытия, где он пребывал уже два года, старался не сбиться, не порвать пуповину оплетающую его неловкие ноги. Видимо, отчасти этим и объясняется его чудовищная координация.
В идеале Ефим Яковлевич должен был бы лежать на диване, заложив руки за голову, и думать о хорошем.
Сомнительная его профессия была определена ему судьбой: не сходя с места мог он переживать множество жизней, быть героем-любовником и шутом, святым и злодеем, режиссером и осветителем.
— Не то, не то, — досадовал он, когда фильм сбивался с ритма, определенного им же, Магроли, а не создателями, — да что ж они делают!
И тут же катал донос будущим поколениям.
Воспитанный в традициях провинциальной интеллигенции, где папа и мама обожали друг друга, и оба — единственного Фиму, среди еврейской иронии и мировой литературы, Ефим по окончании педагогического института, отважно размахивая руками, ринулся в сельскую школу — один! — преподавать, или, как он говорил, — «Но-сыты воду школярам».
Вынес он оттуда несколько забавных случаев и непоколебимую уверенность, что можно не потерять лицо ни при каких обстоятельствах.
И то сказать, такое лицо потерять было трудно: селяне любили его как «божевильного», приносили ему яички и сало.
Из забавных случаев любил он рассказывать один: на выпускном экзамене в восьмом классе молчал ученик лет восемнадцати, «з вусамы», помощник комбайнера, мялся и хлопал глазами.
— Так что, — вытягивал из него Ефим Яковлевич, — может быть, героиню звали Татьяна?
— Тэтяна, — неохотно соглашался экзаменуемый.
— А что она написала?
Молчание.
— Ну что может писать дивчина, когда… соскучилась?
— Лыста.
— Великолепно. А кому она писала письмо, ну…
Хлопец вздохнул, с сомнением посмотрел на учителя и догадался:
— Мабуть, Гоголю…
— Так чей же это был ученик, Фимочка, ваш или комбайнера? — не понимала Татьяна Ивановна.
Пообщавшись с народом, Ефим решил, что в сельской школе обойдутся и без него, бросил забивать микроскопом гвозди и подался в Питер, в аспирантуру Института театра и кино.
Доброжелательная полная дама объяснила, что документы подавать уже поздно, теперь уже в следующем году, но пораньше.
«Приходите завтра», — восхитился тем не менее Ефим и запел сквозь огорчение, как Фрося Бурлакова, только не вслух.
Но Изольда Владимировна, кажется, расслышала.
— Вы где остановились? У вас есть, где ночевать?
— Угу, благодарю вас, — с достоинством поник Магроли, — до свидания.
И пошел в шкаф…
Магроли был принят в виде исключения как самородок, как киновед «от сохи». И не только в аспирантуру, а, что важнее, — и в доме Изольды Владимировны, ставшей его преподавателем и мамкой.
В городе Пушкине, на Пушкинской улице летали руки Ефима, доказывающего Олегу, мужу Изольды, что Тынянов, конечно, говно, но… А как пилась водка с Сережей, Изольдиным братом, неистовым химиком и, скорее всего, уланским поручиком!
Володя Лосев, друг Сережи, лысый, ушастый, беззубый любимец женщин, пытался вытаскивать Ефима по бабам, но «бабы» быстро уставали от Эйзенштейна, а на Марке Донском вскакивали, торопливо объясняя, что надо забрать ребенка из садика…
Была, была замечательная женщина, которая глаз с него не сводила, понимала его не понимая, восхищалась его непредсказуемыми жестами, но Магроли бегал от нее именно поэтому, считая извращенной.
Ефим Яковлевич не собирался завоевывать Москву, он был провинциалом, но не поэтессой какой-нибудь, просто в Москве происходило все, что могло происходить. Кроме того, в Белых Столбах под Москвой находился не только известный сумасшедший дом, но и богатейший Госфильмофонд.
— Не то, не то, — стучал кулаком по ладони Ефим Яковлевич, прогуливаясь с дамой по Новоясеневскому проспекту. Дама была вовсе и не дама, скорее барышня, а то и просто девица. У нее было белое, алебастровое, как маска, лицо, в прорезях глаз шевелились лоснящиеся спинки каких-то подземных зверьков.
Время от времени девушка увлекала его под навес автобусной остановки — целоваться. На остановке это могло походить на прощание, а к прощаниям прохожая публика бывает снисходительнее, чем к встречам.
Отцеловавшись, Магроли выскакивал на мостовую, рискуя угодить под автомобиль, и яростно колотил кулаком по ладони. Девица была ему подсунута сострадательной сослуживицей.
— Понимаете, — продолжал он, — это не пресловутая кухня, где диссиденствует, ничем не рискуя, богема. Это и не кухня вовсе — нет ничего хуже чужой кухни, где чужие запахи, и посуда расположена не так, как дома. Там вовсе нет запахов, кроме, разумеется, табачного дыма, там и еды нет как таковой, но закуска или борщ, или суп возникают всегда из того же дыма в нужное время. Там нет и шести квадратных метров, — гремел Магроли, но там помещается весь мир, там появляется четвертое измерение, это Нехорошая квартира, в булгаковском смысле…
— А целоваться там можно? — участливо спрашивала девица и поглядывала на остановку.
— Не то, не то, — скрипел зубами Ефим Яковлевич.
Темнело, следовало определиться: если Карл не пришел, срочно разбегаться по домам. А если пришел, — может, спровадить? Но это невозможно, не нагрубив…
Из кювета поднялись двое, местного вида, в тренировочных штанах, мужиков.
— О! — сказал один, обращаясь к Магроли, — ты где пропадал?
— Простите, — опешил Ефим Яковлевич, — я вас не знаю.
— Да ла-адно, — протянул мужик, — вчера только пили. Слушай, я тебе должен. Давай вмажем, а?
Второй дядька поглядывал на девицу.