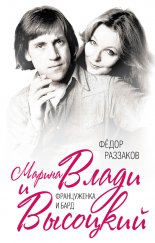Поздно. Темно. Далеко Гордон Гарри

Зимой работы было меньше, слякоть и морось, видимо, действуют на фраеров угнетающе. Выручали тогда настоящие мужчины, старые приятели, которым некуда бывало деться со своими любовницами. Притаскивали приятели много еды и питья и платили Мата-Хари по четвертаку за сеанс. Жизнь была спокойна и содержательна, надвигающаяся старость не пугала.
За стеклянной стеной бара прошел Марик Ройтер, остановился было, пошел дальше, потом решительно вернулся и направился к стойке. «Хорошо, никого нет, — думал он, дожидаясь свои пятьдесят грамм. — А впрочем, что хорошего».
— Марик, — окликнула Мата-Хари, — подойди.
Марик удивился — они иногда здоровались, иногда — нет, принадлежа к разным кругам, — и то, что старая бандерша знает его имя, польстило самолюбию художника.
— Марик, купи шапку. Чистая ондатра, — не дожидаясь ответа, Мата-Хари копошилась в сумке.
— Зачем мне шапка летом? — искренне удивился Марик.
— А зиму, что, уже отменили?
— Ну, — засмеялся Ройтер, — до зимы надо еще, как говорит Плющик, проторчать на этом свете.
— Не хочешь — как хочешь. А Плющик был здесь недавно. Бодаенко их всех поил, и Плющика, и Эдика, Парусенко роман написал, так Бодаенко хвалил…
— Что-то вы путаете, — улыбался Марик, не зная, как к ней обращаться.
Мата-Хари поняла:
— Ты знаешь, как меня зовут? Слушай сюда, — она приблизила чуть ли не вплотную сероватое свое лицо и громко сказала: «Клавдия Петровна».
— Очень приятно, — сказал Марик и выпил.
— А ты знаешь, чем я занимаюсь?
— То, что я знаю, должно быть, неправда, — деликатно ответил Марик.
— Правда-правда, а чего ж не правда. Или ты против?
— Мне то что? Это даже интересно. Если возможно, расскажите подробнее.
— А чего рассказывать, — Мата-Хари решительно смотала вязание. — Поехали ко мне, сам все увидишь. Или нет денег? — посмотрела на него Мата-Хари, — так ты мой гость.
— Почетный? — не понял Марик.
— А чего бы нет? — зардевшись, не поняла Клавдия Петровна.
«Странное дело, — думал Ройтер, — ведь я почти согласен. Но не переть же, в самом деле, черт знает куда… Вот ведь, только расстояния меня и выручают».
— Идем, что ли?
«Провожу до остановки», — подумал Марик. Он поднял громоздкую, но не тяжелую сумку Клавдии Петровны. Они вышли из бара. Мата-Хари взяла его под руку. «Пройдет мимо какой-нибудь Морозов — и пропал Марик Ройтер», — потешался над собой Марик. Клавдия Петровна подняла руку:
— На Сегедскую, — сказала она подъехавшему таксисту.
Мата-Хари приотворила дверь комнаты и тут же прикрыла ее.
— Занято, — сказала она. — Да ты не стесняйся, садись вот в угол, сейчас кофе растворимый будем пить.
Кухня была чистенькая, с вязаными салфетками.
Над столом висела имитация грузинской чеканки из медной фольги. Клавдия Петровна принесла бархатный альбом с фотографиями.
— Смотри пока…
«Все по науке», — подумал Марик.
В альбоме, действительно, были фотографии каких-то девушек в купальниках, и совсем обнаженных. Были они худы, неловки, явно стеснялись. Над ними хотелось плакать. Однако больше было снимков хозяйки: девочка лет пяти у штакетника, несколько девушек в белых блузках и с буклями, в самой приятной угадывалась хозяйка, разношерстный раскрашенный розово-голубой коллектив у бетонной скульптуры с крупной косой надписью: «Пятигорск 1965 год».
Клавдия Петровна поставила печенье, сняла чайник, достала растворимый кофе одесского производства, шесть рублей за банку.
— Что там так долго, — заворчала она, наклонилась к электрической розетке и пропела туда: «Не спи, вставай, кудрявая…»
Когда Мария вернулась домой, уже темнело. Парусенко спал в кресле. Перед ним на стуле стоял кусок трехслойной фанеры, добытый на антресоли, с прикнопленной четвертушкой ватманского листа. Левая верхняя кнопка отвалилась, край загнулся, и трудно было разглядеть в сумерках, что там нацарапано твердым карандашом.
5
Что-то все-таки изменилось в мире с того дня, когда гулял в баре великий Бодаенко. Во всяком случае, начались затяжные дожди. Теплые, июльские, они тем не менее сбивали с привычного толку, заставляли сидеть дома и думать, а думать ох как не хотелось.
Незаконченный коричневый автопортрет не давал Марику покоя. Не то чтобы он не получался, напротив, он получался слишком, он уже получился и существовал сам по себе. Все то недоброе, грязное, что Марик знал о себе, или думал о себе, или знали и думали о нем другие, — все это теребило сейчас кисти, выдавливало краски, косо поглядывало на зеркало. На холсте же было нечто знакомое, давно забытое, мучительно вспоминаемое и бесконечно, беспощадно правое. Будто в один нехороший день отскочила в страхе душа, спряталась в недоступное измерение, за картинную плоскость, и смотрит оттуда с нарастающим сочувствием.
В дверь позвонили, три звонка, но Марик не пошел открывать, как будто боясь, что пришел Он, этот, с портрета. Открыла, шаркая и ворча, соседка. Пришла к маме патронажная сестра. Марик выбрал в букете кистей мягкую и упругую, колонковую, и аккуратно нарисовал на портрете черные усы колечками.
Плющ сидел в мастерской на белой грязной табуретке, опустив руки меж колен. Рулон грунтованного фабричного холста, ящик с красками — богатство, копимое на заказных работах, стопка ватмана, подрамники и рамки, некоторые из них очень хорошие, старинные, — все это Плющ приволок сгоряча, в три приема, и теперь не знал, куда с этим деваться и чего начинать.
С детства слышал он на Пересыпи поговорку мастеровых, плотников и печников, что глаза, мол, боятся, а руки делают, но руки висели праздно, а глаза — глаза не смотрели бы на этот продавленный пол, на дождевую воду, ползущую по оконной раме, собирающую пыль на подоконнике и шлепающуюся серой грязью на тот же продавленный пол; на нависающие желтые с синими цветочками обои, обнажающие другие, прежние, коричневые с зелеными ромбами.
Глаза глазами и руки руками, но требовалось, по крайней мере, двадцать пять рублей, чтобы купить оргалита и заделать дыры в полу, заделать и покрасить окна, оклеить стены хотя бы ватманом, — это в мастерской, а в будуаре — в будуаре нужны обои. Он прошел в комнатку, которую называл будуаром. Это и впрямь был будуар, во всяком случае, под окном на кирпичах стоял пружинный матрас. Плющ сел и попрыгал на нем, подступила тошнота.
«Ну, Костик, волка ноги кормят, — сказал он вслух. — Пойдем рысачить». Он взял черный зонтик, закрыл дверь на висячий замок и пошел в город.
Эдик сидел в кухне и смотрел в окно. Валя была дома, тут же в кухне, гремела посудой, шумела водой, переругивалась с Леной, проснувшейся в комнате. Эдика старалась не трогать, не замечать даже, чтоб не взорваться и не выкричать все, что она думает о нем и всех его родственниках. Эдик помалкивал, курил и грел лицо о большую кружку с чаем. Думать не получалась, он придвинул лист бумаги и стал писать дождь с натуры.
«Стал накрапывать дождь. Он чуть слышно, как разведчик, прошелестел в траве, проверяя местность, и затих. Следом налетел сам. Холодный и неистовый. Дикие капли, изголодавшиеся после долгого перелета, набрасывались на сухую пыль, глотали ее, гибли, освобождая место другим, еще более яростным и голодным, которые долбили все, что попадалось им на пути: голову, шею, глаза…»
— Очки надел, пишет, как порядочный, — не выдержала Валя, — пиши, пиши, будет Изе чем подтереться. Дитё не кормлено, срач в доме…
— Га? — оторвался от бумаги глуховатый Эдик.
— Что ты на меня гакаешь! Посмотри, на кого ты похож! — парила Валя.
— Валя, замолчи, — гаркнул Эдик.
В кухню в ночной рубашке влетела Лена, распатланная и разъяренная, как Анна Маньяни. Она слабо топнула босой ножкой и закричала страшным голосом:
— Кончайте этот неореализм!
Дюльфик писал обнаженную натуру. Пухленькая, розовая на белом, натурщица полулежала на диване и капризничала. Она устала, было скучно, в окне изредка мелькали мокрые ноги прохожих, все на одно лицо.
Дюльфик злой и молчит все время. Она почесалась.
— Аллочка, зараза, а по жопе не хочешь? — мрачно спросил Дюльфик.
Плотный, с кривоватым носом и кудрявый, Дюльфик был, говорили, похож на Марка Шагала. Он соглашался, но ограничиваться внешним сходством не хотел. Трудно было понять, чего в нем больше — таланта или амбиции. Но то и другое было несомненно. Кто-кто, а он не будет философствовать, как Филин, побираться, как Плющик, и комлексовать, как Марик Ройтер. Несколько скандалов на выставках, пара мордобоев в присутствии нужных людей — и о Дюльфике заговорили, записали в газетах, стали принюхиваться коллекционеры. Он был кипуч, блистателен, когда хотел, прекрасно владел одесским диалектом и дружил с завсегдатаями Староконного рынка, слободскими дедами, помнящими Беню Крика и слыхом не слышавшими о Бабеле. Благодаря бабелевским мансам и необузданному нахальству Дюльфик слыл среди них бывалым мальчиком тридцати четырех лет.
Для разнообразия его приняли в Союз художников и давали со скрежетом выгодные заказы. Начатая заказная работа — Маркс на фоне Вестминстерского аббатства, — была сейчас повернута к стене. Выполнение такого заказа требовало веселья и куража, не писать же серьезно халтуру, хоть и за восемьсот рублей.
Ни веселья, ни куража не было. К тому же эта сучка сейчас пойдет к Мацюку и расскажет, тому на радость, что у Дюльфика, кажется, неприятности. А неприятностей, как назло, не было. Может же у человека просто быть плохое настроение, когда идет дождь…
— Все, — бросил кисти Дюльфик, — одевайся и линяй по системе бикицер!
Аллочка соскочила с дивана, подошла сзади и уперлась грудью художнику под лопатки. Вздохнув, Дюльфик положил ей руку на бедро. В дверь постучали.
— Кого это несет? — радостно взорвался Дюльфик. — Написано же — работаю! Оденься, фуцерша!
Вошел Плющ, а с ним — о, Кока, это ты! Он обнял мокрого Коку.
— Когда приехал, надолго?
Коку подмывало сказать: «насовсем», но Дюльфик, испугавшись, замкнется или, наоборот, начнет горячо отговаривать. К тому же у Костика к нему дело. И вообще, хорош я, уже включаюсь в эти игрища.
— Да нет, недели через две поеду.
— Ну-у, — огорчился Дюльфик, — что тебе Одессочка, в чайник написяла?
— Кто что пьет, — он хлопнул в ладоши, — коньяк, водка, шмурдяк?
— Водки я бы выпил, — сказал Кока.
— И похавать, если можно, — добавил Плющ.
— Аллочка, кикни в холодильник, — распорядился Дюльфик, — борщ будешь?
— Борщ, Дюльфик, — это мечта всей моей жизни.
Вот уж у кого нельзя ничего просить. Аж противно. Не даст ведь, падла. Интересно, чем он отговорится.
Дюльфик показывал работы. Кока не ожидал: за эти годы Дюльфик сильно вырос, поумнел, что ли. Некоторые, особенно на библейские сюжеты были очень хороши. Все, что так трудно было найти в живом Дюльфике, было в нарочито небрежно натянутых холстах. Дюльфик поглядывал на Коку с волнением, он побаивался его мнения.
Аллочка поставила перед Плющом горячий борщ.
— Спасибо, Аллочка, — сказал Плющ и, глядя на грудь, выпирающую из сарафана, пропел: «У ней такая маленькая грудь…»
— Ну, я побежала, — сказала Аллочка.
— Канай, канай, — попрощался Дюльфик.
— Мацюку привет, — добавил Плющ.
Дюльфик рассказывал, что все бы ничего, но заедают эти жлобы из худсовета, обсуждение эскиза не протоколировали, а на следующем совете, который никак не мог собраться, месяца через полтора только, о старых поправках забыли, начались новые замечания, что-то там с левой ногой этого долбаного Маркса, пришлось им, сукам, напомнить, кто есть ху, начался базар-вокзал, чуть не дал по хавальнику этому фуцену Коробченко. В результате Маркса еще делать и делать, и бабки будут, хорошо, если через месяц.
«Кому он все это говорит, — злился про себя Кока, — дай Плющику такой заказ, — он год потом будет писать свои портреты и натюрморты, никто его и не увидит».
— Ну, ты барин, — только и сказал Нелединский.
— Та, — скромно отмахнулся Дюльфик.
Помолчав, вспомнил:
— Пацаны, а вам не страшно со мной общаться?
— Страшно, но приходится, — заметил Плющ.
— Да я серьезно. КГБ у меня на хвосте сидит. Гадом буду. На той неделе позвонили, не сюда, домой. Дюльфик, говорят, зайдите завтра на Бебеля пять, в десять часов утра. Я, конечно, перехезал, но спрашиваю: подмыться сухарями? — Нет, говорят, — сами подмоем, если надо. Это «если надо» меня успокоило, может, на понт берут.
— А что, за тобой что-нибудь есть? — удивился Кока.
— Нет, так найдут, — нетерпеливо продолжал Дюльфик, — литературка, во всяком случае, кое-какая… И вообще я им, как гвоздь в заднице. Так вот, прихожу, и сразу к начальнику, полковнику, отпихнул дежурного и зашел. Кик налево, кик направо — он один. Достаю в наглую лопатник, отстегиваю стольник. — Вот, говорю, выставка Дюльфика в Доме художника через месяц, а это — пригласительный на две персоны. И тикать. Пока тихо, но зухтер, чувствую, бродит вокруг, как одинокая гармонь.
«Кому ты всрался, — подумал Плющ, — если отлавливать всех дискоболов вроде тебя, кто в лагере работать будет?».
— Дюльфик, Дюльфик, — сказал он вслух, — не дашь ли ты мне Дюльфик, взаймы двадцать пять рублей? Ставраки, падла, купил у меня работу, помнишь, автопортрет с розочкой, обещал полтинник, но слинял куда-то, чуть ли не в Москву, а когда приедет, неизвестно.
— А как же ты живешь? — спросил Дюльфик.
— Приходится сдавать кое-какие железки на Староконном. — Отнес в воскресенье топорик, английский, лев на стреле фирма. Дали, падла, червонец.
— Так зачем тебе бабки? — удивился Дюльфик.
«Вот, гад!» — подумал Кока. Плющ объяснил, что надо делать ремонт в мастерской, и срочно, но о приезде Галки умолчал, не его собачье дело.
— Костик, — грустно сказал Дюльфик, — бабок нет, родной муторши не видать! Последний тридцатник отстегнул сегодня Алке, за неделю. Я могу тебе дать, сейчас найду, кое-что для ремонта.
Он полез в кладовку и оттуда сдавленным голосом перечислял:
— Краска для пола, 3 кг, зеленая, правда…
— Годится.
— Белила густотертые, 2 кг…
— Годится.
— Олифа… Обоев три рулона хватит?
Он попятился из кладовки, отряхивая штаны. Нелединский обрадовался за Плюща и налил себе полстакана водки.
— Что там еще? — вспомнил Дюльфик. — Ватман? Вон бери, листов двадцать хватит? Хороший, правда, по одиннадцать копеек, жалко на стенку…
— Дюльфик, Дюльфик, — растроганно сказал Плющ, — приходи, падла, на новоселье. Только не сразу.
— Да, уж, — утомленно ответил Дюльфик.
— И куда теперь с этими авоськами и под дождем?
— Я помогу, до самого дома, — успокоил Кока.
Они добрались, наконец, тридцатым трамваем почти до Банковской улицы.
— Подожди, — сказал Кока и задумался. Затем он стал шарить по карманам и медленно длинными прокуренными пальцами перебирать мелочь на ладони, сдувая табачные крошки.
— Я добавлю, если что, — понял Плющ.
— А тебя не смутит, что я один?
— Ой, Кока, мне приходится так смущаться каждый Божий день. Тут рядом, коло собачьего садика, есть «Бецман».
«Бецман» или «Билэ мицнэ», стоило рубль двенадцать.
— Понимаешь, — извиняясь сказал Кока, только на билет и осталось. И так братец дает каждый день то рубль, то трешку.
В подвале было сыро и сумрачно. Да и в природе, серой и так, приближались законные сумерки.
— Вот я не антисемит, — вспомнил Плющ, — а как увижу Дюльфика, так хочется. КГБ он, падла, боится.
— Зажрался просто, — сказал Кока.
— Нет, ты понимаешь, все эти подпольщики, замученные тяжелой неволей, просто недокушали. Дали ему кецык пирожка. А он, падла, еще хочет. А кто им чего должен? Они дошли до того, что не понимают, что жизнь прекрасна! Ну, скажи, — горячился Плющ, садясь на корточки рядом с Кокой, — когда государство хорошо относилось к художникам?
Кока поджигал спичкой пластмассовую пробку.
— Разве что при Перикле…
— При Перикле, падла, Дюльфик был бы рабом! Да он и так похож на скопасовкого раба-точильщика.
— А он, бедный, думает — на Шагала, — рассмеялся Кока.
— Нет, — не унимался Плющ, — если ты профессионал, делай, что можешь, и у тебя будет возможность делать, что хочешь. Карла-марла ему мешает жить! Я думаю, Ван-Гог обрадовался бы, если бы ему заказали Лукича на фоне Петропавловской крепости. Только он бы не справился.
— Он бы ему ухо отрезал, — догадался, смеясь, Кока.
— Ничего, кепочку бы натянули, — уточнил Плющ.
— Слушай, — помолчав, сказал Кока, — что, в самом деле, мы не найдем здесь, на Балковской, доску для пола? Или фанеру какую-нибудь отдерем…
— Мысль, — одобрил Плющ, — давай, на всякий случай, темноты дождемся.
Они сидели на корточках напротив окна, прислонившись к стене, перед ними на табуретке стояла бутылка белого крепкого. Темнело, дождь то ли лил, то ли перестал, струйка по раме все текла. К окну подошел кошачьего цвета голубь, заглянул, наклонив голову, в комнату, ничего хорошего не увидел, или не разглядел, повернулся хвостом и медленно ушел.
— Ты про Люду Лебедь знаешь? — спросил Плющ.
— Да, и тридцати не было. Ей то за что? Не пила, не сплетничала. Работать стала по-человечески…
— А как случилось с Вовкой Гуслиным? — спросил Кока.
— Ну, Гуслин не просто спился, а еще и скурвился. Он думал, что бабки — это ему все. Нахватал авансов по колхозам, и давай. И повесился он как-то неприлично. Сплошные понты. Напугать жену хотел. Рассчитал время, когда она придет, с петлей стоял. Дверь стукнула, он и спрыгнул. А это соседка в коридоре. Жена где-то задержалась. Наверное, Аннушка масло пролила.
Кока усмехнулся, вспомнив, как пять лет назад Плющик поражал своей эрудицией знаменитых одесских кавэнщиков. И Пастернака им цитировал, и, падла, Гоголя.
Время от времени по комнате веером пробегал свет проезжающих автомобилей. Загорался и мерк в темноте таитянский глаз Плюща. Кока курил непрерывно, втискивая окурки в пластмассовую пробку. Они рассыпались по табуретке, и Кока аккуратно сгребал их в кучку.
— Бросай на пол, — предложил Плющ.
— Не хватало еще сжечь твою хавиру. Мало тебе спаленного пространства?
— Что да, то да.
— А вот Алика Черногая таки жалко, — помолчав, сказал Плющ, — такой тонкий пацан!
— Это мы с Карликом виноваты, — медленно начал Нелединский, сильно отхлебнув, — забитый херсонский хлопчик, косил под приблатненного… ну, мы и, как это сказать, черт… ну, в общем… кх… посадили на иглу романтизма… ввуй, — поморщился, помотал головой Кока от высокопарного выражения, как от плохого портвейна. — Ну, и передозировка. Я ему потом объяснял, что художник, это не тот, кто пьет и дома не ночует, а тот, кто пишет. Но поздно уже было. А Карлик все — второй Кока, второй Кока… А на хер кому второй Кока. Да и первый тоже.
— Интересно, что там Карлик? — вспомнил Плющ.
— А, так он был у меня в Ташкенте, в позапрошлом году. Проездом из экспедиции какой-то, археологической, что ли.
— А что он там делал?
— А хрен его знает. В отпуске.
— Ну и как он?
— Да он пробыл недолго, дней десять. Стихи читал, правда, классные. Только все торопился на какую-то службу, мы ему справку сделали. Дизентерия.
— Усраться можно, — засмеялся Плющ.
— Вот именно. Ну что, пойдем? Спина чего-то болит и ноги затекли.
Он допил из бутылки.
— Бутылку оставь, — сказал Плющ, — первая бутылка, как кошка в новом жилище.
Балковская улица, граница между городом и слободкой, казалось, состояла вся из оторванных досок, фанеры и оргалита. Но, как всегда бывает, выяснилось, что нужную вещь вовремя найти невозможно. Они тыкались в темные углы, лабазы, слабо освещенные редкими уличными фонарями.
Остановились, наконец, у покосившегося внутрь забора из горбыля. Доски были мокрые, черные и склизкие. Плющ провел ногтем, появилась светлая царапина, но тут же затекла. Одна доска была полуоторвана, на звук она казалась не очень гнилой.
Скрипнули тормоза, хлопнула дверца, милиционер направил на них фонарик и решительно приближался. Следом неторопливо шел второй.
— Стоять! — приказал сержант. — Руки за голову. В машину.
Они сели в желтый газик на заднее сидение. Сержант сел за руль.
— Поехали? — спросил он лейтенанта.
— Подожди. Кто такие, что делали?
— Я печник, — быстро сказал Плющ.
Сержант осветил его фонариком.
— Где-то я твою рожу видел. Точно, скокарь. Поедем, лейтенант, оформим.
— Да подожди, я сказал, Сивчук.
— А ну дыхни, — повернулся он к Плющу, — надо же, не пахнет. Покажи вены.
— Женя, оформить надо, — не унимался Сивчук.
— Сержант, надо слушаться старшего по званию, — заметил Плющ.
— Я тебя щас урою, — взбеленился сержант.
Плющ вздохнул и медленно сказал:
— Вот я нынче врежусь глазиком об дверку, а завтра пойду к прокурору и скажу, что сержант Сивчук меня избил, да еще жидовской мордой называл…
— Грамотный, — скрипнул зубами Сивчук.
— Ваши документы, — сказал лейтенант Нелединскому.
— А этот точно бухой, — сказал Сивчук умоляюще.
Лейтенант рассматривал удостоверение члена Союза художников.
— Ого, Ташкент! — удивился он.
— Залетный, — радовался Сивчук, — гастролер.
— Так что вы все-таки делали? — любопытствовал лейтенант.
«Что бы такое придумать?..» — соображал Плющ.
— Ностальгия, — кратко сказал Кока.
— Что? — не понял лейтенант.
— Я жил здесь в детстве. Тогда мы под этим забором зарыли клад.
Сивчук, положив руки на баранку, тосковал, глядя в окошко. Лейтенант положил удостоверение себе в карман.
— Вот что, — сказал он, — Николай Георгиевич. Завтра придете в шестнадцатое отделение к десяти. Там и поговорим.
— А где это? — растерялся Кока.
— У Дюковского сада, я расскажу, — быстро сказал Плющ, — мы пошли?
— Выметайтесь, — разрешил лейтенант, — и чтоб — ни-ни!
Когда газик отъехал, Плющ схватился за живот и присел от смеха. Кока переждал и спросил:
— Зачем в отделение?
Плющ отдышался:
— В вытрезвитель не забрали — раз. Не отметелили — два. На пятнадцать суток отвезли бы сейчас — три. Придется тебе, Нелединский, как пить дать, рисовать портрет Дзержинского. Мусора это практикуют на халяву.
— И холст дадут?
Плющ опять рассмеялся.
— Догонят и еще дадут. У меня возьмешь. И краски.
Они пошли к Херсонскому скверу, чтоб там разъехаться на разных трамваях. Нелединский был задумчив, будто пытался что-то вспомнить.
— Плющик, — наконец сказал он, — а что лейтенант подразумевал под «ни-ни»?
6
Ле Корбюзье как-то заметил, что Париж строили ослы, в том смысле, что петляющие ослиные транспортные тропы со временем стали улицами. По аналогии можно сказать, что Одесса обретала свое лицо благодаря нетвердому шагу одессита, с ослиным упорством двигающегося от точки до точки, от одного винного подвала до другого. Эти винные подвалы, или винарки, и образовали Малый круг.
Большой круг возник чуть позже, но уже по другой логике. Он пролег по устоявшейся границе города, и винарки на нем располагались мерно, по шляхам, как бастионы. Большим кругом пользовались или уж совсем праздные и состоятельные одесситы, не жалеющие времени и денег на трамвай, или временно и охотно взявшие на себя роль гида и таскающие за собой вконец уставшего и все еще недоверчивого белокожего ленинградца. Экскурсия продолжалась до тех пор, пока ленинградец не менял недоверчивую улыбку на блаженную. Тогда гид снисходительно отвозил его домой, а сам нетерпеливо выходил в город, на Малый круг.
Малый круг существовал для внутреннего пользования.
Если плясать от вокзала, начинался он на упомянутой уже Пушкинской, 62. Затем, выйдя из подвала и выкурив сигарету («Мужчина, что вы курите в заведении, вы же умный человек!»), нужно пройти метров двести, до параллельной Ришельевской, к винарке колхоза им. Карла Либкнехта. Там, посетовав, что нет знаменитой «Лидии» с косточкой, а точнее, «Лидочки с бубочкой» — не сезон, следует выпить стакан «Шабского». Все еще в одиночестве вы утираете рот, но не курите еще, слишком рано, а медленно идете дальше по Ришельевской.
Надо сказать, что если в баре «Красном» собиралась «вся Одесса», то винарки посещала вся Одесса, уже без кавычек и исключений. Помимо действующих лиц и исполнителей, туда залетали разъяренные их жены, или жены безмолвные, тянувшие, поджав губы веревочкой, недоумевающих мужей за рукав. Некоторые оставались, в надежде увести их со временем домой, брали огонь на себя, и постепенно вникали в суть дела. Опытные мужья, весело поругиваясь, поддерживали их за талию. Забегали туда и дети, скромно, безучастно даже, подходили, предупреждали: «Батя, шухер, муторша бесится», — и получали за это соевую конфету, полагающуюся на закуску.
На углу Троицкой надолго останавливаться не следует, можно выпить сто граммов смеси, «Фетяски» и белого крепкого, послушав сетования продавщицы, что Сеня купил «вихер» и гонял его всю ночь в ванной. Вам отпускается несколько кварталов, до «Двух Карлов», чтобы догадаться, что купил Сеня «Вихрь», лодочный мотор, входящий в моду. В «Двух Карлах» к вам обратится ханыга, требующий двадцать копеек. Давать или не давать, это дело вашей совести, однако следует помнить, что он профессионал, и денег у него больше, чем у вас, сколько бы у вас ни было.
Вино здесь хуже, чем на Ришельевской, но ненамного. Кроме того, вы уже сделали значительный перерыв, и следует поддержать градус. Выпив двести граммов смеси и закусив половиной конфеты (вторая половина плотно оборачивается фантиком и кладется в нагрудный кармашек), вы поднимаетесь на улицу и садитесь на крашенные черной краской металлические перила.
Закурив, вы догадываетесь, что вчерашний ваш поступок, хоть и неблаговиден, но не бесповоротно, что он поправим, и исправить положение следует сейчас же. Вы замечаете также, что серый ствол старой акации похож на крокодила, и что это сравнение, впрочем, не вызывает в вас никаких эмоций. Забыв о ненужном крокодиле, вы задумываетесь, как это случилось, что все продавщицы Малого круга крашеные блондинки, Люси или Лиды, и только на Преображенской, на дальнем сегменте — Семен Маркович. Вы скучаете уже по Семену Марковичу и предвкушаете долгий путь к его винарке, полный разноцветных сюжетов и откровений. Тут к вам подходит знакомый, просит подождать и спускается в подвал. Едва вы успеваете докурить, он уже готов, уже рядом, и вместе вы направляетесь на Греческую площадь.
На этой площади когда-то давно был греческий базар, но никто из живущих ныне его уже не застал, зато посередине стоит, сколько вы себя помните, большой общественный туалет.
Слева и справа от туалета две альтернативные винарки: «Украинские вина» и «Российские вина». Разногласий между Россией и Украиной тогда не было, скорее всего, эти названия должны были означать дружбу народов, до, скажем, потери сознания. Альтернативность же была в том, что «Российские вина» открылись недавно, и вино там было приятное, неразбавленное, для привлечения публики. По этой причине там всегда много народа, и, чтобы не сбиться с ритма, вам следует зайти сначала в «Украинские вина». Кисло, ста граммами сухого, отметившись там, забежав в туалет, для того только, чтобы оправдать его существование, оказываетесь у «Российских вин».