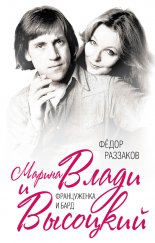Поздно. Темно. Далеко Гордон Гарри

Здесь к вам подъезжает Морозов. Не подъезжает, конечно, а подходит, но не один, а толкая перед собой детскую коляску, что и вызывает представление о некоем экипаже.
— Морозов, здоров! — сказал Могила, столяр худфондовских мастерских, старый человек, в коротких широких штанах. — Все разъезжаешь?
— Да уж, — улыбнулся Морозов, — Мороз-воевода дозором обходит владенья свои.
— Стакан поставь, — попросил Могила.
Могила был хороший человек. Когда работал, охотно делал художникам подрамники, брал дешево, копейку за сантиметр по большой стороне. Но и Морозов был непрост.
— Видишь, какая толпа!
— А ты с ребенком, без очереди, — подсказал Могила.
— Ай-ай-ай! — покачал головой Морозов. — Как не стыдно спекулировать на ребенке, — правда, Роночка? — обратился он в глубину коляски. — Видишь, молчание — знак согласия.
— Лида, — оглушительно закричал он продавщице, — передай, пожалуйста, стакан «Европейского». И запиши на меня.
Толпа в винарке уважительно, из рук в руки, вынесла на улицу стакан вина. Роночка, проснувшись, закричала. Двумя пальцами правой руки Морозов принял стакан, левой покачивая коляску. «Ш-ш-ш…ш-ш-ш», — убаюкивал он между глотками. Могила смотрел на него с обожанием и ненавистью. Допив, Морозов отпустил на секунду коляску, достал двадцать копеек и протянул Могиле.
— Давай стакан отнесу, — обрадовался Могила и врезался в толпу, — мне повторить, — грозно кричал он, — отвали, шакал.
Морозов медленно двигался вверх по Греческой улице мимо первого отделения милиции, где в кабинете начальника, над столом, висел портрет Дзержинского работы Славы Филина, мимо похоронного бюро с несколькими печальными женщинами у входа. Поглядев сначала налево, а потом направо, он перевез коляску через лязгающую и дребезжащую Преображенскую и оказался в Воронцовском садике, где стоял памятник Воронцову работы Мартоса.
В двадцатые годы рабочие и крестьяне с помощью краснофлотцев пытались сбросить скульптуру с постамента, но «полуподлец» стоял неожиданно крепко, видимо, пустил корни. Его оставили в покое.
Левее Воронцова, под каштанами толпились мужчины непонятного на вид содержания. Они были разных возрастов, разного общественного положения, разной солидности, как в бане. Одесса знала, что это болельщики «Черноморца» обсуждают дела команды, положение ее в таблице и мировом футболе.
Морозов постоял возле основной группы, за спинами, выждал момент и произнес:
— Ищак не забил пенальти — так его киевляне купили!
Когда удивленные, возмущенные, разгневанные лица повернулись на это наглое заявление, Морозов делал пальчиком перед волосатым носом апоплексического болельщика:
— Ай-ай-ай, зачем вы так говорите!
Тронул коляску и покатил по дорожке, не оглядываясь, в сторону Садовой, где над черной зеленью стояло предзакатное солнце. Морозов удалялся, охристые его волосы светились слабым ореолом, а длинная тень медлила, не догоняла его.
За печкой у бабушки Плющ нашел свои старые этюды. Он сел на пол и стал рассматривать. А ничего писал пацан — откуда что бралось. Вот, скажем, этот, на прессованном картоне, мотив простой, нет даже вовсе никакого мотива: дорожка на обрыве упирается в небо, а по бокам пыльная какая-то травка. Небо написано нахально, но кайфово — лессировочка чистой сиеной по голубому. Да и травка — сизая, серая, запутанная. Жалко, немножко выпирает охра тропинки. А вот еще, ты смотри, на Бугазе — белый песок, море синее, аж красное, как писал, кажется, Катаев, и действительно — английская красная по ультрамарину. Тоже на картоне, оно и понятно, холст отпугивал тогда, на холсте писали «настоящие художники», а серьезному Плющику играть в настоящего художника никогда не хотелось. Всему свое время.
А это что? Это ночная Дерибасовская. Магазин «Золотой ключик», осень, опадающие акации, тени от уличных фонарей. Наивно так, но интересно. Хрен сейчас так напишешь.
Были вместе с Карликом, зашел к нему в двенадцать ночи. Батя удивился, но не возражал. А, летчики какие-то подканали, из ресторана «Кавказ» вышли, из бывшего «Фанкони». Шампанским угощали за искусство, за Одессу… Сколько уже? — лет пятнадцать, шестнадцать?..
Плющ долго сидел на полу, вытянув ноги, как крестьянка на венециановском «Гумне». Затем кряхтя встал, собрал этюды, уже не рассматривая остальные. Упаковал их в газеты, взял под мышку, руки не хватало, — пачка поддерживалась кончиками пальцев, — и пошел в мастерскую.
Нелединский предлагал свою помощь, но Плющ отказался, — пусть, во-первых, гуляет, скоро уезжать, а во-вторых — сам разберусь. Тут, собственно, делать нечего, главное — последовательность.
На самом деле все было просто: чувство собственности много раз касалось Плюща хорошими и приятными предметами, — холстиками, тюбиками, кайфиками антиквариата. Но не было еще собственности, которая бы объяла его и, объяв, поглотила. Поэтому после холодной встречи отношения Плюща и подвала стали интимными, и любое вмешательство казалось кощунственным.
Ожидая приезда Галки с определенным волнением, Плющ тем не менее чувствовал себя предателем подвала, мастерской, новой жизни. Ничего себе, разве для этого он пробивал мастерскую! «Впрочем, Костик, — окорачивал он себя, — пусть такие вопросы одолевают Марика Ройтера или Коку Нелединского. Интеллигентские штучки оставим на потом».
Плющ нажал ногой на клавиш поломанной половой доски. Этот трамплин мы притянем, большой гвоздь есть, а сверху перекроем этюдами. Картон плотный, проминаться почти не будет. Сверху наклеить мешковину, проолифить, и можно красить. Будет люкс. Жаль только, резать придется. Ну и хрен с ним. В конце концов, его сегодняшние работы через двадцать лет тоже покажутся наивными и вызовут ностальгию. Так что мы ничего не теряем. Интересно, какие дырки придется латать через двадцать лет сегодняшними холстами.
Развеселившись, Плющ начал работать. Галка приезжает завтра в четыре с чем-то. Первое — дырка в полу, затем — покрасить. Краска эмалевая, до завтра высохнет два раза. Зеленая, падла, как травка, Галке должно понравиться. Ничего, подмешаем пару тюбиков сажи газовой, будет само то. В будуаре практически все готово. Обои Дюльфик дал клевые, ничего не скажешь. По светлому фону мелкие, мелкие, сдержанно розовые цветочки с серо-зелеными листиками. Ситчик получается, даже не ситчик, а батист. Хавает, зараза.
Одно непонятно: как встречать Галку. Надо же придумать обед, примус есть, и посуду кое-какую бабушка дала вместе с постелью. Сходить бы на Новый базар, выбрать крестьянскую курочку. Это рублей шесть. Всякие травки, редиски, помидоры, огурцы. Они же там, в Питере, только по радио все это слушают, даже с их бабками. И, естественно, — натюрморт. Цветов до хрена сейчас, и фруктов тоже. Для фруктов есть роскошное блюдо из фра-же, модерн, с литым каштаном на пятипалом листе, как на ладошке. И для цветов что-нибудь найдем. Короче, четвертак нужен, хоть стой, хоть падай. К тому же Галка наверняка навезет пару чемоданов какой-нибудь дряни, тряпок там, подарков, не в трамвае же ехать, такси — тоже рубля два. А с Галкой, так и все пять, рассмеялся Плющ, представив испугавшегося при виде Галки таксиста.
Пятясь, Плющ докрасил последний метр пола, в маленьком тамбуре обтер руки тряпкой с разбавителем и вышел.
Было не жарко, ветерок перепутывал кроны, в синих аллеях улиц вспыхивали и гасли белые и оранжевые пуговицы прохожих. На Софиевской он догнал Морозова с коляской.
— Ты знаешь, Костик, — сообщил Морозов, — Кока в Одессе.
— Да… знаю, — осторожно ответил Плющ.
— Странно, — задумчиво сказал Морозов, — ко мне не зашел.
— Зайдет еще, — обнадежил Плющ.
— Вряд ли, он в четверг уезжает. Последняя дурка, — оживился Морозов, — Шуревич завязал.
— Ну и что? — удивился Плющ, не увидев в этом никакой дурки.
— Слушай дальше, — продолжал Морозов, — проезжаю мимо окна и вижу: сидит Шуревич перед зеркалом, пьет из бутылки кефир, и после каждого глотка мацает свой бицепс. А?!
— Слушай, Морозов, — отсмеявшись, спросил Плющ, — ты не помнишь случайно адрес Розы, Карликовой сестры. С тех пор как они переехали, я был там только один раз.
Морозов закатил глаза:
— Значит так: Юго-Западный массив, улица Новоселов, угол Варненской.
— А, спасибо, я там найду. Теперь, с твоего разрешения, я тебя обгоню.
— Обгоняй, обгоняй, — усмехнулся Морозов.
7
«Что-то пошло не в ту степь», — маялся Эдик. Роман комкался, романом никак не становился, желаемой полифонией не пахло. Выпер острый сюжет, любопытный сам по себе, но все это сильно смахивало на приключенческую повесть. Все-таки без опыта не справиться, читай не читай, разбирайся сколько угодно, — материал гнется, ломается, звякают какие-то словечки, многозначительные пейзажи, точные сами по себе, изобличают дилетанта. Есть герои, характеры, опять же по-дилетантски, как живые, фотографические, или наоборот — лезет, зараза, какая-то символика, как в плохом кино. Слова, говорю, нет, а есть словечки.
Этот одесский жаргон, будь он проклят, вызывает смех там, где не надо. Бабелевщины, слава Богу, нет, но нет и Эдика. Нет самого главного, ради чего все и затевалось. Правда правдой, ни плохих ни хороших, но эта объективность и мешает, нет ощущения единственности, уникальности, смертельности, что ли, бытия. Пришел Измаил.
— Ну что, работаешь? — спросил он, закуривая.
— Работаю, — сердито ответил Эдик, — как бенгальский тигр, а толку…
— А ты думал…
— Я и сейчас думаю, — вызывающе ответил Эдик, — так редко заходишь, не мог на бутылку накопить?
— Ты же работаешь, — засмеялся Измаил. — Знаешь, чего я пришел? Сегодня же у Карлика день рождения.
— Правильно, — подумав, согласился Эдик, — двенадцатое июля. Как я забыл…
— Я и сам забыл, — успокоил Изя, — Розка позвонила.
— Тем более… Лена, — крикнул он в комнату, — где у нас вчерашний глинтвейн?
— Там где-то, в майонезной баночке, — недовольно откликнулась Лена.
— Да подожди, — усаживал Измаил, — часам к шести пойдем туда, к маме, они что-то готовят. Я ж специально за тобой зашел.
— Так еще больше часа, — беспокоился Эдик.
— Ну и что, поставь чайник и прочти что-нибудь.
— Нечего читать, — сказал Эдик.
— Ладно, старик, не жмись.
Эдик вздохнул, надел очки, и стал копошиться в бумаге.
— Все, — сказала Лионелла Архиповна, — идите в комнату, а я рассчитаюсь с этим, и в зале посмотрю, а то Зойка может выпустить меня в трубу.
— А где эта девочка, Маруся? — спросила Натка.
— Это разве девочка? Это жеребец, а не девочка!.. Ей только жрать! А к гостям выходить кто… Пушкин будет? Уволила я ее…
«Видали вы когда-нибудь такое паскудство? Нет, я не видела еще такого паскудства! Что придумал этот Антонеску! Этот лабух с навозом за ушами! Как вам это нравится? Мы теперь — Транснистрия! — Она швырнула газету на пол. — В гробу я его видела вместе с этой Транснистрией. Можно подумать, что Одесса для него какая-нибудь Бирзула или их вонючие Фокшаны…»
«… Генкин голос серебристо вытягивался и звенел, он пел о свободе, о лазурных морях, о поющих в тугих вантах южных пассатах, о белых коралловых рифах, о старых моряках, о мужской чести и гордой любви, возбуждая в Ильке горькую печаль по чему-то светлому и несбыточному и щемящую тоску по безвозвратно прошедшему. А песня трепетала, как бы надеясь вырваться на простор из прокуренной комнаты, билась о стекла окон, металась под потолком и, не найдя выхода, таяла в Илькиной груди теплой сиреневой болью…»
— Блеск, старик, — воскликнул Измаил, привстал и пожал Эдику руку. — А какая, нет, ты подожди, какая точность! Бабель! Паустовский! А характеры какие! Лена, а вам нравится?
Ко всем особам женского пола старше десяти-двенадцати лет Измаил обращался на «вы», невзирая на степень близости и родства. Даже к Ляле, в те минуты, когда она была им недовольна. Исключение составляли только мама и сестры.
Лена нехотя появилась в дверях.
— Конечно, нравится. Он, когда пишет, не ругается. Только курит еще больше.
— Нет, правда, здорово, — не унимался Измаил. — Знаешь, как мы сделаем? Я на днях получу за выступление, мы возьмем бутылку и пойдем к Голышеву. Он нормальный дядька, фронтовик, пишет очерки…
— И пьет водку, — продолжил Эдик.
— Ты не понимаешь, — рассердился Измаил, — он же парторг Союза. — Бодаенко тебе наобещает, сколько хочешь, а этот может сделать.
— Что он сделает? Убьет Коляду? Или отменит советскую власть?
Генерал в отставке Коляда был директором издательства. Однажды краем уха услышал он, что в очередной издаваемой книге есть стихи о Лорке.
— Кто така Лорка? — спросил Коляда рецензента.
— Испанский поэт, — оторопел профессор.
— А чи вин прогресивный?
— Его расстреляли фашисты.
— О це добре!
Измаил разволновался.
— Ты только напиши побольше, и пойдем.
— Напиши, напиши… Уже сто двадцать страниц, тебе хватит?
— Отлично, старик, на днях и пойдем. Ну а вы, Лена, пишете? А ну прочтите что-нибудь…
— Ой, дядя Изя, — закручинилась Лена, — это такое гамно…
— Ленка, не ломайся, — прикрикнул Эдик, — давай последнее, про мясо.
— Может на стул стать? — ломалась Лена.
— Что ты будешь делать! — сокрушался Измаил. — Читайте, я вам говорю, а не то хуже будет…
— Как, еще хуже? Ну ладно. — Она вздохнула.
— Громче, — крикнул Эдик, едва Лена начала.
- «Ни пустоты, ни слов
- В себе не нахожу я.
- До следующих дней
- Душой не добрести,
- И все-таки туда
- Веду себя, чужую,
- Где не смогу себя
- По-прежнему вести»
— Ну, так хорошо, — похвалил Измаил, — вам надо больше писать.
— Читайте Пушкина, Маяковского, — ехидно подхватил Эдик.
Измаил устало махнул рукой: «Ну тебя к черту».
Плющ ехал двадцать девятым трамваем по Люстдорфской дороге.
Сергеевы — люди, что называется, приличные, семья все-таки, кое-какие бабки наверняка есть.
Неловко, конечно, но не потому, что чужие, напротив, очень даже свои — сколько в юности провел с ними времени, неловко оттого, что если ты свой, то где же ты, падла, пропадал столько времени, и появился, когда пришла нужда. Ну, ничего, не так страшен черт… самое трудное — первый момент, удивление и вопросительные взгляды. Тут главное не частить и вести себя естественно и спокойно.
Ольга Михайловна, наверное, совсем старенькая, и сердце, помнится, у нее всегда болело. Вовчик, Владимир Сергеевич, «рыжий», как называет его Эдик, кажется, начальник какой-то пусконаладочный, все ездит куда-то в Дрогобыч, в командировку. Роза, классная тетка, сильно только строгая, где-то там, в исполкоме работает.
Трамвай проезжал вдоль длинной каменной стены Второго кладбища. У входа сидели старухи с маргаритками и ромашками, переругивались, тускло провожали глазами трамваи. Тени от кладбищенской кленовой листвы, нависавшей над оградой, пробегали по их лицам, как мысли или воспоминания.
Тут, на этом кладбище, их батя лежит лет уже, наверное, десять. Неделю он умирал от инсульта на Ольгиевской, лежал в коме, сердце только работало. Дочки дежурили круглосуточно, Карлик вылетал в окно с кислородной подушкой в аптеку. Ольга Михайловна сидела неподвижно.
Плющ, и Морозов, и Кока приходили, уводили Карлика через дорогу, у садика пили из горлышка вино — снимали напряжение; неподалеку, метрах в двадцати, тем же занимались Изя, и Эдик, и Мишка. Компании эти словно не замечали друг друга.
Курили в парадной, когда вышел из квартиры Вовчик, Владимир Сергеевич, и показал руками крест…
Плющ вышел на первой станции Люстдорфа. Район малознакомый, одесские Черемушки, однако платаны растут быстро, и улицы уже напоминают городские.
— О, Костик, привет, — сказал Владимир Сергеевич, — проходи.
— Как хорошо, — поднялась Роза, — молодец, помнишь…
Плющ растерянно смотрел на праздничный, почти накрытый стол.
— О, извините, у вас торжество, я потом как-нибудь, — заторопился Плющ.
— Как же так, Карлику же сегодня тридцать три!
— Конечно, конечно, — бормотал Плющ, — только я без подарка, да и меня ждут. — Плющ выдохнул. — Если честно, совсем забыл, — засмеялся он, — поздравляю вас. А где же Ольга Михайловна?
— Она в той комнате, пойдем, — Владимир Сергеевич приотворил дверь. — Ольга Михайловна, к вам гость…
Ольга Михайловна оторвалась от книги и всмотрелась:
— А, Костик, вот умница!
В больших очках она была похожа на черепаху из популярного мультфильма.
— Садись.
— Спасибо, Ольга Михайловна, — стоял Плющ. — Как ваше здоровье?
— Врачи говорят, что нормально, — засмеялась Ольга Михайловна, — а я думаю — не совсем. Так, ничего…
— Как у Карлика дела?
Ольга Михайловна вздохнула:
— Все хорошо, как же еще? Ну, а ты как, пишешь?
— А что еще делать, — как бы извиняясь, засмеялся Плющ.
— Молодец, — Ольга Михайловна помедлила и посмотрела в книгу.
Плющ, пятясь, вышел.
— Помочь чем-нибудь? — спросил он Розу.
— Та! — сказала Роза, — мужчины могут только мешать. — Сергеев, вот куда ты девал салфетки?
Вбежал Игорь с авоськой хлеба.
— Это Плющик? — полувопросительно сказал он.
— Какой он тебе Плющик, вот нахал, — возмутилась Роза. — Он — Костик, или даже дядя Костик.
— Плющик, Плющик, кто же еще, — Плющ обнял Игоря за плечи, — «Костик» — неинтересно, «Плющик» — интереснее. Ну, ты здоровый стал. Наверное, стихи уже пишешь?
— Какие стихи, Костя, он же безграмотный, — веселился Сергеев.
Игорь подошел к отцу, двумя пальцами сильно сжал ему запястье, заглянул в глаза:
— А-а-й?
— Игорек, совсем забыла, — сказала Роза, — сбегай, купи еще минералки.
— Рубчик, — быстро сказал Игорь.
— Опять нахал! Давай беги, у тебя еще осталось с хлеба?
— Хватит, — хлопнул Игорь по карману. Он вбежал к бабушке и поцеловал ее.
— Иди, иди, лизунчик, — оторвалась от книги Ольга Михайловна.
У двери Игорь остановился, сжал зубы и, сильно артикулируя, спросил с еврейским акцентом:
— Бабушка, ты жидовка-а-а?
— Да, да, — махала рукой бабушка, — иди уже.
— Где же это кодло? — Роза посмотрела на часы.
— Уже без двадцати. Не люблю, когда опаздывают.
— Розочка, как же опаздывают?
— Все равно. Полковник всегда приходит раньше.
Полковник пришел через минуту. Вот уже почти год, как он вышел в отставку и вернулся в Одессу. Ему предлагали в Москве квартиру и работу, что-то по части политпросвета, но он отказался, — тянуло в Одессу, хотелось заново родиться в пятьдесят лет.
С сорок третьего года на фронте, он, после нескольких лет в Германии, всю воинскую жизнь свою провел в Сибири, в Забайкалье, наезжая в Одессу только в отпуск. С фронта он привез боевую подругу Асю, все было как в советской сказке, или песне: он — лейтенант, она — регулировщица.
Ася на фотографиях тех лет была хорошенькая, с ямочками на щеках и в горжетке из чернобурки. На горжетке были лисьи лапки, и поэтому маленький Карлик был убежден, что Ася — мужественная женщина, стальной солдат, (был такой китайский фильм), или Зоя Космодемьянская. Ее пытали, но она не выдавала, на все вопросы отвечала «нет», и только улыбалась, пугая немцев ямочками на щеках.
Полковник потащил Плюща в опустевшую кухню.
— Поговорить надо, — бросил он Асе через плечо. — Костик, закури, — сказал он, — и дай мне потянуть.
Он жадно затянулся Костиковой «Примой».
— Возьми же целую, — сказал Плющ.
Он не любил, когда у него отнимали сигарету, хоть на затяжку. Это было насилие. И, вообще, что значит! Если ты выдумываешь себе проблемы, то при чем тут я?
— Нельзя, ты что, — округлил глаза полковник, — убьет!
Полковник охотно взял на себя роль подкаблучника, уступая жене в мелочах. Так было удобнее.
«Этот бабки видит только в день получки», — неожиданно подумал Костик и рассмеялся.
— А как с питьем?
— Ты же знаешь, какой я питок. Три рюмки. Печень! — важно сказал полковник и потрогал селезенку.
Пришли Измаил с Эдиком.
— Валя на работе? — спросила Роза. — А где Лена?
— Лена придет попозже. Она гладит.
— Понятно. Изя, ты без Ляли?
— Ляля не придет, — покачал головой Измаил, — Котя заболел.
«Как удобно, — подумала Роза, — три пацана, всегда кто-нибудь болеет…»
— Все, — сказала Роза, — Вовчик, позови маму, садимся. Майку ждать не будем, они придут в восемь.
— А Мишка? — спросил полковник.
— Ну его к черту, — рассердилась Роза. — Я ему звонить не буду. Тебе надо, ты и звони.
Полковник пожал плечами.
— Давайте уже выпьем, — скомандовал Эдик, когда все уселись, — я сегодня ничего не ел.
— Вот и поешь сначала, — посоветовал Сергеев.
— Умник. На голое тело выпить приятнее, — погладил Эдик себя по животу.
— Мальчишки, — очнулась Ася, — ручки все помыли? Костик, а ты?
— Помыл, тетя Ася, — растерялся Плющ.
— Вот кретинка, — сказал Эдик Игорю. — Давай уже, говори что-нибудь, — обратился он к Измаилу.
— Ну что, — неохотно сказал Измаил, — тридцать три — возраст Христа. Так дай ему Бог там, в Москве. Молодец, что уехал. Алиготе!
— И это все? — возмутилась Роза.
— Кошмар, тридцать три, — покачала головой Ольга Михайловна, — а как он болел в эвакуации, в Баба-юрте.
— В Курган-Тюбе, — уточнил Эдик.
— В Баба-юрте, в Баба-юрте, я точно помню, — сказала Роза, — у него тогда еще из-под подушки крысы лепешку утащили.
— Он не мог даже плакать, — продолжала мама, — пищал, как котенок…
— Дистрофик, — подтвердил Эдик и, не дождавшись, выпил.
Застолье постепенно разгоралось. Эдик время от времени выкрикивал: «Неважные именины!», и требовал налить. «А, — вспомнил Плющ. — Это батино выражение». Все праздники, будь то дни рождения или Первое мая, он называл именинами и классифицировал их как «приятные» или «неважные», в зависимости от настроения. Говорили все одновременно и обо всем сразу.
— Одного не прощу Карлику, — сказал Владимир Сергеевич, что он пятнадцатилетнего Игоря угощал вином.
— Как будто тот не квасил уже в тринадцать лет, — сказал Эдик.
Роза сделала предостерегающий жест. «Жаль, Мишки нет, — думал Плющ, — этот бы сейчас барабанил по столу и говорил: есть такая песня, и нес бы какую-нибудь веселую ахинею».
Слабый человек, Мишка пьяный гонял жену, а трезвый — боялся. Родственников избегал, как неприятных разговоров, обещал приходить только на похороны.
Пришла Мая с Юрием Андреевичем, молчаливым человеком с недовольным лицом. Казалось, возгласы, смех, питие и разговоры считал он делом неуместным, кощунственным даже. Непьющий Плющ при нем чувствовал себя легкомысленным алкоголиком.
Пил, однако, Юрий Андреевич большими рюмками, отворачиваясь, чтоб не чокаться. Он был парторгом станкостроительного завода. Только Роза не комплексовала при нем и называла его ласково коммунякой.
После четырех рюмок Юрий Андреевич неожиданно заговорил, ни к кому не обращаясь:
— Карлик, слышь, очень несерьезный, у меня, как говорится, работал художником… Опаздывал все время… Слышь, стыдно. Опять же эта поэзия… Не надо было…
— Юра, положить тебе горячее? — спросила Мая.
Юрий Андреевич кивнул и замкнулся.
Эдик зорко следил, чтобы рюмки его и Игоря были полными, и на вопрос Май, не хватит ли ему, отвечал, что он не дефективный, и если его будут пасти, напьется зафантаж. Ольга Михайловна тихо ушла к себе.
Измаил читал стихи. «Что за манера, — думала Роза, — читать в застолье. Тебе приспичило, так собери народ специально и читай на здоровье. Обязательно надо праздник испортить».
Измаил читал сердито, бодаясь и размахивая в такт сжатым кулаком, как будто матерясь.
- «Под сенью мглы и молний,
- И трепета ракит,
- Гремящий и безмолвный,
- Наш полк идет и спит.
- Железную усталость,
- Свинцовый этот сон,
- К тому ж снарядов малость
- Мы на себе несем…»
— Знаешь, как говорят китайцы, — ласково перебил полковник, — китайцы говорят: — «торопица надо нету».
Он оглянулся, проверяя реакцию. Все вздохнули — про китайцев они слышали много раз на протяжении двадцати лет. Измаил сверкнул глазами и начал заново:
- … Вот и я, с годами сладив,
- Постучу в окошко вдруг.
- Отведет соученица
- Занавесочку рукой:
- — Что за парень смуглолицый
- И расстрелянный такой?
- Ах, убит напропалую,
- И осколок угодил,
- В «не забуду мать родную»,
- В ту неправду на груди.
- Разговор в оконной раме
- Над геранью до зари.
- Я скажу: «Но только маме
- Ничего не говори…»
Плющ потихоньку выбрался из-за стола. Стихи — это надолго, и вообще, темнеет уже, пора делать ноги. Из прихожей он поманил пальцем Владимира Сергеевича.
— Извини, Володя, пора восвояси. Я, собственно… Мне срочно нужен четвертак, ненадолго.
— Срочно — это как? Завтра можно?
— Можно и завтра, — согласился Плющ.
— Понимаешь, Костик, сейчас нет, мы на днях Таньку отправили в студенческий лагерь, и праздник вот… Постой, я спрошу у Ольги Михайловны…
— Ни в коем случае, — испугался Плющ, — я лучше перебьюсь.