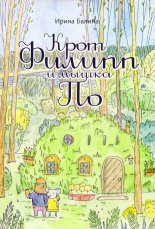Лермонтов. Исследования и находки Андроников Ираклий
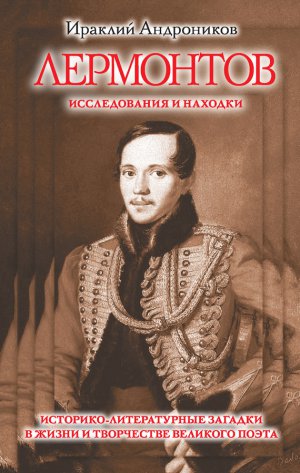
Белинский первый заметил, что произведения Лермонтова ознаменованы «печатью какой-то особенности», что они «не походили ни на что являвшееся до Пушкина и после Пушкина». Именно поэтому еще при жизни Лермонтова Белинский заявлял, что «Пушкин умер не без наследника». А вскоре после гибели Лермонтова поставил обоих поэтов рядом как величайшие явления русской культуры.
«Давно ли г. Баратынский вместе с г. Языковым, — писал Белинский в 1842 году, — составлял блестящий триумвират, главою которого был Пушкин? А между тем как уже давно одинокою стоит колоссальная тень Пушкина, и мимо своих современников и сподвижников подает руку поэту нового поколения, которого талант застал и оценил Пушкин еще при жизни своей!..»[803]
По ущельям Терека и Арагвы
Из картин и рисунков, на которых Лермонтов изобразил виды Кавказа, мы «опознали» только «Тамань» — по описанию Цейдлера, а своими глазами — вид Тифлиса со стороны бани «Гогило» да Метехский замок, рисованный со стороны Майдана. Надо определить, что представляют собой остальные: «Кавказский вид с саклей», «Кавказский вид с арбой», «Кавказский вид с верблюдами», «Горное ущелье на Кавказе» — картина, что хранится в Доме-музее села Лермонтово Пензенской области, «Дарьял», «Вид Крестовой горы из ущелья близ Коби», «Развалины на берегу Арагвы».
Проще всего оказалось установить, что представляет собой «Кавказский вид с саклей». Картина эта поступила в Лермонтовский музей при Николаевском кавалерийском училище в Петербурге от наследников Краевского вместе с другой картиной — «Вид на Эльбрус». «Семья покойного А. А. Краевского, — говорилось в препроводительном письме, — просит принять два пейзажа из кавказской природы, нарисованные М. Ю. Лермонтовым. Принадлежность этих картин кисти знаменитого поэта не подлежит сомнению». При этом упоминалось имя Д. В. Григоровича, который мог бы свидетельствовать, что они точно писаны Лермонтовым[804].
С другой стороны, со слов П. А. Висковатова известно, что Краевскому принадлежала картина, изображавшая «место действия „Мцыри“ на берегу Арагвы», и что картина эта «была снята Лермонтовым с натуры»[805].
Сопоставив эти данные, не так уж трудно было предположить, что Висковатов видел у Краевского ту самую картину, которая поступила потом в Лермонтовский музей и была внесена в каталог под неопределенным наименованием «Кавказский вид с саклей».
На картине этой изображены развалины старинной сторожевой башни — «кошьки», какие можно видеть в Грузии повсеместно. К башне лепится домик с плоской кровлей. За рекой, на горе видны характерные контуры грузинской церкви. Всякий, кто бывал в тех местах, всмотревшись, узнает в этом изображении Джвари — старинный храм, возвышающийся над Мцхетом, над самым слиянием Куры и Арагвы. Постройки самого Мцхета скрыты от нас на картине башней и близлежащей горой. Правее башни виднеются дальние очертания того самого мцхетского собора Свэтицховели, в котором находятся гробницы последних грузинских царей и где на могиле Георгия XII Лермонтов читал надпись, пересказанную им в первой строфе «Мцыри»: «Как, удручен своим венцом, такой-то царь, в такой-то год вручал России свой народ».
Места, где сливаются Кура и Арагва, на полотне Лермонтова не видно за высоким краем берега.
Задний план картины составляет долина Арагвы. Изображенные на переднем плане мужчина и женщина, едущая верхом на ослике, движутся в сторону Тифлиса по Военно-Грузинской дороге. Совершенно ясно, что Лермонтов писал эту картину, путешествуя по Грузии в 1837 году.
Исследователь грузинской литературы В. В. Гольцев, с которым мы вместе рассматривали однажды репродукцию с этой картины, при случае обещал показать на месте остатки изображенной Лермонтовым башни. Таким образом, еще в Москве мы определили, что Лермонтов писал это полотно с возвышенности возле селения Мухатгверди, недалеко от нынешней ЗАГЭС. А когда через некоторое время вместе проезжали по Военно-Грузинской дороге, то убедились в правильности этих предположений.
Так удалось установить, что одна из лучших живописных работ Лермонтова связана с замыслом «Мцыри». Нечаянно (а может быть, и сознательно?) Лермонтов выбрал ту самую башню, возле которой за несколько лет перед тем был убит вождь крестьянских восстаний — легендарный Арсен.
Остальные работы можно было «узнать» только на месте. А для этого надо было повторить кавказский маршрут Лермонтова, следуя на машине по тем дорогам, по которым он путешествовал в свое время «то на перекладной, то верхом».
С этой целью летом и осенью 1952 года я побывал в Ставрополе, в Пятигорске, Кисловодске, Железноводске; через Георгиевск, Прохладный, станицу Екатериноградскую и Моздок выехал на Терек; через терские станицы — Червленую, Щедринскую, Шелковскую, Гребенскую, Старогладковскую, — связанные с именами Грибоедова, Ермолова, Лермонтова, Льва Толстого, проследовал в Кизляр. Поехал обратно — повернул на Грозный, оттуда — на речку Валерик, где в 1840 году происходило сражение, описанное Лермонтовым в его удивительном стихотворении; побывал в Орджоникидзе, несколько раз пересек территории Северной Осетии и Кабардино-Балкарии, по ВоенноГрузинской дороге приехал в Тбилиси, из Тбилиси проследовал в Кахетию, осмотрев Караагач, переправился на пароме через Алазань на территорию Азербайджана и двинулся через Закаталы, Кахи к югу — по направлению к Нухе и Шемахе.
Вот тогда-то в Караагаче — об этом уже говорилось — и был опознан «Вид с верблюдами», оказавшийся развалинами Никорацихе близ прежней квартиры Нижегородского драгунского полка.
Еще раньше, в Дарьяльском ущелье, мне удалось уточнить, что на одном из рисунков, хранящихся в Пушкинском доме, изображен «Замок Тамары», описанный Лермонтовым в балладе «Тамара». Оказывается, поэт рисовал его, сидя на одной из угловых башен стоящего рядом Дарьяльского укрепления. Только оттуда — сверху — он мог увидеть «в одном кадре» и замок, и воду Терека. С дороги в этом месте воды не видно. А если подойти к берегу — башня окажется над головой.
Рисунок Лермонтова не вполне совпадает с тем, что мы видим сейчас. В 1870-х годах какой-то пьяный артиллерист из проходившей мимо части ударил по башне прямой наводкой и разрушил ее почти до самого основания.
Итак, оказывается, этот рисунок тоже может служить иллюстрацией к лермонтовскому тексту, в данном случае — к балладе «Тамара».
Стоишь, смотришь на окрестные скалы, на Терек и удивляешься, как точно сказано:
- … роется Терек во мгле…
Именно «роется»!
Смотришь — и радуешься этой точности слова:
- В глубокой теснине Дарьяла,
- Где роется Терек во мгле,
- Старинная башня стояла,
- Чернея на черной скале…
Как передана ночь в этих строчках! Хотя про ночь и не сказано.
Но если развалины «Замка Тамары» обнаружить было не сложно, то «Развалины на берегу Арагвы» найти оказалось гораздо труднее, несмотря на то что на этом рисунке, в нижнем левом углу имеется помета Лермонтова: «Развалины на берегу Арагвы в Грузии». Следовательно, искать эти развалины надо будет в долине Арагвы.
Мы видим на рисунке ущелье, скалистую, поросшую лесом вершину, старинную крепость — зубчатая стена, круглая башня с бойницами, другая — четырехугольная; грузинская — с острым куполом — церковь. На противоположном берегу — поселок и снова башня. Река с двух сторон бурно обтекает утес. За поворотом ущелья поднимаются вершины снегового хребта…
По характеру своему рисунок отдаленно напоминает Ананури. Но ландшафт там совсем не такой. Странно: сколько раз ни приходилось проезжать по Военно-Грузинской дороге ущельем Арагвы, а такое место не встретилось. Между тем дорога идет вдоль Арагвы около ста километров — от Мцхета до селения Млета; там она покидает долину и уходит вверх, к Крестовому перевалу. Кому ни показываешь этот рисунок — не узнают. А ведь Белая Арагва — не одна. Есть и Черная, вытекающая из ущелья Гудамакари. Есть Пшавская Арагва. Есть Арагва в Тушетии. Может быть, Лермонтов побывал там?
Снова выехал из Тбилиси на Военно-Грузинскую дорогу. В Ананури со всех сторон осмотрел старинную крепость — не то! Приезжаю в Пасанаури — как раз полпути между Тбилиси и Орджоникидзе. День был воскресный и утро. Иду на базар. Тем, кто вышел на базар продавать кур, моцони, грецкие орехи, чеснок, показываю фотографию с лермонтовского рисунка: жители арагвинского ущелья должны знать! К продающим присоединяются покупающие. Все говорят: «Похоже на Ананури». Это я и сам понимаю.
Приезжаю в Квешети — селение у подножья Кайшаурской горы. Раньше, когда здесь останавливались Грибоедов, Пушкин и Лермонтов, в Квешети были почтовая станция и резиденция «начальника горских народов». Здесь рождались пушкинские строки:
- На холмах Грузии лежит ночная мгла;
- Шумит Арагва предо мною…
Здесь стоял тот духан, возле которого офицер, передавший нам историю Бэлы, нанял шесть быков и нескольких осетин, чтобы втащить тележку на Кайшаурскую гору. На Кайшаурском подъеме и произошло его зпакомство с Максимом Максимычем. Отсюда начиналась самая трудная часть дороги, шедшей в ту пору прямо, без всяких зигзагов, к Крестовому перевалу, через каждые три километра подымая путешественника на высоту километра: такой крутой был подъем!
Но в 60-х годах дорогу продлили по ущелью Арагвы до селения Млета, а оттуда, взорвав могучие скалы, проложили зигзагообразный подъем, вьющийся, подобно серпантину, по склонам Гуд-горы до самой Крестовой. С тех пор старая дорога заброшена. По ней ходят только те мтиульцы, которые живут на Кайшаурском плато. Потеряв былое значение, станция Квешети еще в прошлом веке превратилась просто в селение Квешети.
На том месте, где в лермонтовские времена стоял духан, теперь находится просторный сельмаг. По случаю воскресного дня народу возле него было больше обычного; под окном стояла «Победа», и несколько оседланных лошадей дремали, привязанные к изгороди.
Выйдя из той машины, на которой приехал, я обратился к собравшимся с просьбой определить, что изображает лермонтовский рисунок.
Фотография пошла по рукам.
— Ананури, наверно, — сказали один.
— Не знаем, — сказали другие, — в наших местах такой крепости нет.
Перечислили друг другу окрестные башни — нет, не похожи.
Тогда молодая мтиулка — имя ее должно отныне войти в лермонтовскую литературу — Русудан Закаидзе, колхозница из селения Закаткари, попросила передать фотографию ей.
— Послушайте, что скажу, — обратилась она ко мне. — Возьмите хорошую лошадь и отправляйтесь к верховьям Арагвы. Там в осетинском ущелье Гуда найдете, что ищете.
Другие ей возразили:
— Куда ты хочешь послать его — там нет ни церкви, ни крепости. Давно все упало, одни камни лежат…
— Хорошо помню, еще в школе учила, — ответила Русудан Закаидзе, — что Лермонтов, когда почтил Пушкина стихотворением, к нам прибыл и погостил у нас. И это было сто лет назад с лишком. Может быть, когда он ездил к истокам реки, церковь и крепость стояли, а за это время упали и потому одни камни лежат.
— Камнями угостить его хочет, — зашумели ее оппоненты. — Не за этим приехал. А если камнями интересуется, зачем ему далеко ехать? Старая башня и там вон упала — в ущелье, и там — на горе. Туда пусть пойдет…
Я готов был последовать совету Русудан Закаидзе, но выяснилось, что нанимать лошадей и ехать в тот день в верховья Арагвы поздно.
Тогда я решил пройти пешком по старой дороге — подняться на Кайшаурскую гору и выйти на нынешнюю трассу через горные селения Закани и Кайшаури. Машина должна была ожидать меня возле селения Сетури. Я срезал бы по прямой километров десять. А от Сетури можно следовать машиной дальше — за перевал.
Только тут — перейдя через Арагву по бревнышку и поднявшись по этой старой, заброшенной дороге на Кайшаурское плато — смог я по-настоящему оценить необыкновенную точность лермонтовских описаний: «Со всех сторон горы неприступные, красноватые скалы, обвешанные зеленым плющом и увенчанные купами чинар, желтые обрывы, исчерченные промоинами, а там высоко-высоко золотая бахрома снегов, а внизу Арагва, обнявшись с другой безыменной речкой, шумно вырывающейся из черного, полного мглою ущелья, тянется серебряною нитью и сверкает, как змея своею чешуею».
В селении Кайшаури показывают каменный дом, где, по преданию, останавливался Лермонтов, пил чай из чугунного чайника и в беседе со спутником коротал ночь. Может быть — и даже наверное, — это идет от романа. А впрочем, могло так и быть. Ведь в «Бэле» не происходит никаких удивительных событий: только самые обыкновенные, какие случались тогда на Кавказе. Достоверность психологических характеристик подтверждается в «Герое нашего времени» такой поразительной точностью описаний кавказской природы, обычаев, нравов, всей обстановки, что всякий раз поражаешься каждой новой детали. Мы знаем, например, что Максим Максимыч «с казенными вещами» следует в Ставрополь. На вопрос спутника, давно ли он служит, старый штабс-капитан отвечает, что служил здесь «еще при Алексее Петровиче».
«— А теперь вы?..
— Считаюсь в третьем линейном батальоне…»
Штаб третьего линейного батальона в 30-х годах действительно находился в Ставрополе, роты — в Кисловодске и Железноводске. Для тогдашнего читателя-кавказца созданный воображением Лермонтова штабс-капитан Максим Максимыч был почти что знакомый.
С такой же конкретностью описан у Лермонтова каждый поворот Военно-Грузинской дороги. Пятигорск, Кисловодск, Тамань, казачья станица… Высокая поэтичность соединяется в «Герое нашего времени» с точностью очерка.
Приезжаю в Казбеги и — прежде всего — к директору Казбегского краеведческого музея Алибегашвили Степану Ивановичу. Показываю ему фотографию «Развалины на берегу Арагвы». Он подробно расспрашивает.
— Я думаю, — говорит он, — что это в ущелье Гуда, развалины над Хатис-сопели, выше Ганиси. Что? Девушка из Закаткари думает так же? Вполне с ней согласен. Рассмотрел и другое фото: ущелье с арбой.
— Это будет на дороге в Орджоникидзе, за селением Чми. Завтра можно поехать и посмотреть. Вано Вардидзе, шофер, с которым я еду, называет другое место, в восьми-девяти километрах от Казбека, в ущелье Дарьяла.
— Сомнительно, но посмотреть можно будет, — говорит директор музея. — Пойдем по Дарьялу правым берегом Терека по старой Военно-Грузинской дороге, как ездили Пушкин и Лермонтов. Кстати, посмотрите: ведь они с противоположного берега видели все эти места.
Скажем правду — тот вид был не хуже, а лучше!
Мы теперь проезжаем Дарьяльское ущелье дорогой, вьющейся словно по карнизу скалистой стены. Внизу, в глубокой пропасти, как водопад, шумит Терек. Мы видим пейзаж мощный, суровый и удивительный. Но зато мы не видим той самой стены, по карнизу которой ползут наши машины, если смотреть на них снизу, с самого русла Терека — с правого берега. Эта совершенно вертикальная скалистая стена, уходящая в небо, производит впечатление даже на тех, кто хорошо знает Кавказ и видел реки более бурные, чем Терек, и ущелья более узкие, нежели Дарьяльское. И поэтому, путешествуя по Дарьялу, надо помнить, что Пушкин и Лермонтов видели его не отсюда, а снизу — с противоположного берега.
В связи с этим вспоминается одно место из записок декабриста Розена, на которые я уже ссылался не раз. «Досадно, — писал Розен, вспоминая путешествие свое через ущелье Дарьяла, — что не умею описать картину этого единственного в своем роде пути… Напрасно останавливаю перо, чтобы придумать верное изображение; это не удалось вольному путешественнику поэту Пушкину, ни Грибоедову, ни невольным странникам А. А. Бестужеву (Марлинскому), ни Одоевскому. Всего лучше отрывками нарисован Кавказ поэтом Лермонтовым, который волею и неволею несколько раз скитался по различным направлениям чудной страны и чудесной природы»[806].
- И Терек, прыгая, как львица
- С косматой гривой на хребте,
- Ревел, — и горный зверь и птица,
- Кружась в лазурной высоте,
- Глаголу вод его внимали;
- И золотые облака
- Из южных стран, издалека
- Его на север провожали;
- И скалы тесною толпой,
- Таинственной дремоты полны,
- Над ним склонялись головой,
- Следя мелькающие волны…
В Дарьяльском ущелье вида с арбой не оказалось. Он обнаружился там, где и предполагал директор музея, ближе к Орджоникидзе, между селениями Балта и Чми. Лермонтов нарисовал Военно-Грузинскую дорогу и Терек, стоя спиной к югу на середине каменистого ложа реки. В ту пору течение отклонялось в этом месте к правому берегу.
Хотя Алибегашвили привез нас на то самое место, все же пришлось повозиться немало и перелезать через Терек по бревнам, прежде чем отыскалось место, где устроился Лермонтов, чтобы нарисовать этот вид.
На рисунке мы видим арбу, запряженную парой волов, и одну из маленьких осетинских мельниц, которые Пушкин упоминает в «Путешествии в Арзрум». Но главное в этом пейзаже у Лермонтова — могучая белокаменная скала, нависшая над самой дорогой: она первая встречает путешественников у ворот Большого Кавказа.
Нашелся и еще один вид, рисованный Лермонтовым. Это автолитография, которую он отпечатал, вернувшись из ссылки в Петербург. До нас дошли четыре одинаковых оттиска: два из них раскрашены цветными карандашами. Лермонтов дарил их знакомым. Виды Кавказа в ту пору не продавались, художники из России дальше Пятигорска обычно не ездили. Изображение Военно-Грузинской дороги считалось в то время редкостью: это был настоящий подарок!
На одном из оттисков, подаренном тому самому М. И. Цейдлеру, о котором уже шла речь в этой книге, имеется собственноручная надпись Лермонтова: «Вид Крестовой горы из ущелья близ Коби». Однако, несмотря на подпись, обнаружить это место было не так-то легко. Дело в том, что, переводя на литографский камень изображение, Лермонтов не перевернул его. Поэтому перевернутым получилось изображение на оттиске. А кроме того, гора, которую Лермонтов назвал Крестовой, на самом деле называется Кабарджина; она примыкает к Крестовой с севера. Лермонтов изобразил селение Сиони, между Казбеги и Коби. Рассматривая это изображение, надо помнить, что в действительности гора Кабарджина, обрывистый утес, на котором высятся храм Сиони и старинная башня, находятся слева, а Терек справа.
Тот же самый вид Лермонтов воспроизвел на картине, хранящейся в Доме-музее села Лермонтово Пензенской области. Но, в отличие от литографии, на картине нет храма: одна только башня на высоком утесе. Это стоит отметить.
До нас дошло десять грузинских картин и рисунков Лермонтова. И на каждом из них — караульная башня или старинная крепость. Просто поражаешься, как верно почувствовал он характерную особенность грузинского пейзажа, от которого неотъемлемы эти безмолвные свидетели былых сражений грузинского народа против иноземных захватчиков, напоминающие о тех временах, когда ночью загорался в ущелье костер на сторожевой башне, потом вдали на другой, на третьей, и огненной эстафетой шла по стране весть о новой грозной беде — о новом вторжении.
Оставив на фоне сурового горного пейзажа одну только сионскую башню — картина написана с другой точки, — Лермонтов романтизировал его, показал еще более суровым, представил таким же, как в «Демоне».
- И башни замков на скалах
- Смотрели грозно сквозь туманы —
- У врат Кавказа на часах
- Сторожевые великаны!
- И дик и чуден был вокруг
- Весь божий мир…[807]
Снова выясняется, что карандашом и кистью поэт стремился передать те же впечатления, которые вдохновили его на создание «Демона», «Мцыри», «Героя нашего времени», что описания природы в поэмах и в прозе помогал Лермонтову создавать его глаз художника.
Вглядываясь в его путевые зарисовки, мы читаем по ним дневник его путешествия и снова убеждаемся в том, как верно постигал он характер новой для него страны, как чувствовал ее историческое прошлое. Становится понятным и то, что живописные работы Лермонтова были для него серьезным делом, а не дилетантским занятием.
Изучая лермонтовские картины, можно сделать и еще один важный вывод. Четыре из них сделаны в Казбегском районе. У Висковатова находилась еще одна картина — «Вид Крестовой горы», писанная масляными красками. Это тоже Казбегский район. А ведь пять картин и пять рисунков — это только малая часть той коллекции, о которой Лермонтов сообщал Святославу Раевскому. Значит, Лермонтов не просто проехал через Дарьял и мимо Казбека, а прожил там, по крайней мере, несколько дней, бродил по окрестностям и, следовательно, имел полную возможность познакомиться с фольклором Казбегского района — услышать предания о заоблачном монастыре на Казбеке, и о пещерах Бетлеми, и о могилах среди вечных снегов, и легенды о «коварной Тамаре»…
Итак, сюжеты почти всех живописных работ Лермонтова, тех, что дошли до нас, нам удалось наконец определить. Только «Развалины на берегу Арагвы» по-прежнему остаются необнаруженными. Надо ехать в верховья Арагвы, хотя, по правде сказать, и не вполне понятно, как Лермонтов мог оказаться там и зачем туда ездил? Правда, Висковатов предполагал, что Лермонтов побывал там. Но ведь известно также, что к утверждениям Висковатова надо относиться с большой осторожностью.
Когда мы приехали в селение Кумлисцихе, расположенное на склоне Гуд-горы, в правлении овцеводческого колхоза шло заседание — обсуждался план эвакуации отар на зимние кизлярские пастбища.
Надо ждать. Но шоферу Вано Вардидзе не терпится. Он подходит с картинкой Лермонтова к членам правления.
— Как погнать баранов на зимние пастбища, это потом решите. Каждый год посылаете… А вот тут есть неотложный научный вопрос: ваши это места или не ваши? Написано: «Арагви». Ездим-ездим — нет желающих. Свои места должны знать? Хорошо посмотрите! Члены правления колхоза начинают разглядывать фотографию, обмениваются суждениями:
— Если ищете крепость и церковь, как здесь нарисовано, нет у нас. Если место хотите видеть такое, Нико Кайшаури с вами пойдет, который ночью кооператив сторожит в Гудаури. И все покажет. Это выше колхоза Ганиси, в ущелье Гуды.
— Спасибо!
Поехали мы с Нико Кайшаури в машине к Крестовому перевалу. Остановились там, где дорога входит в тоннели, построенные на случай снежных завалов. Как раз тут и лежит груда обломков гранита, неизвестно когда и откуда упавших. Тех самых, что, по преданию, накидал здесь разгневанный Гуда.
Остановив машину, стали спускаться по тропе на дно двухверстной пропасти. Как серебряный ручеек, вьется Арагва на дне ее, и безлюдными кажутся крохотные макеты селений. В одном из них, как гласит легенда о любви Гуды, жила в древние времена красавица, которую полюбил дух. Ни звука вокруг. Только послышится иногда автомобильный сигнал — посмотришь наверх: машина, отвесив поклон перед поворотом, ускользает из глаз. Но вот сверху уже не доносятся звуки. А снизу еще не доносятся. Под ногами — крутая тропа, справа — скалистая стена, слева — пусто. Пространства с этой стороны так много, словно идешь в воздухе по крылу самолета. Как сказано у Пушкина в стихотворении «Кавказ»:
- И пастырь
- нисходит
- к веселым
- долинам,
- Где мчится
- Арагва
- в тенистых
- брегах…
Один из современных наших писателей процитировал недавно эти строки, расположив «лесенкой». И тогда стало еще яснее, как удивительно передал Пушкин в стихе это движение вниз… Кстати, Пушкин, вероятно, вспоминал те же места, что и Лермонтов; такую панораму можно увидеть только с Крестовой.
Сперва мы шли, потом мчались. Упираясь, отдуваясь, откинувшись всем телом назад, работая локтями, в надежде сдержать этот стремительный ход, жалея, что нет в теле тормоза, мы сбежали наконец на каменистое ложе пенистой, шумной Арагвы, к осетинским селениям, обведенным оградами из плоских камней.
Красиво в этом ущелье необычайно. Но разверстые глотки мечущихся возле тебя мохнатых чудовищ, их лай, надсадный до хрипа, до храпа, до клокотания внутри, их мелкие, как у хищных рыб, зубы и оттого еще более страшные кривые клыки, обрезанные уши, черные свирепые морды не составляют моих лучших воспоминаний.
Впереди, у самой Арагвы, против селения Урмис-сопели, на том берегу — гора. Нет, не гора! Огромная глыба словно скатилась откуда-то к самой воде, легла здесь и поросла густой рощей. Осенняя расцветка листвы — розовая, ржавая, рыжая, желтая, золотая, багряная — так богата тонами, что кажется, гору покрыли пестрым, цветистым ковром. И это особенно удивительно потому, что ущелье безлесно.
Форма горы отчасти напоминает колпак, каким покрывают домашний чайник, — скаты крутые, а гребень длинный и узкий. На гребне — развалины крепости. Полезли наверх по обратному скату горы; он крут, но порос зеленой травой и опутан овечьими тропами: они тянутся одна над другой, как узенькие террасы, в несколько сантиметров ширины.
Забрались. Наверху — осыпь камней, остатки крепостной стены, башен, церкви, ступени разрушенной лестницы. Стоит часовня без крыши, сложенная без раствора из плоского шифера и кое-где хранящая следы обмазки.
День ясный. На солнце греются змеи и с шорохом ускользают при нашем появлении в расселины.
Внизу, под горой, уступами расположилось селение Хатиссопели (Дзуар-кау по-осетински) — несколько домиков с плоскими кровлями.
Но вот мы спустились и снова выходим к руслу Арагвы, отошли от горы на расстояние примерно полукилометра вниз по течению, сравнили вид на гору с лермонтовским рисунком… она! Вот гора, покрытая рощей, вот повороты ущелья. Селение на другом берегу (Урмис-сопели), те же контуры дальних вершин. И развалины. У Лермонтова на рисунке крепость только еще начала разрушаться. А теперь уже осыпалось все почти до самого основания. Но, очевидно, церковь и тогда пустовала.
Теперь уже нет сомнений — Лермонтов был здесь! Не то заехал сюда от Квешети, сделав крюку верст пятнадцать, не то спустился от самой Крестовой, оттуда, где лежат камни Гуды, по той же тропинке, что мы.
Но как бы то ни было — ясно одно: он побывал в верховьях Арагвы, бродил по этим местам и не только нарисовал эти развалины: силой творческого воображения он населил их людьми, превратил в своей поэме в «замок Гудала», куда прилетает Демон, куда спешит нетерпеливый жених. А потом в эпилоге описал то, что изобразил на рисунке:
- На склоне каменной горы
- Над Койшаурскою долиной
- Еще стоят до сей поры
- Зубцы развалины старинной.
- Рассказов, страшных для детей,
- О них еще преданья полны…
- Как призрак, памятник безмолвный,
- Свидетель тех волшебных дней,
- Между деревьями чернеет.
- Внизу рассыпался аул,
- Земля цветет и зеленеет;
- И голосов нестройный гул
- Теряется, и караваны
- Идут, звеня, издалека,
- И, низвергаясь сквозь туманы,
- Блестит и пенится река[808].
В этом описании есть все, что мы видим и сейчас в ущелье Гуды: и «аул» — Хатис-сопели, и роща на склоне горы, которую, по преданию, нельзя вырубать, а то дети в семье будут болеть оспой, и старинные развалины, и «плиты старого крыльца»:
- Но грустен замок, отслуживший
- Когда-то очередь свою,
- Как бедный старец, переживший
- Друзей и милую семью.
- И только ждут луны восхода
- Его незримые жильцы:
- Тогда им праздник и свобода!
- Жужжат, бегут во все концы.
- Седой паук, отшельник новый,
- Прядет сетей своих основы;
- Зеленых ящериц семья
- На кровле весело играет;
- И осторожная змея
- Из темной щели выползает
- На плиту старого крыльца.
- То вдруг совьется в три кольца,
- То ляжет длинной полосою
- И блещет, как булатный меч,
- Забытый в поле давних сеч,
- Ненужный падшему герою!..
- Все дико: нет нигде следов
- Минувших лет: рука веков
- Прилежно, долго их сметала,
- И не напомнит ничего
- О славном имени Гудала,
- О милой дочери его![809]
Во всем этом описании имеется только одна неточность: «Кайшаурская» пишется через «а», но не через «о», как послышалось Лермонтову. Эта непроизвольная ошибка повторена и в «Герое нашего времени». И только!
Что касается имени властителя замка Гудала — его происхождение тоже не вызывает сомнений и служит подтверждением тому, что Лермонтов связал действие поэмы именно с этим ущельем — с ущельем Гуды, под Гуд-горой, над которым властвует легендарный дух Гуда, полюбивший красавицу, жившую в этих местах:
- Высокий дом, широкий двор
- Седой Гудал себе построил…
- Трудов и слез он много стоил
- Рабам послушным с давних пор.
- С утра на скат соседних гор
- От стен его ложатся тени.
- В скале нарублены ступени;
- Они от башни угловой
- Ведут к реке, по ним мелькая,
- Покрыта белою чадрой,
- Княжна Тамара молодая
- К Арагве ходит за водой[810].
Выше Хатис-сопели, при слиянии Арагвы с другой, безымянной речкой, образуется выступающая мысом вперед гора, поросшая зеленой травой. На гребне ее видны другие развалины. Жители расположенного у подножия селения Эрето говорят, будто бы тут был монастырь, «в который попал гром». Осетин Василий Самашвили из Хатис-сопели называет эти развалины «амаглеба», то есть монастырем «вознесения».
Очевидно, это и есть та обитель, о которой говорил Висковатов, утверждавший, что на берегу Арагвы был монастырь, разрушенный громовой стрелой.
Сейчас это тоже развалины. На уцелевшей части стены висит небольшой колокол, на упавших обломках — почерневшие от времени «дроша» — «хоругви», ритуальные куски кисеи, ибо место почиталось священным.
В четырех километрах от Хатис-сопели, на левом берегу Арагвы, против селения Квемо Ганиси, в отвесной скале видна какая-то щель. Оказывается, это пещера, в которой, согласно легенде, томится богатырь Амирани. Понятным становится, почему в «Демоне» путник, до слуха которого доносятся рыдания безутешной Тамары, думает:
- «…То горный дух
- Прикованный в пещере стонет!»
- И, чуткий напрягая слух,
- Коня измученного гонит…[811]
Все эти места находятся необычайно близко одно от другого.
Любопытно, на каком основании Висковатов считал, что Лермонтов побывал в верховьях Арагвы? Ведь лермонтовского рисунка, изображающего развалины, он в то время не знал, рисунок известен нам с 1923 года. Остается предположить, что Висковатову рассказывал об этом кто-то из тифлисских старожилов, когда в 1881 году он ездил на V археологический съезд. До сих пор это существовало в лермонтовской литературе как ничем не подтвержденное предположение. Теперь это можно считать установленным.
Карабкаться обратно по той тропинке, по которой мы спускались, показалось мне и шоферу делом немыслимым. Мы решили идти вдоль Арагвы до Военно-Грузинской дороги, остановить там попутный транспорт и на нем добраться до машины, которую мы оставили у перевала.
Вышли к селению Млета. Высоко над Арагвой, на самом краю обрыва, в том самом месте, где в лермонтовские времена проходила дорога от Квешети к станции Кайшаури, виднеется часовня.
— Что за часовня?
Абрам Бурдули из селения Млета, случайный попутчик, старик, говорит, что существует предание, будто бы молитва в этой часовне помогала спасаться от врагов. Наш проводник слышал, что она «спасала от нападения разбойников». «Кто, бывало, войдет и помолится — в бою победит…» В свете этого предания понятным становится, какую роковую ошибку совершил жених Тамары, не помолившись возле часовни, где
- …с давних лет почиет в боге
- Какой-то князь, теперь святой,
- Убитый мстительной рукой.
- С тех пор на праздник иль на битву,
- Куда бы путник ни спешил,
- Всегда усердную молитву
- Он у часовни приносил;
- И та молитва сберегала
- От мусульманского кинжала.
- Но презрел молодой жених
- Обычай прадедов своих…[812]
Что же это, однако, за развалины над Хатис-сопели? Как называлась крепость, в каком веке построена?
На нынешних картах такой крепости нет — это понятно. Но и в старых путеводителях нет. Нет на картах XIX века. Только на рукописных картах 30-х годов XVIII столетия, составленных ученым-историком и географом Грузии Вахушти Багратиони, над нынешним селением Хатис-сопели, возле поселения Гуды, значится: «Монастырь всех святых»[813]. Вахушти отнес этот монастырь-крепость к разряду «калаки мцире» — небольших населенных укреплений.
Теперь, когда стало известно название, монастырь нетрудно отыскать в географических описаниях. И действительно, в «Географии» того же Вахушти, в том месте, где рассказывается об ущелье Арагвы, читаем: «Выше (то есть у истоков Арагвы. — И. А.) есть „Монастырь всех святых“, ныне уже упраздненный»[814].
Итак, в первой половине XVIII столетия он уже пустовал. Значит, у Лермонтова зарисованы средневековая крепость и храм в том самом виде, в каком они находились в первой половине XIX столетия! Все оказалось так, как предполагали Русудан Закаидзе и директор Казбегского краеведческого музея.
И рисунок Лермонтова неожиданно приобрел значение архитектурного документа: поэт изобразил старинный памятник грузинского зодчества, более не существующий. И в скором времени мы увидим лермонтовский рисунок в издании по истории грузинского искусства. Потом, очевидно, в исторических работах о Мтиулетии, в путеводителях по долине Арагвы…
Но главное все же не в этом. Главное в том, что рисунок помогает понять творческую историю «Демона». Он рассказывает о работе поэта. Рисунки и картины Лермонтова могут, как выясняется, служить иллюстрациями к тексту его поэм и стихотворений. Но, кроме того, они играли в его работе роль «записных книжек», помогали ему закрепить то, что необходимо было ему в дальнейшем для воплощения поэтических замыслов.
Понятным становится теперь и другое: откуда Лермонтов знал легенды, предания и песни, распространенные именно в верховьях Арагвы, откуда знал про любовь Гуды, про Амирани, про часового, мимо которой нельзя проехать, не помолившись, про смерть жениха в день свадьбы, о чем сложено так много песен в этом районе. То, о чем можно было только догадываться, сопоставляя стихи и прозу Лермонтова с произведениями грузинского фольклора, становится гораздо более убедительным, чем это казалось еще совсем недавно. Вспомним письмо к Святославу Раевскому: «Как перевалился через хребет в Грузию, — писал Лермонтов, — так бросил тележку и стал ездить верхом; лазил на снеговую гору (Крестовая) на самый верх, что не совсем легко…» Выясняется, что он не только «лазил наверх», но и спускался вниз — к истокам Арагвы. Вряд ли верхом: спуск от Крестовой так крут, что даже и Лермонтов, отменный кавалерист, предпочел, наверное, менее утомительный способ…
Многое переменилось с тех пор на Военно-Грузинской дороге. Рядом со старинными башнями возникли новые укрепления. Неприступный дот сооружен в подножье скалы, на которой высится «Замок Тамары». Видна амбразура дота в «Ермоловском камне» — огромном валуне, лежащем посреди Терека. В отвесах дарьяльских скал черные квадратные окна — пулеметные гнезда. Это 1942 год — память о великой войне.
Ночью в Дарьяле электрические огни висят в черноте, как золотая гирлянда иллюминации, зацепленная за черный гребень гор. Машина выхватывает из мрака бледные скалы, и темнота исчезает за следующим поворотом, как за углом. Свет фар перекидывается через туманную пропасть, скользит по телеграфным проводам и вдруг, метнувшись обратно, устремляется вдогонку за темнотой. Царство Демона оглашает автомобильный сигнал.
Переночевали в Казбеги. В дорогу! Мелькнули домики поселка, возникшего близ разработок андезита… А в мыслях опять перевал, Гуд-гора за Крестовой, долина Арагвы, «Герой нашего времени» и поэт, навсегда запечатлевший все это!
Пакет из Стокгольма
1
В 1921 году в Стокгольме на русском языке под редакцией профессора Е. А. Ляцкого вышел роман М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»[815]. В то время в России только что окончилась гражданская война и блокада, дипломатических отношений со странами Запада, а тем более книгообмена не было. Издание это в советские книгохранилища не попало. И прошло около сорока лет, прежде чем мы узнали о том, что такое издание существует. Мне сообщил о нем литературовед А. В. Храбровицкий — он просматривал в Ленинской библиотеке библиографию русских авторов, изданных в послереволюционные годы за рубежом.
Более того: оказалось, что в свое время на это издание была рецензия, напечатанная в журнале «Slavia» за 1922–1923 год. «Украшением книги, — писал автор рецензии А. Бем, — служит воспроизведение неизданного рисунка Лермонтова из альбома Е. П. Вердеревского (ныне принадлежит Е. С. Грузовой), еще раз подтверждающего художественные способности Лермонтова»[816].
Ни о каком рисунке Лермонтова из альбома Е. П. Вердеревского, ни о самом Е. П. Вердеревском, ни о Е. С. Грузовой никто из лермонтоведов не слышал.
Я обратился к директору Русско-Шведского института в Стокгольме доктору философии профессору Нильсу Окё Нильссону и в Королевскую библиотеку с просьбой выслать мне фотографию той страницы, на которой воспроизведен лермонтовский рисунок. Фотографии получены, и мы можем рассмотреть репродукции[817].
Никаких сомнений в том, что это Лермонтов, нет. Об этом свидетельствует не только подпись, но и манера исполнения и самый пейзаж — вид Пятигорска с Академической галереи и — в правом углу — тот грот, который получил впоследствии название «Лермонтовского». Поэт любил сидеть в нем и прославил его в «Герое нашего времени».
«Сегодня я встал поздно, — записал Печорин в своем дневнике, — прихожу к колодцу — никого уже нет. Становилось жарко; белые мохнатые тучки быстро бежали от снеговых гор, обещая грозу; голова Машука дымилась, как загашенный факел… Я углубился в виноградную аллею, ведущую в грот… Смотрю: в прохладной тени его свода, на каменной скамье сидит женщина, в соломенной шляпке, окутанная черной шалью, опустив голову на грудь; шляпка закрывала ее лицо. Я хотел уже вернуться, чтоб не нарушать ее мечтаний, когда она на меня взглянула.
— Вера! — вскрикнул я невольно…»
Описание этой встречи, во время которой разразилась гроза, принадлежит к числу лучших страниц русской литературы. Теперь мы имеем возможность посмотреть на рисунок Лермонтова, представляющий собою как бы заставку к этому эпизоду в романе.
Как попал рисунок в альбом Е. П. Вердеревского? И кто такой Е. П. Вердеревский? Когда принадлежал ему этот альбом — в XIX веке или в XX? Кто такая Е. С. Грузова? Где она в настоящее время? На все эти вопросы готовых ответов у нас не имеется.
Поэтому попробуем для начала разобраться, кто носил фамилию Вердеревский.
В 1853 году в Тифлис из Перми прибыл чиновник, без особого успеха испробовавший свои силы в поэзии, — Евграф Алексеевич Вердеревский[818]. Причисленный к канцелярии кавказского наместника, он вскоре был назначен редактором газеты «Кавказ» и за короткое время службы в Тифлисе выпустил альманах «Зурна» и нашумевшую книгу «Плен у Шамиля» о похищении лезгинами из имения Цинандали в Кахетии княгинь Чавчавадзе и Орбелиани с детьми[819]. После отъезда его из Грузии вышла книга его записок «От Зауралья до Закавказья», в которой упоминается, что в Пятигорске о поединке Лермонтова с Мартыновым существует в памяти старожилов «три или четыре совершенно различных повествования»[820]. Из этого можно сделать вывод, что самого Лермонтова Вердеревскому в жизни встретить не довелось, иначе он, заговорив о нем, не преминул бы упомянуть о знакомстве. А кроме того, до 1841 года пути их не сходятся.
Общих знакомых с Лермонтовым — особенно в Грузии — у Вердеревского было достаточно. И весьма возможно, что он выпросил у кого-то рисунок Лермонтова, чтобы украсить им свой альбом. Никаких оснований считать, что рисунок был нарисован в альбом, а не вклеен в него, у нас не имеется. Рисунок же сделан как раз в 1837 году, и легко допустить, что в том же году Лермонтов подарил его кому-то на память. К изобразительному искусству Вердеревский имел хотя бы то отношение, что, женившись на дочери жившего в Грузии художника, будущего академика живописи Машкова, унаследовал от него альбом, в котором было более сорока акварелей — изображений видов и типов Кавказа[821].
Может, правда, возникнуть недоумение: мы говорим о Е. А. Вердеревском, в то время как стокгольмский рисунок взят из альбома Е. П. Вердеревского.
Это не опечатка и не обмолвка. До Вердеревского Е. П. мы еще не дошли.
У Евграфа Алексеевича Вердеревского был брат, по имени Петр, получивший свой первый офицерский чин именно на Кавказе и дослужившийся до чина штабс-капитана[822].
Был на Кавказе еще один — Владимир Николаевич Вердеревский, с 1840 года служивший в том самом Нижегородском драгунском полку, в котором за три года до этого Лермонтов отбывал свою первую ссылку. Этот Вердеревский умер в Рязани уже в нашем столетии — в 1907 году — в возрасте восьмидесяти двух лет[823]. Был, наконец, Вердеревский Василий, печатавший посредственные стихи в альманахах 30-х годов — «Альциона» и «Северные цветы»[824].
Это — Вердеревские, современники Лермонтова. А тот Вердеревский, от которого унаследовала альбом Е. С. Грузова, жил не в XIX веке, а в нашем, и вовсе не на Кавказе, а в Петербурге.
С кем из упомянутых Вердеревских он состоял в родстве — покуда еще не установлено. Я для того и сообщаю здесь все имена, что надеюсь: кто-то подаст мне совет и поможет выяснить путь, по которому из рук в руки переходил альбом и с ним — лермонтовский рисунок. Так, Е. П. Вердеревского обнаружил, прочитав мою заметку в «Неделе»[825], известный в среде ленинградских коллекционеров инженер В. А. Меньшиков. От него я узнал, что Вердеревского, который до Октябрьской революции жил в Петрограде, звали Евгений Платонович. В справочной книге «Весь Петербург на 1914 год» значится, что это — коллежский советник, что служит он в конторе государственного банка в отделе вкладов на хранение. В той же книге находим крупного чиновника министерства финансов, в экспедиции заготовления бумаг — Николая Григорьевича Грузова[826]. Очевидно, работая в одной — финансовой — области, коллежский советник Е. П. Вердеревский поддерживал знакомство со статским советником Н. Г. Грузовым. И тогда это в какой-то степени может нам объяснить, почему в 1921 году альбом Е. П. Вердеревского оказался в руках неизвестной нам Е. С. Грузовой, которая предоставила стокгольмскому издательству «Северные огни» право воспроизвести неизвестный лермонтовский рисунок.
Жила еще в Петербурге Аттеса Робертовна Грузова. Но у нее адрес другой[827]. Может быть, ее имя и отчество говорят о шведском происхождении и финансист Грузов здесь ни при чем? Во всяком случае, по справке, наведенной в Стокгольме, никто из носящих фамилию Грузов и Вердеревский в настоящее время в шведской столице не проживает.
Но это не значит, что альбома уже не найти. Во многих странах мира находятся альбомы и письма, рукописи и документы, рисунки, картины, — а не один альбом Е. С. Грузовой! — которые по сути своей представляют достояние нашей культуры. Надо искать их и добиваться их постепенного возвращения на родину. В частности, альбом Вердеревского — Грузовой не только обогатил бы нас оригиналом неизвестного рисунка Лермонтова, но, наверное, помог бы установить новые факты его творческой биографии.
2
Впрочем, один — и немаловажный — факт, благодаря стокгольмской фотографии, можно считать уже установленным.
Дело в том, что рисунок из альбома Е. П. Вердеревского почти полностью совпадает с картиной Лермонтова «Вид Пятигорска», написанной масляными красками в 1837 году. Это покамест единственный случай, когда одни и тот же «сюжет» изображен Лермонтовым и на рисунке и на холсте. А это дает нам возможность представить себе впервые процесс работы Лермонтова-живописца.
Как уже сказано, в письме, отправленном в Россию из Грузии в 1837 году, Лермонтов говорит, что «снял на скорую руку виды всех примечательных мест, которые посещал», и везет с собой «порядочную коллекцию».
Некоторые из этих рисунков уцелели: «Тамань», «Вид Бештау около Железноводска», «Дарьяльское ущелье возле станции Балта», «Дарьяльское ущелье» и «Замок Тамары», «Развалины на берегу Арагвы», «Тифлис. Замок Метехи»… Нет сомнения, что Лермонтов потом, на досуге «отделывал» и поправлял их. Так, например, в рисунке «Развалины на берегу Арагвы» пейзаж, снятый с верхней точки, Лермонтов, прорисовывая, кое в чем изменил: в рисунке — два «горизонта». И точной позиции, с которой Лермонтов изобразил эти развалины, обнаружить не удается. Дальние планы рисованы с одного места, ближние изображены «прямолично» и соответствуют тому, что мы видим со дна ущелья.
Но когда написаны такие полотна, как «Вид Пятигорска», «Эльбрус», «Башня в Спони близ Казбека», «Военно-Грузинская дорога близ Мцхета», «Тифлис», «Развалины близ селения Караагач в Кахетии», «Перестрелка в горах Кавказа»? Возил ли Лермонтов с собой холст и краски или ограничивался тем, что снимал кроки местности, а масляные работы писал не с натуры, а по этим наброскам? Этот вопрос никто специально не выяснял. Тем не менее и П. А. Висковатов и Н. П. Пахомов уверенно утверждают, что на Кавказе Лермонтов писал маслом с натуры: «часами проводил за альбомом или даже с кистью в руках», — писал П. А. Висковатов[828]. «Выполнил целую серию карандашных и масляных зарисовок тех мест, в которых он жил или по которым „вояжировал“», — читаем у Н. П. Пахомова[829]. То же самое утверждал я[830]. Н. П. Пахомов, например, разделяет полотна Лермонтова на те, которые он писал с натуры, и сделанные на память. В частности, картину «Вид Пятигорска» он считает несомненно написанной на натуре.
Между тем искусствовед Э. Н. Ацаркина в разговоре со мною высказала как-то предположение, что Лермонтов вообще не писал на натуре маслом, особенно в путешествиях, а, как и многие его современники-живописцы, пользовался предварительными зарисовками, записывая тут же для памяти обозначения красок.
То, что обнаружился рисунок, полностью совпадающий с композицией живописного полотна, решает этот вопрос окончательно. Хотя указаний Лермонтова, какие употребить краски на этом рисунке, на лицевой его стороне не находим, Э. Н. Ацаркина совершенно права, и не остается сомнения, что рисунок — это тот карандашный эскиз, по которому впоследствии Лермонтов написал картину. Потому что панорама Пятигорска в обоих случаях изображена с одной точки.
Справа вверх по склону Машука, поросшему кудрявым кустарником (возможно, что это лозы дикого винограда), к гроту в скале ведет петлистая тропинка, огибающая на переднем плане обломок скалы. Слева — кусты, почти совершенно скрывающие небольшой домик. Между правой и левой «кулисами» — терраса, с которой открывается вид на раскинувшийся внизу городок, на строения, взбегающие по склону подковообразного отрога горы. Еще дальше — долина Подкумка, петли реки, вершины Юцы и Джуцы, а за ними — он отчетливо виден на полотне — белый двуглавый Эльбрус. Никаких отличий на картине и на рисунке мы не находим, если не считать некоторых отклонений в изображении растительности. Дерево на рисунке закрывает часть горного склона. На полотне Лермонтов сделал его вдвое ниже. А еще вернее — внес это изменение потому, что зрительным центром рисунка оказался не Пятигорск в глубине, а дерево. И Лермонтов в интересах композиционной стройности его «погасил».
Вглядываясь попеременно то в рисунок, то в полотно, можно обнаружить только, как говорят, «микроскопические» отличия. Я имею в виду пейзаж. Но тем не менее различие есть. И довольно существенное. Потому что рисунок — безлюден. А на полотне по тропинке спиною к зрителю, с тросточкой, в синем сюртуке и в цилиндре, поднимается к гроту кто-то из «водяного общества». А в центре картины едет на иноходце (Лермонтов сумел изобразить поступь лошади!) черкес в мохнатой папахе.
Допустить, что Лермонтов дважды «снимал» одно и то же место с натуры, нельзя. Таким образом, обнаруженный в стокгольмском издании рисунок представляет собой «снятый на скорую руку» вид одного из тех мест, которые Лермонтов «посещал», и принадлежит к той коллекции, которую Лермонтов вез из ссылки домой. Но, главное, он раскрывает процесс работы поэта над своими полотнами. И позволяет считать, что и во всех остальных случаях, изображая пейзаж на основании своих предварительных зарисовок, «действие» — то есть пешеходов и всадников, караваны верблюдов, волов, запряженных в арбу, — Лермонтов вписывал потом, уже во время работы над полотном.
Но самое важное даже не в этом. Мы снова — и в который раз — убеждаемся, что живописные пейзажи Лермонтова и снятые им с натуры рисунки связаны с его литературными замыслами и, не являясь прямыми иллюстрациями к текстам, соседствуют со страницами его поэм, стихотворений и «Героя нашего времени» — в данном случае с теми эпизодами «Княжны Мери», действие которых происходит на Академической галерее и в гроте. И это, пожалуй, самое важное из того, что дает нам неизвестный лермонтовский рисунок, оказавшийся в начале 20-х годов в Швеции, в издательстве «Северные огни».
Дар медсестры Немковой
1
Нашелся еще один старинный альбом — маленький, в картонном переплете, с изъеденным кожаным корешком. В нем две стихотворные строки, вписанные рукой Лермонтова…
Исследуя путь этих строк, мы вспомним имя вдохновительницы лермонтовских стихов, и брата ее — любимого друга Лермонтова, и московского студента, с которым Лермонтов пострадал за участие в университетской истории, и отца студента — московского сенатора и кавалера. Тут мелькнут имена фрейлин и кавалерственных дам, убитого народовольцами шефа жандармов, генерал-майора царской свиты, нижегородских мастеровых, кашинских монахинь, столичных поэтов и публицистов и, наконец, скромной медицинской сестры из города Серпухова.
От нее и пришел к нам этот альбомчик при обстоятельствах, которые еще несколько лет назад, может быть, показались бы необычными, а сейчас кажутся достойными уважения, но удивления не вызывают.
Поведу речь сначала.
25 сентября 1960 года в Москву, в редакцию «Последних известий по радио» приехала немолодая женщина и, обратившись к сотруднику редакции Юрию Гальперину, пояснила, что хочет передать в один из музеев страны альбом с автографом Лермонтова.
Гальперин позвонил мне. Я приехал.
Зовут эту женщину Анной Сергеевной Немковой. Долгие годы она работала медицинской сестрой, потом вышла на пенсию.
Она привезла альбомчик, хранившийся в ее семье едва ли не целый век. На одном из листков почерком Лермонтова торопливо вписаны две стихотворные строки из его «Думы». Внизу подпись — «Лерм» и характерный для него росчерк. И часто встречающаяся в его тетрадях концовка, отчасти напоминающая прописную, наскоро писанную букву «Д». Чернила выцвели и порыжели. Странички альбома раздерганы и покрыты желтыми пятнами.
В альбоме 21 листок. Девять — чистых. На остальных — записи, сделанные разными почерками. Среди этих записей несколько стихотворений Лермонтова: «Молитва» («Я, матерь божия, ныне с молитвою…»), вписанная кем-то из носителей фамилии князей Шахонских, юношеская эпиграмма Лермонтова «Избави бог от летних мушек», подписанная «Incognito», и четыре строки из Байрона «В альбом» («Как одинокая гробница…»), внесенная в альбом Николаем Губаревым в июле 1855 года.
Итак, на четырех из двенадцати заполненных листков воспроизведены тексты Лермонтова. Это невольно обращает внимание, потому что стихотворений других известных поэтов в альбоме нет: только безыменно-комплиментарные посвящения да французское четверостишие, подписанное, судя по инициалу, другим представителем семьи Шахонских.
Все эти записи не представляют никакого интереса и не отличаются от обычных посвящений в домашних альбомах молодых девиц середины XIX столетия.
Перечисляя записи, мы обошли только первую страницу альбома, на которой каллиграфически выведено:
- Напрасно, Варенька, ты просишь
- Меня в альбоме написать.
- Если любишь — в сердце носишь,
- А книгу можно потерять.
Софья Лопухина
Лермонтов… Варенька… Лопухина…
Вы уже готовы решить, что альбом принадлежал Варваре Александровне Лопухиной, которую Лермонтов любил до последнего часа. И строки из «Думы» вписал в альбом для нее…
Не будем торопиться, однако, и послушаем Анну Сергеевну Немкову.
2
«Моя бабушка, Александра Дмитриевна Миклютина, — рассказывает Анна Сергеевна, — пережила драму: муж заболел в Нижнем Новгороде холерой и умер, оставив ее двадцати двух лет с двумя дочерьми — Прасковьей и Александрой. Своего дома не было — жила у деверя. Не имея своих детей, он жалел ребятишек и мою бабушку, но жену его раздражало это, она подсылала к бабушке женихов. Жить в кабале стало невыносимо. Она обратилась за помощью к княжнам Оболенским, Варваре и Софье — бабушка познакомилась с ними в Рыбинске.
У Оболенских было семейное горе: жених старшей посватался к младшей. И обе они надели на себя черные рясы и ушли в Кашинский монастырь. Сперва старшая, потом — младшая.
Эти сестры Оболенские приняли участие в бабушкиной судьбе, уговорили ее пойти в монастырь, а детей отдать в монастырскую школу. Игуменьей в монастыре была Мезенцева.
Монастырская жизнь не нравилась бабушке, но она все терпела ради детей. При монастыре была школа для неграмотных монахинь. Там же обучались моя тетка и мама. Оболенские преподавали музыку, рисование и иностранные языки.
Когда тете исполнилось восемнадцать лет, а маме семнадцать, бабушка вышла из монастыря. Нашлись добрые люди — сосватали: мама вышла за С. Е. Немкова в Дмитров, а тетя Саша — в Рыбинск за Крашенинникова.
Старшая Оболенская была другом бабушки. У нее был альбом. Когда она умерла, альбом Лермонтова перешел к бабушке, а от нее — к родным.
К Оболенской приезжали Лопухины и два мальчика — Голенищевы-Кутузовы, Трушка и Петрячок. Один из них — Петрячок — впоследствии был поэтом. Возможно, что они приезжали с Лопухиной.
Бабушка говорила, что в альбом стихи написал сам Лермонтов».
Вот рассказ Анны Сергеевны. Чтобы уточнить факты, она даже ездила к брату — он старше ее, больше общался с бабушкой. В 1960 году ему шел восемьдесят второй год.
3
Как оказался в альбоме автограф Лермонтова?
Анна Сергеевна больше того, что она рассказала, сообщить не может. Поэтому попробуем заняться расчетами и сопоставлением некоторых фактов.
В 1960 году брату Анны Сергеевны шел 82 год. Значит, он родился в 1878 или 1879 году. Очевидно, мать Анны Сергеевны родилась в 50-х годах. И весь рассказ относится к 50–60-м годам.
Что это за сестры Оболенские — Варвара и Софья? Очевидно, это родившиеся в Москве и в Москве жившие — Варвара Сергеевна и Софья Сергеевна Оболенские — сверстницы Лермонтова. Одна 1814, другая 1815 года рождения. Обе незамужем. Младшая умерла в 1852 году, старшая в 1882 году[831].
Был ли в Кашине монастырь?
Был! Сретенский женский 2-го класса, в городе Кашине Тверской губернии[832].
Кто в этом монастыре игуменья?
Антония Мезенцева. В миру Александра Павловна. В 1837 году поступила в монастырь, семнадцать лет спустя — в 1854 году — пострижена в монашество, в следующем году стала настоятельницей обители и посвящена в сан игуменьи. Руководила монастырем двадцать лет. В 1875 году умерла[833].
Имела ли отношение к Оболенским?
Имела. Ее двоюродная сестра Наталья Владимировна Мезенцева (сестра будущего шефа жандармов) была замужем за Сергеем Александровичем Оболенским. А этот Сергей Оболенский — в свою очередь — двоюродный «Варваре и Софье»[834].
Имеют ли отношение ко всему этому мальчики Голенищевы-Кутузовы?
Имеют! Дочь Сергея Оболенского и жены его, урожденной Мезенцевой, вышла замуж за Александра Васильевича Голенищева-Кутузова[835], с которым в родстве Трушка и Петрячок. Петрячок, или Петр Аркадьевич, поэтом не стал, но в конце XIX — начале XX века был довольно известным публицистом[836]. Известным поэтом был Арсений Аркадьевич Голенищев-Кутузов[837]. Правда, с ним как-то не вяжется имя «Трушка»…
Гораздо важнее выяснить, связаны ли с Оболенскими Лопухины.
Связаны. Кузина Варвары Сергеевны Оболенской, жившей в монастыре, — Варвара Александровна Оболенская (родная сестра Сергея Оболенского, женатого на Мезенцевой и выдавшего дочь за Кутузова-Голенищева) вышла в 1838 году замуж за Алексея Лопухина[838]. А это — с юных лет ближайший друг Лермонтова. Сестру его — Варвару Александровну Лопухину Лермонтов любил до конца своих дней. Чтобы не возникло недоразумения, рассею его заранее: брат Варвары Александровны Лопухиной женился на Варваре Александровне, которая тоже стала Лопухиной.
Впрочем, с Оболенскими Лермонтов был, как теперь выясняется, знаком еще раньше. С Андреем Оболенским — братом Варвары — он учился одновременно в Московском университете и был замешан с ним вместе в историю, связанную с именем профессора Малова. Глупый, грубый и невежественный профессор Малов, как пишет Герцен, «делал студентам дерзости». Решив проучить его, слушатели двух отделений, собравшись на лекцию Малова, шумом и криками выгнали его из аудитории и гнали через университетский двор. Герцена, Оболенского и еще четверых студентов посадили за эту историю в карцер[839]. Лермонтов тоже ожидал строгого наказания, но на первое время дело обошлось, хотя уход его из Московского университета был связан именно с этой историей.
Нo только сегодня, благодаря альбому, доставленному Анной Сергеевной Немцовой, мы устанавливаем, что Лермонтов был дружен с Андреем Оболенским, и обращаем, наконец, внимание на слова одного из знакомцев Лермонтова — в ту пору юноши, а впоследствии известного славянофила Ю. Ф. Самарина:
«В первый раз я встретился с Лермонтовым на вечере на Солянке у князя А[лександра] П[етровича] Оболенского. Он возвращался с Кавказа (начало 1838 года)»[840].
Перечисляя встречи свои с Лермонтовым в последний год жизни поэта, Самарин снова назвал Оболенских:
«За несколько дней до своего отъезда он провел у нас вечер с Голицыными и Зубовыми. На другой день я виделся с ним у Оболенских. Его занимала Катерина Васильевна Потапова, тогда еще не замужем»[841].
Катерина Васильевна Потапова, а в ту пору Катерина Васильевна Оболенская — племянница московского сенатора и кавалера Александра Петровича Оболенского, жившего на Солянке, и двоюродная сестра однокашника поэта Андрея Оболенского и Варвары — жены Алексея Лопухина[842]. Зубова — их родная сестра[843]. Другая — Софья — была женой близкого родственника поэта — Павла Евреинова[844]. Так что автограф Лермонтова в альбоме Варвары Сергеевны Оболенской — кузины всех этих многочисленных Оболенских, друзей поэта, — приводить в удивление не должен.
У нас нет подтверждения, что Варвара и Софья Оболенские поступали в Кашинский монастырь (кстати говоря, в монастыре можно было жить, не постригаясь в монахини), нет положительных сведений, что в монастырской школе преподавались иностранные языки, рисование и музыка. Но и того, что мы выяснили, довольно, чтобы понять окончательно: альбом исходит из круга Лопухиных — Оболенских и принадлежал он одной из сестер — Варваре Сергеевне Оболенской. Есть и другие подтверждения, что это именно так: и мальчики Голенищевы-Кутузовы, которые навещали сестер, и Лопухины, и Шахонские, будучи тверскими помещиками, жили неподалеку от Кашинского монастыря. Итак, можно считать, что альбом принадлежал одной из сестер Оболенских — Варваре.
На первой странице альбома оставила стишок неизвестная нам Софья Лопухина. А Лермонтов, встретив Варвару Сергеевну еще до ухода ее в монастырь, записал по ее просьбе две строки из своей знаменитой «Думы». Альбом маленький: она вынула его из своего ридикюля.
Когда это могло быть?
Вернее всего, в начале 1838 года, когда Лермонтов проезжал через Москву, возвращаясь из кавказской ссылки в столицу, и Самарин встретил его на Солянке у Оболенских. Надо полагать, что «Дума» была уже в это время написана: она датируется 1838 годом.
Интересен выбор текста — беспощадное обвинение, которое Лермонтов адресовал своему поколению, — обвинение в глубоком ко всему равнодушии:
- И ненавидим мы, и любим мы случайно,
- Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви.
Это — очень важные строки. И весьма характерно, что Лермонтов выбрал именно их.
Варвара Оболенская пожертвовала ради любви личной судьбой — ушла в монастырь: жалкий путь! Лермонтов по-другому пожертвовал «любви и злобе». Он решился сказать о своей ненависти к общественному «разврату», к бессилию, малодушию, покорности своих современников, неверию их в свои силы. Он пожертвовал все свое творчество любви — к свободе, к правде, к отечеству, к будущему. Покорствование рабству небесному и земному было нестерпимо ему:
- Пусть монастырский ваш закон
- Рукою бога утвержден,
- Но в этом сердце есть другой
- Ему не менее святой.
- Он оправдал меня — один
- Он сердца полный властелин![845]
Это сказано о законе свободы!