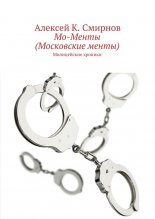Солдат великой войны Хелприн Марк

— Нет. После перегруппировки им потребуются живые.
— Ты чокнутый.
— Не хочу, чтобы за мной пришли, когда я буду сидеть у постели отца. Он болен. Его это убьет. У меня такое странное чувство, что он будет жить, если я скажу правду. Поэтому я собираюсь сказать ему, что должен вернуться, и вернусь.
— Как видишь, — в голосе Гварильи прозвучала нотка горести, — даже согласившись с тобой, я не смогу ничего сделать.
— Знаю.
— Но ты прислушаешься к моему предупреждению, так?
— Он, возможно, и легкомысленный, но он для меня важнее твоего предупреждения, и он заслуживает шанса на спасение.
— Тот еще шанс.
— Это будет его решение.
— Естественно, это будет его решение. И он пойдет с тобой. Он так молод и так глуп, что пойдет. Они возьмут вас обоих и поставят к стенке.
— Возможно.
Гварилья подошел к детям, которые играли у жаровни.
— Посмотри на них. Я знаю, для тебя они, наверно, не так прекрасны, как для меня…
— Они прекрасны, — перебил его Алессандро.
— Нет, — настаивал Гварилья, — не такие они и прекрасные, но для меня, Алессандро, лучше них никого нет. Я этого не знал, пока не увидел их. Странное дело, как только ты теряешь веру, у тебя появляются дети, и жизнь начинает снова.
Девочка подняла голову.
— Папа, папа! Когда ты сделаешь мне еще одну лошадку? — спросила она.
— Я буду вспоминать о тебе, — с этими словами Алессандро ушел. Гварилья запер дверь и повернулся к детям.
К тому времени, как Алессандро добрался до кафе, облака рассеялись, и небо синело до самого горизонта. Хотя стало жарко и солнце слепило глаза, в кафе царили прохлада и полумрак, так что официантам приходилось щуриться, когда они смотрели на улицу через большие окна. Посетителей было еще мало, но кофеварки уже пыхтели, как паровозы. Они сверкали начищенной медью, бронзой и сталью, а резервуары наполняла кипящая под давлением вода, готовая выплеснуться в армии чашек, стоявших рядом с армиями блюдец и бригадами сверкающих ложек. Под стеклом расположились торты и пирожные, на мраморных прилавках между сахарницами и молочниками — мраморные подносы с поленницами бутербродов с маслом. Ароматы кофе, пирожных и горячего шоколада бились друг с другом в воздухе, точно истребители. Все, что могло сверкать, сверкало. Вода булькала, официанты, в основном старики, выстроились вдоль стойки из красного дерева с медной отделкой в ожидании наплыва клиентов.
Восемь пар глаз следили за каждым движением. Если кто-то поворачивался на стуле, человек с полотенцем на согнутой руке тут же возникал рядом, чтобы выполнить любую прихоть посетителя. Официанты читали мысли. Могли предугадать, остановится велосипедист у кафе или проедет мимо, и что он или она закажет.
Когда Алессандро вошел под навес, пожилой официант шепнул человеку, стоявшему за стойкой:
— Один горячий шоколад, очень черный, очень горячий и три бутерброда с маслом.
— Чай и два бутерброда, — высказал свою версию бармен, и они поспорили.
Фабио уже выходил из дверей. Этого хватило, чтобы понять, что пришел друг Фабио, и о споре забыли. Как бы то ни было, оба знали, что не пройдет и часа, как в кафе набьется столько народу, что не услышишь собственного голоса.
— Хорошо выглядишь, Алессандро. Мы прорвались! — Фабио склонился над меню, словно объяснял что-то посетителю, которого видел впервые.
— Ты можешь присесть? — спросил Алессандро.
— В принципе?
— Я про сейчас.
— На мой коксикс?
— Чего?
— Глютеус максимус? Обтуратор интернус? Пириформис?[59]
— Что на тебя нашло?
— Я теперь интеллектуал.
— Зачем это?
— Нынче женщины предпочитают интеллектуалов, особенно женщины с большой грудью, поэтому пришлось стать интеллектуалом.
— Правда?
— Будь уверен.
— И можешь поддержать беседу о Платоне и Джордано Бруно?
— Это мужчины.
— А как насчет Малларме?
— Изобретатель велосипеда[60].
— Ты все такой же.
— Нет, я другой.
— В чем же? Можешь принести мне горячий шоколад и несколько бутербрдов?
Фабио выкрикнул заказ.
— Ты мне не веришь. Думаешь, я псих.
— Нет, конечно. Учитывая, где мы побывали.
Фабио сдвинул брови, насупился. Потом улыбнулся и рассмеялся, да так, будто смеялся над собой.
— Мне неудобно говорить.
— Да брось ты.
— Ну… — Он долго молча смотрел на Алессандро. Оба чувствовали себя идиотами. — Я хочу вернуться. Это безумие, но я не хотел уходить. Пришлось, сам знаешь.
— И что же?
— Я говорил с Гварильей. Он работает… — Фабио понизил голос и чуть ли не спрятался за меню. — Он работает за углом.
— Я только что от него.
— Он тебе не сказал? Это перекусил цепи Джанфранко. Потом он сам взял ножницы и стал освобождать остальных. И тут на верхней палубе появился полковник. Как только увидел нас, бросился за револьвером. Джанфранко метнулся на верхнюю палубу и помчался за ним. Убил теми самыми ножницами. Потом попытался отрезать голову. И тут же прыгнул в воду, даже не оглянувшись, как дикий зверь. Полковник был очень приятным человеком. У него осталась дочь. Сам видишь, правота на стороне армии. Джанфранко — дерьмо, и он, вероятно, будет жить вечно. С этого все и пошло. Чем больше людей прыгало за борт, тем больше народу хотело последовать их примеру. Даже лейтенанты прыгнули раньше меня. Никому не хотелось брать вину на себя. Я и подумал, что уж лучше побуду дома перед тем, как меня расстреляют, чем получу пулю в лоб сразу по прибытии в Венецию, но теперь я хочу вернуться. Наверное, я чокнутый.
— А я как раз по этому поводу и пришел.
— Гварилья вернуться не сможет. Он отрезал себе ногу.
— Знаю.
— Давай прямо сегодня. Нас, конечно, могут расстрелять, но что-то подсказывает, что не расстреляют.
— Мне тоже так кажется, что теперь точно не расстреляют.
— Или мы можем двинуться к передовой и попасть под перегруппировку. Никто никогда ничего не узнает.
— Очень возможно.
— Так идем?
— Сейчас не могу, — ответил Алессандро и объяснил, в чем дело. Он сможет пойти, когда отец достаточно окрепнет, чтобы можно было перевезли его домой, где-то через неделю или дней через десять. Готов Фабио подождать? Фабио согласился. Помимо прочего, еще и потому, что в кафе начала частенько захаживать одна женщина из Новой Зеландии.
— Из Новой Зеландии?
— Точеный нос, каштановые волосы, зеленые глаза, грудь вот такая, — он отодвинул меню на расстояние вытянутой руки.
— Ладно, — кивнул Алессандро. — Ты обделываешь свои дела, а я свои. И будем надеяться на лучшее.
— Естественно, — ответил Фабио. — Интеллектуалы всегда надеются на лучшее. Это называется цинизм. — Потом он принес Алессандро серебряный кувшинчик с горячим шоколадом и три бутерброда с маслом. — За счет заведения, — и вернулся к стойке.
Алессандро оглядел просторный полупустой зал. Фабио стоял среди пожилых официантов с полотенцем на руке. Выглядел абсолютно на своем месте в красивом пиджаке официанта и в брюках с высоким поясом, но одновременно казался здесь и совершенно инородным объектом, ведь Алессандро помнил молодого солдата с винтовкой, которая смотрелась на плече совершенно естественно, как продолжение тела.
На следующий вечер, через полчаса после того, как Алессандро ушел в больницу святого Мартино, к дому приблизилось четверо солдат в полевой форме. Один вошел в сад с боковой улицы и занял позицию за деревом. Загнал патрон в казенную часть и положил винтовку на ветку, прицелившись в дверь черного хода. В сгущающихся сумерках напряженно ждал, словно из кухни намеревались атаковать немцы. Другой расположился на улице. Он имел возможность застрелить любого, кто попытается выйти через парадную дверь, но стрелять ему определенно не хотелось, поэтому винтовка висела у него на плече, стволом вниз, а сам он сидел на бочке и болтал ногами, как мальчишка.
Оставшиеся двое с двух сторон подошли к парадной двери, вытащили револьверы и позвонили. Пять минут спустя, убедившись, что никто не открывает, они принялись рассматривать один из четырех возможных вариантов, с которыми сталкивались постоянно. Или в доме никого не было, или беглец уже ускользнул потайным ходом, или спрятался где-то в доме, и тогда есть возможность его убить, обшарив комнату за комнатой.
Пока один наблюдал за окнами, держа их на мушке, второй занимался замком. У него ушло двадцать минут, но в результате замок открылся бесшумно, словно адвокат Джулиани воспользовался своим ключом. Они открыли дверь и заглянули в дом. Потом вбежали, тяжело дыша, их взгляды обшаривали каждый угол, оба держали револьверы двумя руками, готовые стрелять при малейшем движении, которое уловит глаз. Потом обошли дом, ни на миг не расслабляясь. Некоторые из коллег позволяли себе расслабиться, осмотрев большую часть дома, и это приводило к печальным последствиям: до зубов вооруженный дезертир поджидал их в последнем бельевом шкафу, а то и в винном погребе, и опережал с первым выстрелом.
Поэтому они не убрали оружие, даже когда осмотрели все комнаты и позвали в дом двух других солдат, поскольку не могли решить, а вдруг дезертир все-таки не убежал, а затаился в укромном месте, чтобы внезапно выскочить и расстрелять их в спину. Человека уже ничего не сдерживает, если его загнать в угол в собственном доме.
После того как парочка ожидавших на улице поднялась наверх, чтобы взглянуть на белье Лучаны, небрежно брошенное на неубранной постели, все четверо разошлись по первому этажу. Одного вида розового шелка и запаха духов хватило, чтобы всех охватило неистовое желание. Когда они заметили в углу пару остроносых женских туфель и поняли, что именно в этой комнате, где они сейчас находятся, спала, а потом одевалась женщина, как минимум на пару минут они выбыли из строя. Потом присоединились к другой паре, чтобы устроить засаду на, как они думали, любовника этой женщины.
Они не курили, зная, как далеко распространяется запах табачного дыма. Тихонько затаились в гостиной, столовой, на лестнице. Несколько минут говорили нормальными голосами, но голоса становились все тише и надолго замолкали по мере того, как шло время и приближался момент возвращения Алессандро.
В какой-то момент один нарушил очередную паузу:
— Как думаете, он будет сопротивляться? Богачи сопротивляются?
— Обычно, нет, — донесся ответ с лестницы. — Они не знают, что спастись можно только здесь. Не понимают, что произойдет. Думают, все как-нибудь образуется.
Раздался щелчок.
— Что это?
— Я снял винтовку с предохранителя.
— Держал ее на предохранителе? Дурак.
— Мне казалось, что снял.
— Заткнись.
— Сам заткнись.
— Просто сиди тихо. — И все последовали этому совету. Ждали, полусонные, в чистенькой зеленой форме с кожаными ремнями, не выпуская из рук винтовку или прижимая к груди револьвер.
— А если его здесь нет? — Голос солдата, который сидел в гостиной, прозвучал как-то слишком громко.
— Он здесь. Кто-то его видел.
— А если он уже ушел?
— Тогда мы его не возьмем, — ответил другой, с лестницы. — Но не волнуйся, они всегда приходят домой. Именно для этого и бегут с фронта.
— Мне такая работа не нравится.
— Можешь попроситься на передовую.
Алессандро знал, что отец умирает, но в то же время и не хотел этого знать. Однако жизнь старика подходила к логическому завершению, об этом свидетельствовали не вызывающие сомнений признаки. Даже Лучана понимала, что происходит. Отец иногда изумлялся, случалось, пугался, его переполняло сожаление, но обдурить его не представлялось возможным.
Алессандро же видел то, чего и в помине не было, и одновременно не желал замечать очевидного. Всем известно, что если перед глазами двоится, очень трудно определить, какой из двойников настоящий. От Алессандро не укрылись и нарастающая слабость, и временные, пусть и ненадолго, уходы в другой мир, и затрудненное дыхание, и дрожь во всем теле, и движения руки, ползущей по простыне в поисках чего-то, существующего в другом измерении. После долгих лет уверенности в себе и внутренней уравновешенности, мудрости, власти и самоконтроля, адвокат Джулиани теперь все забывал, смеялся невпопад, не понимал, где находится. Ради неуправляемых полетов он оставлял даже дочь, которую любил больше всех и всего на свете, — и детям казалось, что в места, откуда открывается вид на другой мир, его водит ангел. Он не хотел уходить, боялся, но ангел убеждал, что ничего страшного в этом нет, готовил к путешествию в царство тьмы, света и вечности.
Алессандро не знал, как проживет в этом мире хотя бы полсекунды без отца. Не все родители любят детей больше всего, и часто связь между родителями и ребенком куда менее прочна, чем с некоторыми совершенно чужими людьми или принципами, и только после смерти одного другой осознает свою любовь или вновь путает ее с понятием, принципом или сожалением, но между Алессандро и его отцом такая связь уже была установлена еще раньше, возможно, когда отец обнимал сына или говорил с ним в моменты великой грусти или страха. Вероятно, истинная любовь, не нуждающаяся в прикосновениях, заверениях и восхищении, безмерная любовь адвоката Джулиани к детям вызывала и безмерную любовь детей к отцу.
Все потуги и усердие Алессандро основывались на надежде и силе воли. Он не мог позволить отцу умереть. Он сохранял здравомыслее и не позволял себе распускаться в разговорах с доктором Де Росом или со специалистами, которые появлялись очень редко, точно троллейбусы в дождливую погоду. Он все делал, все замечал, помогал в меру сил, когда медсестрам требовалась помощь, демонстрировал недюжинную силу, если возникала необходимость поднять адвоката Джулиани. Чрезвычайно почтительно держался с монахинями, тянулся к ним всей душой, так что им было приятно подходить к кровати его отца. Хорошо одевался, всегда выглядел чистым и аккуратным. Проводил долгие часы, стараясь найти какое-нибудь упущение врачей. Он знал, как мягко надавить на них, если обнаруживал, что они вроде бы чего-то не сделали, а потом тотчас же извиниться, осознав собственную неправоту.
Казалось логичным, что именно теперь оборона итальянцев рухнула, словно адвокат Джулиани и миллионы солдат сражались на одной проигранной войне, только на совершенно разных фронтах, хотя на самом деле все было не так. Речь шла о разных войнах. Его отец участвовал в великой войне, где главную роль играла не борьба, а тайна. Война была невидимой, молчаливой и абсолютной. Побеждали в той войне, на которой сражался его отец, только верой и воображением, да и то никто не мог точно сказать, действительно ли это были победы.
Один из солдат умер, и его кровать пока пустовала. Лучана сидела рядом с отцом, лицом напоминая Алессандро солдата, пытающегося определить, с какой стороны противник ведет огонь. Кожа адвоката Джулиани обрела землистый оттенок, поэтому все белое и серебристое на этом фоне просто сияло. Он вновь потерял сознание, и, учитывая его общую слабость, они не пытались привести его в чувство.
— Где ты был? — спросила Лучана брата. Хотя она собиралась вложить в вопрос раздражение и злость, но слишком устала для этого.
— Ходил к специалисту, но его не оказалось на месте. Уехал в армейский госпиталь Виченцы.
— Какого специалиста?
— По сердцу.
— Но один у нас уже есть.
— Может, этот знает больше. Кто хуже, бесхребетный сукин сын, который говорит тебе, что проигрывает сражение, или уверенный в себе сукин сын, который сохраняет у тебя надежду, что итогом все-таки будет победа? Не понимаю, как врачи могут быть такими самодовольными. У них же постоянно умирают пациенты. Казалось бы, они должны быть смиреннее всех в мире, так нет же, держатся, точно генералы.
— А почему генералы держатся, точно генералы? — спросила Лучана. — У них все время гибнут солдаты. Будь они бизнесменами, давно бы обанкротились. Почему потеря душ влечет меньшую ответственность, чем потеря денег?
— Я знаю, Лучана, — ответил Алессандро, не поднимая на нее глаз. — Я видел это своими глазами. — Он подошел к кровати. — Папа? — позвал он, хотя и знал, что ответом ему будет лишь хрипловатое дыхание, которое теперь иногда прерывалось тишиной, заставлявшей их взглянуть на отца, даже если они клевали носом. — Он теперь такой маленький. Посмотри на него. Просто не могу поверить. Это же наш отец. Он совсем белый и серебристый, как выбеленная солнцем травинка.
— Не говори так.
— Это правда. Посмотри, каким он стал. Я помню, как он возвышался надо мной — с черными волосами, загорелый и сильный.
— Когда он перестал заниматься греблей? — спросила Лучана.
— У него не было времени. С возрастом ему становилось все сложнее спускать лодку на воду и бороться с течением, когда оно сильное. Он сейчас такой хрупкий, словно сублимируется.
— Что такое сублимироваться?
— Переходить из твердого состояния в газообразное, минуя жидкое, словно снег на солнце. Исчезает прямо на глазах.
Один из солдат застонал во сне. Похоже, он умирал. Застучал зубами.
— Позови медсестру, — попросил Алессандро, и Лучана выбежала из палаты.
Алессандро опустился на колени и прижался щекой к подушке отца.
— Папа, — прошептал он на ухо старику, — заканчивай с этой ерундой, поднимайся, начинай жить снова, хватит умирать. — Отец внезапно открыл глаза, заставив Алессандро отпрянуть назад, а когда адвокат Джулиани нашел взглядом сына, выглядел он на удивление отдохнувшим и в здравом уме.
— Алессандро, где мы?
— В больнице.
— Какой больнице?
— Святого Мартино.
Адвокат Джулиани огляделся.
— Когда я сюда попал?
— Месяц назад.
— Месяц?
— Да.
— С чем?
— С сердцем.
— Мне кажется, я сплю, но я ведь не сплю, да?
— Ты начинаешь поправляться. Теперь у нас есть лекарство, которое тебе необходимо. Орфео добыл его через армию. Температуры у тебя уже нет.
— Я и не знал, что у меня повышалась температура.
— Как ты себя чувствуешь?
— По ощущениям у меня нет тела. Я плаваю, и мне это не нравится. Я же не пьяный?
— Нет, — подтвердил Алессандро.
— Я такой легкий, словно у меня остались одни глаза… даже не глаза, как будто я стал точкой, из которой могу все видеть. Я же не летаю, правда?
— Ты в кровати. Тело у тебя есть, — Алессандро легонько сжал руку отца. — Чувствуешь?
— Мне давали какие-то таблетки?
— Да, может, дело в них.
— Я не против того, чтобы летать, но скажи им, чтобы больше не давали.
— Хорошо. Скажу.
— Где мама?
Алессандро опустил голову. Потому что на глаза у него навернулись слезы.
— Ее сейчас нет. Она спит. Мы по очереди дежурим у твоей кровати. Лучана здесь, вернется через минуту.
— Лучана, — повторил отец, закрывая глаза. А когда снова открыл, спросил: — Где Лучана?
— Здесь. Вышла в коридор.
— Я думал, ты в армии, Алессандро.
— Так и есть. Приехал ненадолго.
— Обычно никого не отпускают.
— Я должен вернуться. Скоро.
— Я думал, ты умер.
— Папа, я здесь.
Вошла Лучана, за ней — медсестра, которая направилась к солдату, отгородилась ширмой и начала делать то, что положено, невидимая.
— Он очнулся, — порадовал Лучану Алессандро. Отец позвал ее, она его поцеловала. — Папа еще не полностью пришел в себя, но я рассказал ему, что происходит: ему лучше, температура спала, он сможет вернуться домой.
— Который час? — спросил отец.
— Уже вечер, папа, около девяти. Мы побудем с тобой, пока у тебя не пройдет ощущение, будто ты летаешь.
— Это не обязательно.
— Мы так хотим, — ответила Лучана.
— Лучана пойдет домой немного поспать, а я останусь с тобой.
— Я тоже останусь, — возразила Лучана.
— Ты провела здесь весь день.
— Вот что я тебе скажу. Иди-ка домой, немного поспи и возвращайся к полуночи сменить меня. Мне не сложно побыть здесь еще несколько часов, а если ты собираешься не спать всю ночь, тебе надо отдохнуть. Потом проводишь меня домой и вернешься.
— Ладно, — согласилась она. — Позволь мне только умыться перед уходом. — Она повернулась к отцу. Он лежал с полузакрытыми глазами, веки трепетали, словно стали невесомыми. — Я только на минутку.
Оставшись наедине с отцом, Алессандро на секунду замялся, потом нагнулся к нему.
— Папа, ты меня слышишь?
— Да, — отозвался адвокат Джулиани так тихо, что Алессандро повторил вопрос.
— Папа, ты меня слышишь?
— Да, я тебя слышу, — в голосе отца послышалась нотка раздражения, и Алессандро это понравилось: это показывало, что он не сдался болезни.
— Я хочу сказать… — начал Алессандро и замолчал, смутившись. — Я хочу, чтобы ты знал… помнишь, ты читал мне книжку про немецких кроликов, когда мне было два года?
— Каких кроликах?
— Детскую книжку про семейство кроликов в поле… как за ними гнались охотники, их приключения и все такое?
Адвокат Джулиани кивнул.
— Я сидел у тебя на коленях, привалившись к твоей груди. Иногда я засыпал.
— Да, помню.
— Ты читал ее мне, когда возвращался с работы. Еще в рубашке и пиджаке, до обеда. Я прижимался головой к рубашке, и от нее пахло трубочным табаком. Я хочу сказать… Не знаю, как выразить… Это лучшие воспоминания в моей жизни. Таким счастливым я никогда больше себя не чувствовал. Мир казался идеальным.
Алессандро заплакал. Слезы потекли по щекам, как он ни старался сдержаться. Отец протянул руку и сжал руку Алессандро, лежащую на кровати.
Во всех документах, уведомлениях и приказах огромная крепость из камня и бетона, возведенная на утесе над морем к югу от Анцио[61], проходила как Четвертая военная тюрьма или ВТ-4, но те, кто находился там, называли ее исключительно «Звездой морей». Она, казалось, плыла над морем, как в ясную ночь звезды плывут над водой и ветром. В загадочной и увлекательной беседе — в потрескиваниях, шипении и прочих вроде бы бессвязных звуках пены, волн и ветра — звезды, казалось, обменивались с морем невероятными секретами, делились открытиями, до которых еще никто не додумался. Звезды и волны обменивались невероятными объемами информации, поступающей мощным и быстрым потоком, непостижимым для человеческого разума, ее передавали бесчисленные голоса, разговаривающие с бесчисленными огнями. Солдаты, которых отправляли в «Звезду морей», потерявшие честь, лишенные желаний и надежды на спасение, знали душу ночного моря. Ничего другого у них не осталось.
Алессандро привезли в «Звезду морей», расположенную неподалеку от Рима, после пяти или шести остановок в других местах. Армии потребовалось четыре дня и печати с подписями на полусотне страниц, чтобы препроводить его из собственного дома в крохотную камеру над морем.
Последние несколько километров он прошел пешком в колонне людей, прокованных за кольцо на левой лодыжке к общей цепи. Охранники то и дело пересчитывали их, словно не верили ни собственным глазам, ни прочности стали. Заключенных переодели в военную форму, чтобы они вспомнили армейскую дисциплину и с большей готовностью подчинялись приказам.
В Анцио они спустились на пляж и двинулись к «Звезде морей», которую видели издалека. В это ноябрьское утро солнце светило так же ярко, как весной или летом, и о том, что на дворе осень, можно было догадаться только по черным теням. Море волновалось. Высокие волны обрушивались на берег, ветер далеко разносил брызги, так что у солдат, которые носили очки, линзы покрылись тонким слоем соли. Но и без брызг им приходилось нелегко: солнце жарило так, что они обливались потом. Они шли под грохот прибоя, на гимнастерках оливкового цвета проступали темные пятна, цепи блестели от воды.
Хотя Алессандро радовали волны и ветер, который гнал их на берег, каждый шаг, увеличивающий расстояние от Рима, причинял невыносимую душевную боль. Он находился у моря, шел под ярким солнцем, а его отец и Лучана оставались вдвоем в палате на верхнем этаже больницы. Несомненно, и над больницей синело безоблачное небо, а в ящике на окне цвела герань, красная, точно кровь, но холодный камень улиц и площадей, деревья, теряющие листву, уступали тому, что открывалось его глазам, когда он шел к «Звезде морей».
Если бы раньше все пошло по-другому, Джулиани всей семьей могли бы проводить этот день на берегу. Пришли бы с завтраком в корзинке, и Алессандро с отцом полезли бы в воду, гордясь тем, что не столь чувствительны к холоду, как синьора и Лучана, которые притворялись бы, что приходят в ужас, видя мужчин, которые лезут в Тирренское море в ноябре.
Алессандро не сомневался, что Лучана приложит все силы, чтобы отец поправился, но боялся, что потрясение его убьет, если ему скажут, что Алессандро расстреляли. И это будет конец для них всех. А может, он все-таки выживет. А если нет, может, выживет Рафи, Лучана родит ребенка, и у адвоката Джулиани появится внук с золотыми волосами. Возможно, его назовут Алессандро — или Алессандра, если это будет девочка.
Алессандро посадили в узкую камеру с маленьким окошком во внутренний двор, где проводились казни. По другую сторону двора за высокой стеной шумело море. Окно перегораживали два толстых стальных прута, а стекла не было. В воздухе стоял запах кухни, на которой постоянно что-то готовили, чуть сладковатый, как у ванильного крема. Второй заключенный постоянно мерз от сырого морского ветра, врывающегося в окошко, и сидел на койке, завернувшись в два одеяла, будто индеец.
Правда, индеец в очках со стальной оправой и лицом интеллектуала. При появлении Алессандро он явно опечалился, тяжело вздохнул и сбросил одно одеяло.
— Это твое.
— Мне оно ни к чему, — сказал Алессандро, все еще разгоряченный после прогулки на солнце.
— Еще понадобится, когда остынешь, особенно ночью. И двух-то мало. Теперь мы оба замерзнем.
— Как тебя зовут? — спросил Алессандро, предварительно представившись.
— Лодовико.
— А фамилия?
— Просто Лодовико.
— Почему так? — удивился Алессандро.
— Потому что я коммунист, — поморщившись, ответил Лодовико.
— У коммунистов что — нет фамилий?
— Когда они являются членами тайных организациях, нет. Если армии удастся составить вместе еще несколько элементов этого пазла, моих товарищей схватят и расстреляют.
— Ты не дезертир?
— Дезертир.
— Тебя расстреляют как дезертира или как коммуниста?
— Это одно и то же, но слишком сложно объяснять, когда так холодно.
— Значения это не имеет, мне без разницы.
— Я думаю, причина в том, что ты веришь в юридическую систему, которая будет нас судить.