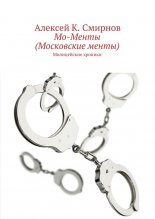Солдат великой войны Хелприн Марк

Миланец с жалостью посмотрел на Алессандро.
— Раньше это случалось дважды в неделю.
Другие солдаты начали заходить в палатку. Стряхивали с себя снег, доставали одеяла, дрожа, ложились под них в сумрачном свете второй половины дня. Пока солдаты спали, все больше облаков наплывало из-за гор, ползло по сосновому лесу, смешиваясь с дымом затухающих костров. В этой части леса часовых не выставляли. Хотя вражеские позиции находились близко, их отделяли от палаток бригады десятки тысяч солдат других частей. Снег падал на парусину и соскальзывал с нее, облака стали такими черными, что, казалось, наступил вечер.
* * *
Алессандро проснулся в пять вечера, ледяной дождь барабанил по палатке, словно вода, прорвавшая дамбу. Алессандро чувствовал себя больным. Не замерз, отдохнул, не промок, не ощущал усталости, но тем не менее словно заболел тифом. Тело отказывалось двигаться, сил не было, и он весь горел.
Лекарство в таких случаях предлагалось одно: встать с койки и походить. Чашка чая, несколько глубоких вдохов, разговор, может, какая-то работа сделали бы свое дело. В палатке он был один. Надел высокие ботинки, сложил одеяло и поплелся к выходу из палатки. Как только вышел на свежий воздух, ему немного полегчало, но оставалась слабость и кружилась голова.
В центре большой поляны, вокруг которой квартировала бригада, пылал огромный костер, на полянах поменьше дымили батальонные кухни. И в какую бы сторону он ни посмотрел, везде видел темный лес и множество костров, горевших как близко, так и далеко. Заснеженный лабиринт деревьев и костры создавали ощущение то ли ада, то ли летней ночи в полях, над которыми кружатся светляки. Половина солдат куталась в одеяла, но Алессандро знал, что это ошибка: одеяла промокнут и запачкаются.
Пахучий дым не отличался от тумана ничем, за исключением того, что туман — на самом деле низкое облако — оставлял после себя влагу, которая блестела при свете костра, а дым — запах, который каждому солдату предстояло помнить до конца его дней. Вьючные мулы, стоявшие неподалеку, били копытами и ржали. Солдаты других бригад проходили по лагерю, направляясь к своим палаткам или от них, к окопам, к штабу, к дороге.
Огромный костер окружали люди, которые медленно поворачивались, чтобы согреться. Все места в первом ряду были заняты и ревностно охранялись. Оставались только проходы: по ним подносили сосновые поленья, такие тяжелые, что нести их приходилось как крест.
Алессандро уже отчаялся найти миланца в полутьме и тумане среди полутора тысяч людей, одетых в военную форму — половина еще и куталась в одеяла, — поэтому направился к палатке за миской и кружкой.
Когда положил руку на приклад винтовки, чтобы она не зацепилась за полог, услышал басовитый грохот, который в последний раз долетал до его ушей чуть ли не год назад, но все равно знакомый и ужасный звук. Ночь осветилась вспышками разрывов. Десятки орудий стреляли одновременно. Он знал, что летят снаряды в его сторону, чувствовал, как разрывы отдаются в груди — глухие металлические удары, нечто среднее между громом, цимбалами и бомбами, — и увидел, как свет врывается в палатку, словно обстрел предназначался для того, чтобы на армейской парусине запрыгали тени.
Младшие офицеры уже бежали по извилистым дорожкам, проложенным в лесу. Вскоре по ним потянулись цепочки солдат. Многие даже не успели зашнуровать ботинки, но, возглавляемые офицерами, куда-то спешили по утрамбованному снегу.
Офицеры бригады Алессандро отсутствовали: их вызвали на инструктаж в штаб, а сержанты и унтер-офицеры хорошо понимали, что люди плохо вооружены. Да и не могли они бросить в бой солдат только что сформированной бригады, если никто не знал в лицо своего сержанта, и не существовало плаца, где они могли познакомиться и притереться друг другу. В результате все суетились, и никто не знал, что делать.
В палатку вернулся миланец.
— Не лучшее время для боя. — Он завернулся в одеяло.
— Почему? — спросил Алессандро. В темноте он уже не видел миланца, только слышал чуть приглушенный голос.
— Моя мама будет заводить часы завтра, а мне не нравится сражаться, когда часы заведены не полностью.
— Не волнуйся, — задумчиво сказал Алессандро. Большие хлопья снега падали, точно вулканический пепел.
— И пушки. Никогда не слышал так много пушек.
— В некоторых секторах на Изонцо, — прокомментировал Алессандро, все еще стоя на коленях, — собирали тысячи орудий.
— Послушай, — продолжил миланец, — сейчас австрийцы прорывают оборону, и они всегда добираются до леса. К этому времени они звереют, а у меня только двадцать патронов. У всех нас по двадцать патронов, а я успеваю выстрелить тридцать раз, прежде чем они начинают отступать. И что мы будем делать, когда патроны кончатся? Опять же, не люблю сражаться в тумане. Со звездами еще терпимо, в холодном воздухе они сходят с ума. Такие яркие, прыгают точно блохи, горят как магний. Если тебя убивают в такую ночь, ты сразу отправляешься на небеса.
— Сколько доберется до леса?
— Все, кого не убьют на поле и на гребне. Они никак не могут смириться, что этот лес наш и защищает от артиллерии. Это так глупо. Просто безумие. До атаки меньше часа. Поспи, и когда пушки замолчат, проснешься бодрым.
— Как ты можешь спать?
— Я думаю о девушке, с которой познакомился в университете. Не было шанса с ней закрутить, хотя я был одним из тех, для кого она создана, да и ее создали для меня. Она вышла замуж за другого. Думая о ее лице, я сразу засыпаю, потому что она такая красивая, и я так ее люблю, что грусть выталкивает меня из реальности в сон.
— А как же твои канцтовары?
— Жалкий заменитель.
Алессандро завернулся в одеяло и попытался уснуть. Он не чувствовал усталости, и, хотя снаряды пролетали выше, взрывы сотрясали землю под палатками. Со временем он, правда, уснул. Во сне говорил себе, что спит крепко, и это нехорошо. То и дело принимался себя ругать, что не просыпается, и ему не хватит времени, когда прозвучит команда «примкнуть штыки». Он спал, пока не прекратился обстрел. Тогда они с миланцем вскочили, словно тишина превратилась в артиллерийский снаряд, взорвавшийся у них в ушах.
— Теперь идем на линию огня и расстреляем наши обоймы, — предложил миланец.
Они обшарили палатку в поисках патронов, но ничего не обнаружили. Вышли в темноту под деревья и увидели, что ветер разорвал облака и забросил на большую высоту. В просветах появились звезды, отчего эти участки неба напоминали океанские лайнеры, которые внезапно выплыли из темного моря.
— Похолодало, — заметил Алессандро. — И почти сухо.
На гребне, где кроны деревьев обрубало пролетающими снарядами, солдаты лежали на земле, выставив перед собой винтовки. Широкий луг спускался к северо-востоку, уходя вниз сразу перед окопами. Они ждали, что земля изменит цвет, если австрийцы начнут массированную атаку. Сержантам удалось добыть несколько ящиков патронов у бригады, расположившейся восточнее, и дополнительные обоймы выдавали с неохотой, точно ростбиф или деньги. Одному пулеметному расчету удалось заполучить пулемет, но только с двумя коробками лент.
Кто-то спросил, почему окопов нет на лугу. Коренастый сержант с лицом, изрытым оспой, ответил, что под тонким слоем дерна камень, и когда снег тает или летом идет дождь, луг превращается в желоб для стока воды.
— Где наша артиллерия?
— Зачем тратить снаряды? — последовал саркастический ответ.
Дальнейшие шутки оборвало появление темной массы у подножия склона. Слишком медленной и однородной, чтобы быть тенью облака, но луна еще не вышла, а света звезд не хватало, чтобы разогнать темноту.
Разговоры смолкли. Роты слева и справа открыли огонь, но тут же минометы врага ударили, точно гигантская волна по тихому берегу, сразу же заглушив их. Амбразуры для стрельбы завалило, и теперь они могли стрелять, лишь поднявшись над бруствером, а тем временем австрийцы выплеснулись из окопов на открытое пространство.
Тень у подножия холма изменила форму — более пяти тысяч до того ползущих человек поднялись и побежали в атаку.
На неукрепленных итальянских позициях передергивали затворы. Звук напоминал сброс монет в металлический накопитель. Там и сям начали молиться, но молитвы быстро стихли, потому что началась стрельба. Сержанты принялись ругать тех, кто открыл огонь слишком рано, когда противник был еще слишком далеко, но их слова тонули в грохоте выстрелов, да и австрийцы открыли огонь. Стреляли уже все, дыма и шума прибавилось, так что уже никто ничего не видел и не слышал. Они палили туда, где видели австрийцев в последний раз, но у них сосало под ложечкой, потому что они знали: на самом деле враг гораздо ближе.
Порыв ветра унес дым. Теперь компактная масса австрийцев поредела, они двигались сразу во всех направлениях. В итальянской линии обороны выкрикивали приказы. Группы солдат внезапно вскакивали и перебегали на другие позиции. Бригада Алессандро, только номинально поделенная на подразделения, без офицеров, без патронов, запаниковала. И когда австрийцы разделились, чтобы окружить холм и проникнуть в лес, где стояли палатки, часть бригады осталась на гребне, а остальные отступили под деревья.
Алессандро с миланцем оставались, пока не расстреляли все патроны. Они не торопились стрелять, пока не смогли различать каждого солдата, и валили их точными выстрелами, но большинство составляли люди необученные, которые едва ли не всю обойму потратили впустую, когда австрийцы находились далеко, и могли попасть в кого-то разве что несколькими последними патронами. Вражеские солдаты были уже совсем близко и приближались бегом.
Когда бригада услышала дыхание австрийцев и увидела, как они появились из дыма, не осталось ничего другого, как бежать под деревья, что они и сделали, бросившись врассыпную, как куропатки.
Алессандро с миланцем держались вместе даже на бегу и оказались на поляне, где раньше горел большой костер, вместе с тысячью перепуганных солдат. Несколько офицеров, которые сумели вернуться из штаба, выкрикивали приказы, пытаясь построить солдат и навести какое-то подобие порядка, но скоро поняли, что это бесполезно. «Стреляйте из-за деревьев! Стреляйте из-за деревьев!» — закричали они, когда появились австрийцы и открыли огонь.
— У нас нет патронов! — жаловались солдаты.
— Примкнуть штыки! Прячьтесь среди деревьев! — командовали офицеры, зная, что на открытой местности всех перебьют.
Алессандро с миланцем примкнули штыки и укрылись за соснами. Пули стучали по стволам, точно дятлы, ветки падали, словно сотня лесников работала высоко над землей, подрезая кроны. К ним присоединился третий солдат. «И что нам делать?» — спросил он. Не получив ответа, ушел.
Времени на ответ не оставалось. Думая, что итальянцы настолько дисциплинированы, что воздерживаются от стрельбы из-за укрытия, австрийцы тоже прекратили стрельбу и ринулись в атаку с примкнутыми штыками и окопными дубинками. Даже самые неопытные среди итальянцев, продавцы и мальчишки только-только из дома, поняли, что теперь у них появился шанс.
Практически все австрийцы габаритами превосходили итальянцев и носили варварские шинели и полушубки, от которых итальянцев, привыкших к красивому крою, просто воротило. Алессандро подумал, что он в своей форме кажется совсем хрупким в сравнении с островерхими капюшонами, рогатыми касками и овчинными жилетами врага. И когда австрийцы бежали между деревьями, перерезая мешающие палаточные растяжки штыками и кинжалами, надвигались на него, поднимая руки с дубинками или выставляя вперед штык, Алессандро подумалось, что вся итальянская армия одета на манер официантов. Ему хотелось одновременно смеяться и плакать, но, обнаружив, что не может ни того, ни другого, он рассердился.
К нему приближались трое. Он помнил их до конца своих дней. У левого, в меховой шапке, шея практически отсутствовала, тяжелый подбородок лежал на груди. В правой руке он держал палицу на длинной рукоятке со стальными шипами и четырьмя блестящими бронзовыми пластинками на головке, в левой — короткий меч. Солдат в центре, в каске и меховом жилете, готовился нанести удар штыком. У правого, рыжебородого, на ремне поверх шинели висели кожаная кобура и ножны. Он поднял винтовку, готовясь выстрелить.
Миланца Алессандро не видел, но бежать было некуда. Хотя непосредственную угрозу для него представляли только эти трое, другие австрийцы тоже ворвались в лес и окружили всех. Не сомневаясь, что сейчас умрет, Алессандро наблюдал, как прицеливается рыжебородый.
— Вы одеты не по форме, — крикнул Алессандро, думая, что эти бессмысленные слова станут для него последними, но, к его удивлению, все трое смотрели уже не на него. Что-то грохнуло, рыжая борода задралась вверх, самого стрелка отбросило назад. Пуля, предназначавшаяся Алессандро, ушла в небо: указательный палец мертвеца конвульсивно нажал на спусковой курок, но ствол «маузера» смотрел вверх.
— Я сберег патрон, — миланец выступил из-за дерева. — Мне он не требуется. У меня аура.
Австриец в стальной каске и овчинном жилете по-прежнему бежал вперед, выставив перед собой штык. Сталь приближалась к груди Алессандро, но он не раз и не два сталкивался с подобной ситуацией на занятиях по фехтованию, которые прерывали долгие часы сидения над древнегреческим и латынью, и в тренировочном лагере речных гвардейцев. Он не сдвинулся с места, парировал удар, сместив нацеленный на него штык влево. Но и австриец был не новичком. Развернул винтовку с тем, чтобы прикладом врезать Алессандро в челюсть.
«Каски у меня нет», — подумал Алессандро, поднимая винтовку, чтобы парировать удар. Винтовки с треском ударились друг об дружку, солдаты отступили назад, выставили вперед штыки и вновь двинулись друг на друга. Но если австриец пер по прямой, то Алессандро шагнул влево и сбоку ударил штыком по винтовке противника. Штык австрийца проскочил мимо, а Алессандро отступил назад и вогнал штык в укрытый овчиной бок австрийца.
Австриец дернулся, и его штык, не задев кости, взрезал левое предплечье Алессандро, совсем как нож мясника режет вырезку, но сила уже ушла из его рук. Штык смотрел в сторону, когда Алессандро вторым ударом пронзил солнечное сплетение австрийца. Острие достигло позвоночника, австриец содрогнулся и рухнул на снег.
Разговаривая сам с собой, постанывая, хватая ртом воздух, Алессандро выдернул штык. Обернувшись, увидел, что миланец прижат спиной к дереву, обеими руками держит винтовку перед собой, отбиваясь от оставшегося австрийца, который махал палицей, словно средневековый рыцарь. Удары расщепили дерево приклада, отшибли рукоятку затвора, оставили вмятины на стволе. Досталось и рукам миланца, которые залила кровь, но винтовки он не отпускал.
Австриец бил палицей все сильнее, и Алессандро бросился к нему. Очередной удар оставил миланца без пальцев левой руки. Винтовка выпала из рук, голова миланца склонилась набок, и палица, словно машина, обладающая разумом, пошла вниз, с силой и быстро ударила по лицу и черепу, пробив кожу в двадцати местах, превратив половину головы в отбивную. Щеки миланца втянулись, воздух вышел изо рта.
Алессандро, стиснув зубы, направил штык в меховую шапку варвара. Варвар сражаться умел. Левой рукой вскинул короткий меч, чтобы отбить штык Алессандро, правой махнул палицей, направляя удар в центральную часть винтовки, чтобы выбить ее из рук Алессандро.
Алессандро била дрожь, и он сумел удержать винтовку лишь потому, что его переполняла ярость. Шипы палицы застряли в ружейном ложе и не желали вылезать. При каждом движении мужчины выли или рычали, будто иначе воздух не мог выйти из легких.
Алессандро дернул винтовку на себя, вырвав палицу из руки австрийца, у которого после этого остался только короткий меч, как на занятиях по фехтованию.
И Алессандро мог предсказать каждое движение. В университете поединок бы прервали, чтобы подобрать итальянцу более достойного соперника.
— Физическая подготовка! — пояснил Алессандро, легко тесня противника. Оскалив зубы, как того требовало слово, округлив глаза, яростно перевел эту фразу на немецкий: — Erzienhung! Erzienhung! Erzienhung!
Он выбил короткий меч из рук противника и вогнал в него штык. Австриец отскочил назад, но Алессандро рванул вперед. Услышал какой-то звук, будто разломили напополам яблоко. Австриец еще не умер, но умирал, и Алессандро отвернулся от него.
Рука болела. Зажимая рану, чтобы остановить кровотечение, он упал на колени и пополз к миланцу. Тот сидел с открытым ртом, язык вывалился наружу, из горла сочилась кровь. От половины головы мало что осталось. Правый глаз вышибло из глазницы, и он валялся на снегу между ног. Левая рука так и осталась поднятой, застыв в том положении, когда он защищался винтовкой, пока не оторвало пальцы. Миланец выглядел так, словно его тело пролежало в окопах не один день, но умер он всего пару минут назад.
Алессандро так и не узнал его имени. Глядя на труп, он представлял себе женщину, которая входит в уютный маленький кабинет и заводит часы.
* * *
Алессандро нашли без сознания — он стоял на коленях, привалившись плечом к дереву, с открытым ртом. И сразу направились к нему, потому что выглядел он как человек, собирающийся встать. Сердце билось с частотой двадцать ударов в минуту, и санитар, который перевязывал рану, был уверен, что он не жилец.
Деревня, куда привезли Алессандро, раньше называлась Грюнзе — Изумрудный пруд, но теперь получила название Витторио: итальянская армия, самоутверждаясь, переименовывала все альпийские деревни, которые захватывала.
Три четверти населения убежало, из оставшихся половину посадили. Пятьдесят пустующих домов, три маленьких отеля и два общественных здания приспособили под армейский госпиталь. Впервые с тех пор, как он бежал по улицам Рима из туалетной кабинки в военном министерстве к железнодорожной станции, Алессандро увидел женщин: не только хмурых немецких матрон, которые остались приглядывать за скотиной и маленькими детьми, но много армейских сестер милосердия и волонтеров, не только итальянок, но и француженок, англичанок, американок и скандинавок. Они ходили поодиночке и маленькими группами, и раненым солдатам, доставленным с передовой, мир открывался с совершенно новой для них стороны.
Когда Алессандро привезли в Грюнзе в кузове грузовика, вид этих женщин потряс его больше, чем атака одетых в овчину австрийцев. Их мягкость, робость и красота создавали ощущение, что ему все это снится. Некоторые были в серой форме, другие — в серых пальто поверх белой формы. В горном воздухе светлые волосы приобретали металлический отблеск, превращаясь в белое золото, а темные прибавляли насыщенности цвета. Свет, отражающийся от далеких вершин и ледников, озарял лица этих женщин сиянием, превращая в ангелов.
Перед тем как остановиться, грузовик проехал мимо аптеки. Молодая сестра в белом халате стояла в дверях, глядя на горы. Хрупкая, светловолосая, с прекрасными, идеальными чертами лица. Накрахмаленный чепец медсестры обрамлял волосы тонкой белой границей, словно нимб. Ее обычный сестринский фартук скреплялся на шее белой эмалевой застежкой с красным крестом, такой же крест краснел на белой повязке на ее левой руке, и фартук ниспадал вниз, перетянутый на талии кушаком из хлопчатобумажной ткани. Руки она сцепила за спиной. Покачиваясь с пятки на носок, взгляд не отрывала от гор. В сером свете, отраженном от заснеженных склонов, в ее карих глазах появлялась толика серого и зеленого. Будь глаза синими, золотистые волосы не излучали бы такого тепла. Никогда в жизни он не видел более красивой женщины.
* * *
После того как санитар оставил Алессандро в коридоре «Амбулаторной клиники 2», сестра — с черными кудряшками и белоснежными, точно лед в горах, зубами — отвела его в смотровой кабинет. Очки увеличивали ее яркие глаза, которые еще и блестели, словно влажные. Когда она отрезала его окровавленный рукав, ее фартук немного отвис, и он увидел ее грудь. И хотя ее тело практически касалось его, Алессандро смотрел на горный хребет, отделявший Грюнзе от поля боя. Свет таял, но образ медсестры, залитой лучами предвечернего солнца, не шел из головы.
Гимнастерка Алессандро превратилась в лохмотья, повязка, наложенная медсестрой в очках, пропитывалась теплой кровью. Он наблюдал, как горы становятся золотыми, потом обретают цвет семги, а свет тает и тает, и задуть его легко, как огонек свечи. Холодный дождь поливал долину, хлестал по полям Грюнзе, а сверкающие горы, казалось, величественно плыли на облачных баржах.
Алессандро не удивился, что пришлось так долго ждать. В армии говорили: если входишь в лазарет с простреленным сердцем, приходится дожидаться своей очереди как минимум четыре часа, а по слухам, циркулировавшим после Капоретто, солдату, который пришел в полевой госпиталь с отрубленной головой в руках, предложили зайти попозже.
Когда врач наконец-то снял повязку с руки Алессандро, сделал он это крайне грубо, что свидетельствовало о чем-то еще, помимо усталости. Холодная и неприятная боль отдалась во всем теле. Разрез начинался у самого локтя и тянулся чуть не до запястья. Отсутствие чувствительности, сопровождающее боль, словно говорило, что плоть умерла или умирала.
— Никакого намека на гангрену. Циркуляция нарушена, отсюда и ощущение, что плоть мертвая. Смотри! — хирург расширил рану, готовясь продезинфицировать ее… и чуть не убив пациента. — Она пурпурная. Мышца едва затронута, и то по центру. Как ты ее получил?
— Штык, — ответил Алессандро, морщась от боли.
— Чей? — агрессивно поинтересовался врач.
Едва услышав обвинительные нотки, Алессандро ощутил поднимающуюся волну презрения.
— Я не знал его имени, а после того, как я его убил, он умер, так что спросить никак не мог.
Хирург сунул большой клок ваты в спирт. Потом провел им по ране.
— Я это делаю не только, чтобы очистить рану, иначе ты умрешь от заражения крови, — но и потому, что ты разговариваешь с офицером неподобающим образом.
У Алессандро не нашлось слов. Он пытался представить себе, что рука уже не часть его тела, а этого сукиного сына, который звался врачом, здесь нет.
— Некоторые солдаты сами наносят себе раны, чтобы их вывезли с передовой, — говорил доктор, заканчивая дезинфекцию. — Они не затрагивают жизненно важных органов, но добиваются, чтобы раны сильно кровоточили. Наверное, воображают себя хирургами. Но ума им все-таки недостаточно, и треть умирает от заражения крови.
— Но здесь другой случай, — продолжил он, осматривая рану. — Точность ювелирная. Такое ощущение, что ты кому-то заплатил.
— Я не платил.
— Платил ты или нет, тебе придется выпить перед тем, как я начну зашивать. Надо наложить всего лишь двадцать-тридцать неглубоких швов, но некоторые захватят мышцу.
— Выпить что?
— Граппы. — Врач прошел к шкафу, налил граппу из пятилитровой бутыли в лабораторную мензурку, протянул Алессандро.
— Выпить все? Этого хватит? — спросил Алессандро.
— Я тебе помогу. — Доктор отпил из мензурки. — Если допьешь все, что осталось, не сможешь ходить. Эти таблетки положи в карман. Позже, когда тебе станет нехорошо, брось одну или две в воду. Выпей, когда растворятся.
Алессандро с неохотой взял стакан.
— Пей, сколько сможешь.
Алессандро раньше пил только вино, обычно не больше стакана в день, разбавленное водой, словно ему было десять лет, а тут, задержав дыхание, разом осушил мензурку. Граппа обожгла горло, но этот жар неприятных ощущений не вызвал. Лицо наливалось кровью, пока не сравнялось цветом с бархатом в дорогих ложах оперного театра или гостиных в египетском борделе.
— Не вздумай блевануть, — предупредил хирург. — Я вернусь через десять минут. Не упади со стула. Представь себе, что ты на корабле. Когда я буду тебя зашивать, ты не поймешь, что происходит. Руку чувствуешь?
— Да.
— После того как я закончу, сестра отведет тебя в палату. Так чувствуешь?
— Да. Монахиня?
— Что значит, монахиня?
— Отведет меня в палату.
— Сестра — не монахиня. Здесь нет монахинь.
— А какая медсестра?
— Не знаю.
— Попросите ту, что с прекрасным лицом.
— С прекрасным лицом?
— Красавицу.
— Для солдат, которых привозят с передовой, они все красавицы, — сказал хирург.
Оставшись один, Алессандро стал развлекать себя речами. В какой-то момент заговорил так громко и эмоционально, что к нему подошла медсестра, приложила палец к губам и произнесла: «Ш-ш-ш!» — очень медленно и с сочувствием.
Уютно покачиваясь в маленьком коконе, Алессандро не сомневался, что его душа покинула тело и плавает под потолком смотрового кабинета, но отказывался поверить в то, что свободное плавание принесет ему вечную радость, и держал глаза открытыми.
Хирург вернулся в сопровождении двух санитаров. Они подошли очень быстро, по-деловому, и, прежде чем Алессандро сообразил, что им нужно, подняли его и положили на стол, который стоял посреди кабинета. Привязали лодыжки, здоровую руку и только одно бедро, потому что ремень для второго порвался. Один санитар держал запястье левой руки, второй — голову.
Поначалу эти действия не казались ни угрозой, ни насилием. Тела у Алессандро не было. Душу, с любопытством наблюдавшую сверху, происходящее внизу вроде и не касалось.
Потом хирург начал готовить иголки, изогнутые, разной длины и толщины, сверкающие в свете керосиновой лампы, разгонявшей тьму в кабинете. «О, нет», — выдохнула душа Алессандро, когда хирург выложил свой игольный арсенал. Словно прыгун в воду, которому предстоит нырнуть с пугающей его высоты, хирург долго оглядывал рану. Потом правой рукой взял первую иглу, а левой — пропитанную спиртом марлевую салфетку.
Всякий раз, когда хирург протыкал одной из стальных игл плоть Алессандро, тот кричал, и тело, удерживаемое ремнями, выгибалось. На каждый стежок приходилось три или четыре толчка иглы, и при каждом Алессандро дергался, точно лягушка Гальвани[69]. После того как игла выходила наружу, нитка завязывалась, и Алессандро дрожал от страха перед следующим стежком. Через полчаса санитары отвязали его и положили на стол другого пациента, который спал на носилках в коридоре. Скоро кричал уже он, да так, что его крики могли разбудить солдат, которые умерли в Альто-Адидже. Пусть и пьяный, Алессандро оставался в ясном уме. Он знал, что его тело еще несколько недель будет помнить полчаса, которые он провел на операционном столе, но пока оно лишь пыталось понять, что с ним случилось, он мог наслаждаться собственным самообладанием.
— Как насчет обеда? — спросил Алессандро окружающий воздух. Когда никто не ответил, почувствовал раздражение.
Скоро та же медсестра, которая прикладывала палец к губам и говорила: «Ш-ш-ш!» — опять пришла, чтобы отвести его туда, где ему предстояло спать. Вновь он услышал: «Ш-ш-ш!» Подумал, что она, возможно, так дышит, что у нее эмфизема, а может, принадлежит к какому-то индуистскому культу. Такие существовали до войны, там учили людей правильно дышать и смеяться. Но на самом деле все они ставили целью перехитрить смерть, и достойные доверия индусы, которые приезжали в Италию, богатели на глазах.
Алессандро не мог увидеть, как выглядит медсестра, потому что на ней был серо-зеленый плащ с капюшоном, который скрывал лицо. Она вывела его на улицу и в темноту, где рассмотреть лицо стало еще сложнее. И хотя Алессандро пытался, он мог лишь сказать, что она высокая и тощая, прямо-таки цапля.
Время от времени он поворачивался, чуть не валясь в снег, стараясь заглянуть под капюшон.
— Не пытайся меня поцеловать, — предупредила она. — Это запрещено правилами, и я не целуюсь с кем попало.
— Я хочу увидеть твое лицо, — объяснил Алессандро. — Ты индианка?
— Никаких поцелуев, — последовал ответ. А вообще, говорила она не переставая — что-то о парикмахерах на курортах с минеральными водами, о том, как после войны она будет то ли работать у такого парикмахера, то ли выйдет за него замуж, то ли сама станет парикмахером, а может, речь шла о первом, втором и третьем сразу, потому что после войны на этих курортах яблоку негде будет упасть, так их заполнят раненые и военные… и их жены.
Перед тем как войти в шале, где ему предстояло спать, Алессандро еще раз попытался увидеть ее лицо.
— Из того, что ты говоришь, я не понимаю ни слова. Не знаю, зачем тебе это, и почему парикмахеры кажутся тебе такими привлекательными, может, потому, что сам никогда им не был. Что они из себя представляют?
— Ах-ах-ах, — ответила она, входя с ним в дверь. — Никаких поцелуев. — Говорила она это, потому что медсестры прикасались к мужчинам целый день, мужчины окружали их, они купали мужчин, носили и иногда, если рядом никого не было, целовали пациентов и разрешали им целовать их самих… даже взасос. В госпитале, где даже дурнушки считались красавицами, такое случалось сплошь и рядом.
Вместе с крепкого сложения молодой сестрой она помогла ему подняться по двум лестницам, широкой и узкой.
— Нужен тебе WC? — спросили они.
— Что там мне нужно? — не понял Алессандро.
— Это ты там бормочешь?
— Швабра, штык, шляпа, что там такое?
Они ничего не поняли и просто повели его в кровать.
— Нет! Откройте окно, — запротестовал он. — Я люблю свежий воздух.
Они открыли.
— Тебе понадобится шесть одеял.
— Двух хватит, если одно сложить в два слоя.
Они укрыли его одеялами, а голову уложили на подушку в белой прохладной наволочке, так накрахмаленной, что поначалу Алессандро подумал, а не деревянная ли она.
Размерами комната не слишком отличалась от чулана, и в ней находился он один. Дверь не запиралась, то есть он точно знал, что это не камера. Стены были обшиты кедровой доской. Раньше здесь жил ребенок, на это указывала слишком маленькая для Алессандро кровать, но подушка компенсировала все остальное: он почти три года, если не считать короткого пребывания дома, не спал, положив голову на подушку.
Свободный и в одиночестве, наконец-то сняв высокие ботинки, и с перебинтованной рукой, которая горела огнем, Алессандро лежал под тремя слоями шерсти, дыша чистейшим воздухом, который напоминал льющуюся с ледника реку, и утопая головой в белоснежной подушке.
Он ждал, пока луна подсветит облака призрачным серебром, но подозревал, что к тому времени, когда ее свет зальет комнату, заснет. Он улыбнулся, восхищаясь горами, хотя пробыл с ними всего два дня, связи формировались и разрушались с удивительной быстротой, словно всякий раз, пока солнце и луна прятались за облаками, чтобы потом выйти вновь, создавался новый мир. Он видел такое и раньше — на большой высоте. Время там сжималось и растягивалось. Воздух, вливающийся в окно, наполняли послания, которые Алессандро уже не понимал. И разбиваясь миллионами, как гребни волн, они нарушали умиротворенность комнаты и восстанавливали ее в ритме, который укачивал и убаюкивал раненого солдата, погружая его в сон.
* * *
Проснувшись, Алессандро подумал, что уже наступило утро, но ошибся, хотя поначалу этого не понял: он открыл глаза тем же вечером, только позже. До него долетели запахи готовящегося обеда, которые не только вызвали отвращение, но и совершенно сбивали с толку. Нигде, это он знал, и тем более в армии, не едят на завтрак жареное мясо.
У него поднялась температура, и ему казалось, что он куда-то мчится. Тело приятно горело, словно от ветра, а лицо, по ощущениям, обгорело от многочасового пребывания на солнце. Устойчивый жар указывал, что сама природа поддерживает в нем огонь, а хранитель этого огня сидел рядом и наслаждался пламенем.
Алессандро поднял правую руку с одеяла и коснулся носа, в отличие от остального тела, ледяного. Если, как ни странно, ему предстояло умереть от не такой уж тяжелой раны, самой безболезненной была смерть от лихорадки. Он что-то бормотал себе под нос, ему это нравилось, даже казалось, что он говорит чуть ли не стихами: «Возможно, что пройти через ворота смерти все равно что войти в ворота пастбищной изгороди. Миновав их, ты продолжаешь идти без необходимости оглядываться. Никакого потрясения, никакой драмы, просто поднимаешь доску или две и ступаешь на пустошь. Ни боли, ни потоков света, ни громких голосов, ты молча пересекаешь луг».
Уже давно стемнело, и даже ястреб не смог бы отличить белую нитку от черной. Алессандро попытался повернуть голову от окна к двери, но шея затекла, и это никак не удавалось. Он подумал, что это первый признак смерти, и хотя он уже согласился умереть, ему хотелось уйти с иллюзией тепла и света.
Должно быть, эти слова он произнес громко и отчетливо, потому что женщина, которая сидела в углу на стуле с плетеным сиденьем из камыша, ответила на вопрос, который он на самом деле не задавал.
— Ты не умрешь.
Он рассердился из-за того, что она все время находилась рядом, а он об этом понятия не имел.
— Откуда ты знаешь? — спросил Алессандро.
— Этот дом предназначен для другого.
— Нехорошо подслушивать меня, не предупредив о своем присутствии, — возмутился Алессандро.
— Обычно я не вижу необходимости предупреждать о своем присутствии, особенно тех, кто без сознания. Я не знала, что ты очнулся.
— Я тоже. Разве ты меня не слышала? — спросил он.
— Слышала, как кто-то говорил во сне или в забытьи. Ты и сейчас бредишь.
— Я бы не говорил, если бы знал, что ты здесь.
— Я так устала, что не могла подняться со стула только затем, чтобы предупредить тебя о своем присутствии.
— Я тебя не вижу, — в голосе промелькнула злость. — Не могу повернуться, и темно.
— Зачем тебе меня видеть? — спросила она.
— Чтобы знать, с кем я говорю. Почему бы тебе не подойти к окну, чтобы я мог тебя видеть?
— Потому что мне вполне удобно на стуле. Мне тепло, я в пальто. Я здесь для того, чтобы убедиться, что с температурой ты справляешься, принести тебе еду, если ты захочешь есть, и у меня нет никакого желания подходить к окну, чтобы ты увидел мое лицо. Зачем тебе мое лицо?
— Зачем у тебя лицо? Зачем у тебя тело?
— За тем же, зачем и у всех. Чтобы жить в этом мире.
— Тогда почему бы не показаться мне, чтобы я мог жить в этом мире?
— Когда солдат привозят с передовой, после того как они пробыли без женщин несколько месяцев или даже год…
— Или целых два года.
— Они влюбляются в первую же женщину, которую видят. Ты можешь ничем не отличаться от ножа для масла, но они все равно влюбляются в тебя. Это не так и приятно, но происходит постоянно, и мне уже надоело. Даже ослепшие, с изуродованными лицами влюбляются в голос, хотя и представить себе не могли, что смогут еще раз. А что я могу им дать? Ничего. Я всего лишь женщина. Я не конец войны, не конец страданий, не магическое высшее существо, которое сотрет из памяти все, что они видели.
— Ты знакома с творчеством Джорджоне? — спросил Алессандро, попытался сесть, но упал обратно на подушку. — Джорджоне написал картину, которая противоречит твоим словам. На картине женщина утихомиривает бурю, и она — единственная надежда солдата. Тебе, возможно, не нравится эта идея, для тебя это чересчур, но то, что ты отрицаешь, а Джорджоне утверждает, — истина. Я знаю, что некоторые солдаты возвращаются с передовой, прямо одержимые сексом. Я слышал мужчин, которые говорят как животные, даже о своих женах. Они отправляются домой в увольнительную и трахают жен, пока не стирают там все до крови.
— Стирают у кого? — спросила она, гадая, почему позволяет мужчине говорить с ней подобным образом.
— У обоих. Они словно жаждут крови. Трахаются до крови, а то и дальше.
— Откуда ты знаешь?
— Они откровенно об этом рассказывают. Самые грубые думают, что это чистая механика: слишком много дней без секса, простая арифметическая теория трения, вода за дамбой, как ни назови. А потом они говорят так, словно другие солдаты, которые смотрят на них, сидя на земле, более важны, чем жены, оставшиеся дома. Они напоминают котов, которые бросают задушенную мышку у твоих ног.
— Ну не знаю…
— Зато я знаю. Это как-то связано с идеей аккумулированного желания, и многие солдаты чувствуют, что ими движет нечто менее грубое, чем они думают, но у кого есть время в этом разобраться?
— У тебя.
— Только потому, что ты заставила меня думать и говорить. Если бы позволила взглянуть на себя, слова стали бы излишни.
Она ничего не ответила. Это его обнадежило.
— Ладно, тогда придется продолжать говорить… и мне нравится говорить с тобой. Когда солдаты возвращаются домой, их первое желание, знают они об этом или нет, иметь детей, потому что дети — единственное противоядие от войны. На картине Джорджоне женщина и ее дитя спокойны, они — центр вселенной. Солдат может сбиться с пути, река выйти из берегов, но мать и дитя будут спасать мир снова и снова.
— Какое это имеет отношение ко мне? Я ведь тебе сказала. На моем месте могла оказаться любая женщина.
— Это правда. И на моем месте в окопе мог оказаться любой мужчина, дрожащий, раненый. Низведение к изначальному — это не бесчестие. Никто не узнает тебя лучше, чем тот, кто познал тебя, когда с тебя сорвано все наносное. Никто не познает тебя лучше, чем такой, какая ты сейчас, сидящая на стуле в пальто в этой холодной, темной комнате, голодная и уставшая.
— Ты не видишь меня, — ответила она. — Ты не знаешь меня. Мы не видели лиц друг друга. Мы можем испытывать определенное влечение, потому что, возможно, у нас сходное прошлое, и теперь мы барахтаемся в этом месте, но после войны все это исчезнет. Для двух людей на спасательном плоту в море появление корабля меняет все.
— Все зависит от того, сколько времени они провели на плоту, — возразил он.
— Ты не сдаешься?
— Пока нет.
— Ты один из миллиона солдат. Я каждый день говорю с сотней. Половина влюблена в меня. Это ничего не значит.
— Я ни о чем не прошу, — сказал Алессандро.
— Ты думаешь, что покорил меня?
— Нет.
— Тогда откуда такая уверенность?
— Уверенность в чем?
— Отстраненность.
— Во мне никакой отстраненности нет. Я только уверен, что прикоснулся к истине.
— Откуда ты знаешь, что я вернусь? Я без проблем могу поменять тебя на кого-то еще. Кроме того, нас переводят в другие места так же, как и солдат. Завтра я могу оказаться в Тренто. А ты даже можешь умереть.
— Тогда я не в том доме.
— Извини. Температура — это хороший признак. Ты в том доме.
— Почему я не могу повернуться? Чувствую себя парализованным?
— Когда у тебя температура и ты спишь в одном положении на холодном воздухе, такое бывает.
— Не вернешься, значит, не вернешься, это будет означать, что ты не та женщина, которую я себе представляю. Я-то думал, что ты такая. У тебя прекрасный голос. И однако неважно, исчезнешь ты или нет, потому что останутся другие.
— Ты бредишь, — сказала она.
— Это точно.
— Когда я вернусь через несколько часов, если ты проснешься, если не будешь бредить, у тебя не будет необходимости чувствовать себя неловко.
— Любовь ставит в неловкое положение только тех, кто не может любить. Кроме того, я не говорил, что влюбился в тебя. Ты говорила.
— Хотя я тебя не видела, не буду говорить, что меня не влечет к тебе, но, думаю, через день-другой я смогу тебя забыть. Здесь это обычное дело. Нельзя узнать человека за пять минут. Нельзя влюбиться за пять минут.
— Пожалуйста, возвращайся, — попросил он.
* * *
На следующее утро похожая на цаплю медсестра, индианка, пришла, чтобы померить Алессандро температуру, сменить повязку, принести завтрак. Когда меняла повязку, ее прикосновения были очень нежными и информативными. Он понял, что тот, кто женится на ней, будет наслаждаться ее умом, благодарностью и добротой до конца своих дней и, возможно, узнает нечто, даже более завораживающее, чем романтическая любовь.
— Когда ты вернешься? — спросил Алессандро.
— К обеду.