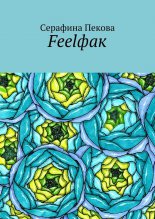Гретель и тьма Грэнвилл Элайза

— Иду. — Беньямин быстро запер ставни и поспешил за Вильгельмом. И лишь спустившись по лестнице, он понял, что, вероятно, обнаружил кое-что важное: волосы у девочки-призрака отрезаны, она была почти бритой. Но времени расспрашивать спутника уже не было. Лицо Вильгельма избороздило беспокойством, и он несся по лестнице вниз через две ступеньки.
— Мы задержались наверху дольше положенного, — пробормотал он. — Мне миллион всяких дел надо было сделать. Уповаю лишь на то, что начальник… — Они добрались до предпоследнего пролета, и он замер, настороженно оглядывая залу. — Ладно, мой юный друг, я тебя провожу до кухни. Дальше ты и сам дорогу наружу отыщешь. — Он заспешил через залу, но тут парадные двери распахнулись — и воплотились худшие страхи Беньямина.
— Какого черта он здесь делает? — проревел белобрысый человек, срывая пальто и бросая его на пол.
— Это мой юный племянник, я вам о нем говорил, герр Клингеманн, — сказал Вильгельм и встал между ними. — Сынок моей сестры, из Бургенланда. Вы любезно разрешили, чтобы он работал со мной в паре.
— Племянник? Черта с два, лживая ты жаба. — Улыбка у Клингеманна была сладка и убийственна. — Любому дураку ясно, кто он такой. — Он понесся на них, на ходу намеренно сшибая жардиньерки; мраморные нимфы теперь валялись надколотые или разбитые вперемешку с высыпавшейся землей и раздавленными цветами. Беньямин вспомнил разбитый столик в саду и задрожал. — Он еще и шпион этого мерзкого брехуна Бессера. А если он и твой друг, то ты тоже пшел вон.
Вильгельм глянул на Беньямина и отошел в сторону, на лице — презрение.
— Я ошибся, сударь. Он мне никто.
— Я не шпион Бессера, — закричал Беньямин, отступая, пока дальше стало некуда. Откуда ни возьмись явился Курт, навис над ним, а повар — хоть женщина он, хоть мужчина — отрезал последний путь к отступлению через кухню. В зале уже толпились и другие люди — ни единого дружественного лица. И только Клингеманн по-прежнему улыбался, похрустывая костяшками на руках.
— Вечно ты не в том месте не в то время. Я тебя предупреждал, Judenscheisse[170].
Двенадцать
Много дней подряд я не ухожу далеко от нашего сарая и стараюсь быть невидимой. Пробую поговорить с Леной, но она сейчас болеет и слишком много плачет. А больше никто не хочет разговаривать. Когда не работают — спят или пялятся в пустоту, хотя смотреть тут не на что. Лотти вся истрепалась, искать Даниила тоже без толку: он будет прятаться, пока укусы не заживут. Порезы и ушибы сменяются порезами поглубже и ушибами посильнее.
Одна радость осталась — школа по вечерам. Сесили говорит, что я ее лучшая ученица, но малым деткам в класс нельзя, и потому я перестаю сосать палец. Она зовет меня маленьким полиглотом и учит про греков, и римлян, и про геометрию, показывает теорему Пифагора — рисует в грязи палкой. Начала показывать мне и его тетраксис — он мне нравится, потому что он волшебный, — но шел сильный дождь, и треугольники с числами все время смывало, я не успевала складывать. И мы тогда сели на пороге сарая и стали говорить про Пифагора и его бобы. Когда я сказала, что мои волшебные бобы украли, Сесили погладила меня по руке и рассказала про зеленых эльфийских деток, которые вышли из леса в Англии и питались исключительно бобовыми ростками. Ее можно уговорить, и она расскажет, как английские короли жгут пироги, прячутся в дубах[171] или отрубают головы своим женам, но настоящие сказки она не умеет, только историю. Я ей говорю, как все это скучно, а она мне напоминает про других детей, и в конце концов я насильно их усаживаю и заставляю слушать себя.
Еще кое-кто рассказывает тут сказки, но не очень хорошие. У нее они получаются пум-пум-пум, будто тонкие ломтики простого сухого хлеба падают на тарелку. У меня же они жирные, сочатся жженым сахаром, из них смородина и приправы прут во все стороны. Когда другие дети вправду голодны, я их веду в темные-претемные леса, разделываюсь с ведьмами всякими ужасными способами и даю детям съесть пряники. Другую рассказчицу зовут Ханна.
— Итак, дети, — говорит она, — сегодня я вам расскажу новую сказку. Она про двух людей, которые спорили из-за старого сливового сада. Оба говорили, что сад — его. Оба могли доказать, что это его отца сад и ничей еще, отец посадил его много лет назад. И так они ссорились много месяцев. В конце концов их жены заставили их пойти с этим делом к ребе. Тот все выслушал. Но так и не смог принять решение, потому что оба спорщика с виду были правы. Наконец он сказал: «Раз я не могу решить, чей это сад, остается одно: пойти и спросить саму землю». И вот мудрый старый ребе пошел не спеша прочь из деревни и добрался до сливовых деревьев. Там он приложил ухо к земле и стал слушать. И вот уж ребе выпрямился и сказал: «Господа, земля говорит, что не принадлежит ни одному из вас. Наоборот — вы оба ей принадлежите».
Какая-то женщина рядом латает юбку и улыбается, но дети сидят и ждут, хотя всем понятно, что история закончилась. Дурацкая история, и я так и хочу сказать, но Грет меня всегда предупреждала, что с людьми, которые выглядят странно, нужно осторожно.
Ханна, кажется, самая безобразная женщина на свете. Она уродливее даже той горбатой цыганки, что приходила к нашим дверям по весне с корзинами нарциссов, а осенью — со Steinpilze. Может, она тоже была ведьма. Грет всегда у нее что-нибудь покупала. Не покупать — плохая примета. Цветы Грет потом ставила в банку из-под варенья, на подоконник, чтобы цыганка видела, если мимо шла. Грибы закапывали поглубже в саду. Те хоть и похожи на обычные белые, но могли оказаться ядовитыми поганками. Ханна подволакивает ногу, когда ходит, и наматывает грязные старые тряпки на пальцы. Лицо у нее с одной стороны перекручено, как выжатая посудная тряпка, а где отросли волосы, там они полосатые, как ее юбка. Когда не рассказывает истории — разговаривает с любым, кто готов ее слушать… а если некому, бормочет сама с собой.
На этот раз Даниил сам меня находит — не успевают еще зажить собачьи укусы. Не говорит, что скучал по мне, но я знаю, что скучал, потому что я по нему тоже скучала. Некоторые дети болтаются поблизости — ждут моих сказок, приходится их прогнать. Один липнет к Даниилу и не хочет уходить, даже когда я берусь за палку.
— Это что? Твоя тень?
— Пусть будет, — говорит Даниил. — Он же тебе не мешает.
— Ты чего пристал? А ну брысь отсюда.
Даниил встает между нами.
— Не будь как…
— Я хочу разговаривать только с тобой. Не хочу, чтобы она слушала.
— Это он, а не она, — напирает Даниил, но мы оба смотрим на этого новенького с сомнением.
— Ну ладно. Как тебя зовут? — Существо ничего не говорит, только смотрит на меня громадными лягушечьими глазами. Оно тоненькое, как бумага, и такое же бледное. Не знаю, были у него вообще волосы или нет. — Ну? — допрашиваю я и щиплю его за плечо. Быстро отдергиваю руку. Странное это плечо на ощупь, будто кости резиновые. — Ты мальчик или девочка? Скажи что-нибудь. — Я заношу ногу — того и гляди пну, легонько: проверить, ноги, что ли, тоже резиновые?
— Не надо, — говорит Даниил.
— Чего ему от тебя нужно? — У Даниила голос расстроенный, и я просто чуть-чуть трогаю это пальцем ноги. Едва-едва. Точно же не больно, а у этого существа сразу слезы и сопли по лицу. — Если оно не скажет, что оно такое, мы знаем, как проверить. Ты посмотришь или я?
— Не смей! — Никогда я не видела Даниила таким злым. Лицо у него делается как свекла. На миг даже не видно синяков и отметин от зубов. — Никто не будет смотреть. Никогда. Слышишь? Что с тобой такое? Ты ничего не поняла, что ли, пока тут… — Он вскидывает руки. — Какая разница-то? Verschwinde![172] Брысь отсюда, пошла прочь! Я с тобой не разговариваю.
— Хорошо. Мне плевать. Я с тобой тоже не разговариваю, дурак.
Я ухожу не оборачиваясь. Лотти кричит что-то у меня из-под жакета, но и она пусть заткнется, потому что мне плевать, увижу я Даниила еще или нет. Да пусть хоть этой же ночью исчезнет, как и все остальные. Ну и пожалуйста, раз эта штука из хрящей ему дороже меня. И пусть он говорит что хочет, но только чтоб не думал, будто я не найду способ избавиться от этой штуки.
Стою и моргаю, глядя на зигзаг света, рассекающий черное небо. Слышен далекий грохот, будто сонная собака рычит у дороги, если тыкать в нее палкой. В яблоне поет деряба — мне видно его пятнистое брюшко, — а Грет несется собрать белье, пока не хлынул ливень. Сдергивает простыню, бьющуюся на ветру, — и тут же хватает меня в охапку, бормоча скверные слова себе под нос, и тащит обратно в кухню.
— Я тебе велела сидеть здесь, непослушная девчонка. Хочешь, чтоб тебя изжарило молнией до хруста? Не надо за мной ходить, за фартук держаться. Почему ты никогда не делаешь, что велят? — Она берет бечевку и привязывает меня за ногу к столу. — Вот тебе, будешь у меня слушаться.
Я воплю и брыкаюсь, но Грет не обращает внимания. Без единого слова она вновь бросается на улицу. Как бы я ни дергала узел, он не развязывается, и я тогда принимаюсь тащить стол к двери, дюйм за дюймом. Он слишком большой, не пролезет. Угол цепляется за косяк. Еще одна вспышка. И еще. Наконец раздается жуткий треск, и небеса разверзаются. Дождь льет как из ведра. Я заползаю под стол, и Грет тоже приходится — она пыхтит и отдувается, толкая корзину с бельем перед собой.
Закончив сушить волосы и орать на меня, Грет наливает мне молока, пирога не дает и принимается за глажку. Обычно тут бывает и сказка. Я вижу по ее лицу, что сказка будет не из лучших.
— Давным-давно, — говорит она, плюя на утюг; тот шипит, — жил да был упрямый ребенок, который никогда не делал, что ему велят те, кто постарше да поумнее. Само собой, Боженька этой маленькой грешницей сделался недоволен, и в один прекрасный день она так разболелась, что никакой врач не мог ее спасти. Могильщик выкопал ей могилку, и упрямое дитя отнесли к церкви. Вот опустили ее в могилку, землей засыпали, но тут она ручку-то и высунула. А они…
— Почему они ее в ящик не положили? Маму унесли в ящике с медными ручками, а сверху цветы.
— Ну вот не положили.
— Почему?
— Кто знает? Может, были очень бедные. Может, она была ужас какая мерзкая. Не знаю. Не положили, и все тут. — Грет плюхает утюг, и по кухне разносится запах паленого. — В общем, засунули они ей ручку обратно в землю и сверху еще холмик насыпали из свежей земли, но та опять высовывается. И деткиной м… и кому-то пришлось пойти к могиле и хлестать прутом по непослушной ручке, день и ночь. И только после этого убралась ручка и спряталась под землю, как ей и полагается.
Я отпихиваю пустую чашку.
— Глупо. Мертвые люди руки не высовывают.
— Ой ли? Не хочешь сама проверять — давай-ка уже делай, что велят. И на будущее: когда я тебе говорю «не ходи за мной» — сиди где сидишь.
Люди все исчезают и исчезают. В основном очень старые дамы и больные, которых забрали в больницу, чтоб им стало получше. И некоторые дети. Лена трет щеки, чтобы появился какой-то цвет. Прошлой ночью мы слышали большой шум. А наутро в птичнике появилось много воронов, все трудятся. Я стараюсь не смотреть.
Хефзиба говорит, что был в Библии такой царь, его звали Орив, что означает «ворон». «Когда-то на народ Израиля нападал один ворон, а теперь глядите-ка — все налетели».
У Грет всю неделю странное настроение — то она все крушит и ломает, то уголки на фартуке скручивает и смотрит в пустоту, вздыхает. Нынче утром метет во дворе здоровенной жесткой метлой, и по углам подымаются блеклые пыльные бесы.
— Оставь меня в покое. — Она отталкивает меня в сторону. — Нет у меня времени на пустые разговоры.
Я топаю.
— Хочу сказку.
— Хоти что хочешь, барышня. Плохо дело, правда плохо. Выставляют на улицу, упреждают за неделю без малого — и это после того, как я себе все руки до мяса сбила, работая на твоего отца. И, ясное дело, все должно быть в идеальном порядке, когда великий владыка и хозяин решит вернуться домой. Я до ночи провожусь, укрываючи всю мебель от пыли. — Она выпрямляется, трет поясницу. — И как он с тобой управится, спрашивается? Как он с тобой управится?
— Хочешь, я на плитки водой побрызгаю, Грет?
— Зря ты зубы мне заговариваешь, — ворчит она. — Да и кончились у меня сказки. Ты меня досуха выжала.
Я все равно брызгаю — беру полные пригоршни воды из ведра и лью на плитки, чтобы пыль улеглась. Собираются кучки грязи, в них я потом поиграю.
— А куда ты пойдешь, Грет?
— Домой, — горестно отвечает она. — Больше некуда. Что еще остается делать старой служанке в такие времена, кроме как вернуться к курам своим да гусям, к полям да лесам? Родители умерли, ферма теперь братнина. Конечно, он еще одной паре рук обрадуется, но старая служанка не нужна будет, когда все закончится. — Она очень громко вздыхает. — Сыновья его вернутся — если будет на то воля Божья и они выживут — и примутся за работу. И тогда что? Никому не нужен лишний рот, если не требуются руки, к нему приделанные.
— А куда сыновья ушли?
Грет хватает ведро и выплескивает воду во двор.
— В солдаты. — Она шагает обратно в кухню. — После того, как со мной обошлись, я заслуживаю лучшего кофе из красивой чашки — в последний-то денек. — Она приносит мамину, из гостиной. На чашке розовые розочки, а на ручке — маленький бутончик. Блюдце такое тонкое, что, кажется, просвечивает. Мне молоко наливает в обычную дурацкую детскую кружку.
— Жил да был честный и трудолюбивый солдат, — начинает она, отрезав нам по громадному куску пряника — не успеваю я заныть, — и напали на него разбойники. Украли все, что у него было, а потом выкололи глаза и привязали к ближайшей виселице.
Я так старательно закрываю глаза руками, что забываю глотать и давлюсь, и плюю крошками себе на колени.
Грет хлопает меня по руке.
— Еще раз так сделаешь — и я брошу твой пряник птицам. — Она доливает себе в чашку. — И вот несчастный слепой солдат слышит — крылья бьют. То на виселицу уселись три древних ворона…
— Откуда солдат узнал, что это вороны, у него же глаз больше нету?
— По голосу, глупышка.
— У ворон нет…
— Ты будешь сказку слушать или нет? Ну и вот. Первый ворон сказал своим братцам, что королевская дочка того и гляди помрет и Король отдаст ее в жены только тому, кто сможет ее спасти.
— А если вдруг это дама…
Грет поджимает губы.
— «Но на самом деле, — сказал ворон, — вылечить ее проще простого. Надо только поймать жабу вон в том пруду, сжечь ее заживо и сделать зелье, добавив немножко воды». Тут второй ворон говорит: «Ой, были б люди такие же мудрые, как мы. Вы только послушайте, братцы-вороны. Сегодня ночью с небес падет чудодейственная роса. Промоет слепой глаза ею — и прозреет».
Третий громко каркнул: «Ой, если б только глупый Человек был хоть вполовину такой же мудрый, как мы. Вы же слыхали о великой засухе в городе, правда? А ведь всего-то и надо, что убрать каменную плиту на базарной площади, — оттуда вода так и брызнет, на всех хватит». С этим и улетели вороны ночевать, а солдат, который каждое их слово слышал, промыл глаза бесценной росой, и зрение у него тут же вер…
— Но ты же сказала, что разбойники ему глаза выкололи, как же он…
— Тихо! — ревет Грет.
— Дурацкая история. — Я пинаю ножку стола и складываю руки кренделем.
Грет смотрит на меня поверх чашки.
— Пора мне за мебель приниматься.
— Наплевать. Я знаю, что там дальше. Дурацкий солдат делает вот это все и женится на дурацкой принцессе.
— Ха, там не только это есть. — Грет поднимается из-за стола. — Но если не хочешь слушать…
— Что?
Она опять усаживается, наливает себе третью чашку и отрезает нам обеим еще пряника.
— Однажды солдат, который уже теперь женат на принцессе, повстречал тех разбойников, что жестоко на него напали. На нем, понятно, богатые одежды, и они его не сразу узнали. Но он сказал им, что тогда случилось, и они упали на колени и стали просить пощады. И солдат их не казнил, а отпустил. Если б не они, сказал он, не видать ему теперешней удачи. И потому разбойники решили провести ночь под той виселицей и узнать, не расскажут ли вороны еще каких секретов. Но вороны разъярились. Они знали, что кто-то их подслушал: все, что они обсуждали, сбылось. И они отправились искать подслушивальщика и нашли под виселицей разбойников. — Грет медлит.
Склоняется вперед, говорит тише: — Вороны налетели на разбойников, сели им на головы и выклевали им глаза. Тык! Тык! Тык! — Она слюнявит палец и — тык-тык-тык — подбирает крошки пряника со стола. — Тык! Тык! Тык! Исклевали вороны им лица так, что их потом никто не мог признать, даже их родные матери.
Тут за окном пара птиц, хлопая крыльями и ссорясь, падает с дерева. Я знаю, что это просто дрозды, но все равно бегу к себе наверх и прячусь под кроватью. Посреди ночи рассказываю папе, какой мне приснился кошмар, он очень сердится.
— Эту женщину надо изолировать.
Даниила я не вижу целых два дня. Наконец, хоть мне лучше и скрываться, я иду его искать. Тощее созданье все еще болтается с ним рядом, молчит, но Даниил на меня не смотрит. Что-то у него не так с лицом. Всякий раз, когда я встаю перед ним, он отворачивается.
— Что случилось?
Он прикрывает рот рукой, голос у него приглушен.
— Я упал. Довольна?
— Не глупи. Что на самом деле случилось?
— Не лезь не в свое дело.
Я тяну его за руки.
— Отстань.
Рот у него в крови, недостает пары зубов. Мне вдруг делается очень тошно.
— Это дядя Храбен, да?
— Ты про этого Arschloch[173] с желтыми волосами и здоровенной черной собакой? Который все время улыбается — даже когда тебя бьет? Он тебе не дядя, почему ты его так называешь?
— Мне папа велел его так называть. — Так вышло, что, когда ставишь «дядя» перед чьим-нибудь именем, оно как-то уютнее. — А что он сказал?
— Ничего. — Он все равно проговаривается. — Не ходи туда. Пожалуйста. Дай слово, что не пойдешь.
— Не пойду.
Даниил хватает меня за руку.
— Нет. Правда, Криста. Поклянись, что не вернешься туда. — Он старается не заплакать. Из носа у него течет, он утирается рукавом. — Поклянись! Поклянись! Нет больше никого. Один я остался. Если ты… тоже исчезнешь…
Он пялится на меня, и я надеюсь, что он не видит, о чем я думаю, потому что знаю: мне придется пойти в башню к Храбену — в точности потому, почему Даниил просит меня не ходить. Даниил — мой единственный друг. Я вспоминаю Князя Тьмы, его здоровенные зубы и злые глаза. Он делает, что ему хозяин велит. Вряд ли дядя Храбен велит собаке кусать меня, а вот Даниила даст съесть, не моргнув глазом.
— Не дури. Никуда я не денусь.
— Честно?
В доме рядом с зоопарком, где мы раньше жили с папой, была полка с книгами про ковбоев и индейцев, ее написала дама по имени Май Карл[174]. Некоторые были про Старину Разящую Руку, который стал кровным братом Виннету, индейца апачи. Они вместе пережили множество приключений и храбро сражались с врагами плечом к плечу. Я закатываю рукав.
— Можем стать кровными братьями.
Даниил качает головой.
— Это все для детей. Да и ножа у нас нет. — Он воротит нос — я нашла острый камень. — Просто дай мне слово, что туда не пойдешь.
— Даю слово, — соглашаюсь я, но не говорю на что.
— Тихо! — орет Грет. — Несчастная моя голова раскалывается от твоих «почему» да «что»! Как есть, так и есть — вот и весь сказ. Тебе еще повезло, что ты не дева, у которой шестерых братьев злая колдунья превратила в лебедей. Есть только один способ развеять заклятье: семь лет никому не рассказывать эту ужасную тайну, а тем временем шить волшебные рубашки из цветочных лепестков. И с губ у нее ни одного словечка не слетело за эти семь лет. Ни слова, ни вздоха, ни даже писка.
Ноги у меня стали как громадные, тяжелые камни, которые надо втащить по лестнице в башню. Я захожу без стука, и дядя Храбен, похоже, рад меня видеть. Он дает мне два «Negerksse» на блюдечке. Первый я ем целиком, а со второго тихонечко объедаю шоколад, который поверх зефира. Затем мы идем к комоду. Я достаю свои праздничные платья, прикладываю к себе; Лотти напоминает, что вот это было на мне, когда она вернулась со мной к нам домой. Кто хочешь заметит, что оно мне очень мало.
Дядя Храбен садится за стол и прикуривает сигарету.
— Хочу, чтобы ты, красотка Криста, для меня сегодня сделала кое-что очень особенное.
Я отшатываюсь.
— Что?
— Угадай.
Я качаю головой.
— Нет. — Но голос у меня такой тихий и слабый, что я не уверена, услышал ли он. — Нет.
— Да точно угадаешь. Попробуй. — Он откидывается в кресле, улыбаясь мне и выдувая колечки. — Я тебя уже спрашивал раньше. Ты же не забыла?
— Вы хотите, чтоб я села вам на колени?
— Всему свое время, Криста. Сначала другое. — Я не отвечаю, и он говорит очень мягко: — Я просил тебя называть меня кое-кем. Вспомнила? Я просил называть меня папой.
— Не буду.
— Надо.
— Не бду, — повторяю я и делаю еще несколько шагов назад. За мной кресло, дальше идти некуда.
Дядя Храбен смеется и бросает мне «Pfennig Riesen».
— Сядь там, Криста, и подумай, а я тут пока закончу кое-что, — говорит он и кивает на стопку бумаг. — Скоро надо будет вывести Der Frstder Finsternis на прогулку. Уверен, ты образумишься быстрее.
Рядом с моим стулом — маленький столик, в полуоткрытом ящике — письменные принадлежности. Сунув ириску в рот, я тихонько достаю ручку и скляночку с синими чернилами, записываю цифры, которые у Даниила на руке, себе на руку. Если не быть нам кровными братьями, будем чернильными. У меня цифры не такие аккуратные, как у него: перо крестиком, и чернила подтекают. Некоторые расползлись…
— Ты что, во имя Господа, творишь? — кричит дядя Храбен, хватая меня за руку. — Что это? — Не дожидаясь ответа, принимается тереть мне запястье носовым платком так сильно, что кожа краснеет. И все равно цифры не оттираются. Он замечает, что я улыбаюсь, хватает Лотти и швыряет ее в окно, а потом захлопывает его. — Пора взрослеть, Криста. Я проверил архивы и выяснил, что ты несколько старше, чем кажешься. Взрослые девочки думают кое о чем поинтереснее, а не о грязных старых Spielzeuge[175].
Я глотаю ярость и слезы.
— О Пифагоре, например?
Дядя Храбен смотрит на меня странно.
— У вас, юных дам, все должно быть просто: кое-какие удовольствия, а следом Kleider, конечно, затем Kinder, Kche und Kirche[176]. По старинке оно иногда лучше всего. — Он снимает со стены поводок. — Ясно?
— Да.
— Да, папа. — Он улыбается и наматывает поводок на руку.
— Да, папа. — Я выдавливаю из себя слова сквозь стиснутые зубы. Дядя Храбен глубоко вздыхает.
— Так-то лучше. — Похлопывает меня по попе. — Беги, Криста. Вернешься завтра. Я не буду кормить Князя — чтоб ты не забыла. А он теперь — свирепый пес, немного опасный. Ничего не поделаешь, приходится — чтобы всем было спокойно.
Даниил ждет меня внизу у лестницы. Существа нигде не видать.
— Ты обещала сюда не ходить, — с упреком говорит он.
— Не обещала. Ты почему за мной следишь?
— Я всегда слежу. Обещай, что больше сюда не придешь.
— Ладно. — Я принимаюсь искать под окном.
— Если ты куклу свою ищешь, она вот. — Даниил протягивает мне все, что от нее осталось, — серовато-розовые куски. Одна рука. Одна нога. Лица нет. Даже глаза пропали. Я тяжко сглатываю.
— Лотти запоминала мои сказки, чтоб я их потом записала. А теперь все пропало.
— Можно и новые придумать.
— Нет. Я больше ни одной не придумаю. Никогда.
— Не говори так. — Даниил вроде как ужасается. — Как же еще мы отомстим?
Я пожимаю плечами.
— Да зачем? Это все не взаправду.
— Может стать взаправду, если мы очень захотим.
— Нам для этого нужно волшебство. — Я решаю похоронить Лотти в птичнике, где сажала бобы. — А волшебство тоже не взаправду.
Я уже спрашивала об этом у Сесили.
— Все волшебство — в воображении, дорогая моя, — сказала она, будто в этом и весь сказ.
— В смысле, если я сильно воображу, все может случиться?
Сесили рассмеялась.
— Возможно, — сказала она, но мне видно было, что на самом деле нет.
Даниил нервно озирается.
— Нам тут лучше не болтаться.
— Пошли. — Я бреду к птичнику, и там мы складываем останки Лотти в холодную, твердую землю. — Прах ко праху, — говорю я. Больше ничего не помню. Все ушли: мама, папа, Грет, а теперь вот и Лотти.
— Зато у нас хотя бы есть мы. — Даниил сжимает мне руку. Я и не заметила, что он ее держит. — И никогда не разлучимся.
— Если ты меня никогда не бросишь, — говорю я, немножко утешаясь оттого, что все еще помню кое-какие истории Грет, — я тебя не брошу.
— Хочешь верь, хочешь нет, но в дремучем темном лесу бросили много других детей, — говорит Грет. — И, как кое-кто вот прямо в шести шагах от меня, некоторые были очень скверные, никогда не делали, что им велят, пачкали себе одежду, пререкались. Что ж родителей-то винить. Взять вот сказку про Фундефогеля[177]…
— Дурацкое имя. — Я вытираю липкие руки о перед платья и жду, что Грет мне сделает, но она слишком увлеченно шинкует лук, у нее слишком слезятся глаза, и она ничего не замечает.
Она шмыгает носом.
— Его так назвали, потому что его многострадальная мать дала коршуну его унести. В общем, лесник нашел мальчика и принес его домой, в приятели своей дочке Лине. Дети выросли и стали неразлучны. Так случилось, что у них в хозяйстве была очень вздорная кухарка — некоторые не догадываются, как им повезло, — и кухарка эта к тому ж еще и ведьма. Она решила зажарить и съесть Фундефогеля, но Лина об этом прознала. И парочка сбежала. Конечно, кухарка бросилась в погоню. Лина, завидев ее, обернулась к найденышу и сказала: «Если ты меня не бросишь, я тебя не брошу». «Никогда», — ответил Фундефогель.
— Никогда, — говорит Даниил. — Я всегда с тобой буду.
Я не могу ему сказать, что между ним и Князем Тьмы — я одна.
— Вполне естественно, — говорит Храбен, а я все никак не могу уняться — плачу и плачу. — В следующий раз будет лучше. Завтра приходи. — Он смотрит мне в лицо. — Ты должна прийти опять. Иначе твой юный друг… ему тут уже не рады. Я даю ему жить… пока. Это мой тебе подарок. И вот это. — Он кладет на стол пирог, но мне его не надо. У меня рот распух и болит. Слезы жгут щеки. Везде больно.
Теперь каждый вечер я должна ходить к Храбену в башню. Сегодня у него в гостях компания друзей. У них в разгаре шумная игра в «скат», и он велит мне посидеть в уголке и подождать. Одна колода карт рассыпалась по полу. Чуть погодя я их все собираю и рассматриваю картинки на оборотах. На них — всякие места в Германии: Берлин, Мюнхен, Инсбрук, Краков, Вена… «Скат» — очень шумная игра: geben — horen — sagen — weitersagen[178]; папа как-то раз попробовал научить меня правилам, но мне больше нравилось играть с Грет в «квартет». Кто-то из гостей хочет играть в «двойную голову», но остальные не соглашаются. Играют на деньги, кажется, и передают по кругу бутылки с тем, что папа держал под замком в буфете. Говорят о чем-то под названием «Клуб адского пламени»[179]. Он возник в Лондоне много лет назад, но Сесили его никогда не упоминала.
— Делай, что должен, — бормочет один из них и смотрит на меня. — Братьев-монахов нет, зато есть маленькая монашка. — Все смеются.
— Найди себе свою, — говорит Храбен. — Представь, сколько мне пришлось ждать.
— Ну и дурак.
— Дело-то уже сделано? Тогда какая разница?
— Посмотрим, как игра пойдет, — говорит первый, оглаживая подбородок и глядя на меня.
Чуть погодя Храбен уходит.
Грет утирает пот со лба углом фартука, измаранным в красном. Могуче сопит.
— Та глупая дева — как и многие прочие — и ухом не повела, но потом было поздно: мерзкий жених и его дружки уже стояли на пороге. Старуха только и успела спрятать деву за бочкой. Злодеи вошли в дом, пьяные в дым, и втащили за собой юную девушку. Сначала они заставили ее пить с ними вино: стакан красного, стакан белого и стакан черного. А потом стащили с нее красивые одежды и свалили в кучу, чтоб потом продать на базаре. А потом… — Грет вдруг умолкает. Откашливается и косится на дверь.
— Что? — Голос у меня — не голос, а хрип. Мне уже хватит и того, что услышала, но я хочу знать, что дальше.
— А потом они… хм… когда все зло содеяли…
— Какое зло?
— Такое, что я ебе и сказать не могу. Скажу только, что длилось оно долго и девушка кричала, и плакала, и звала на помощь Господа и всех его ангелов. А когда они покончили с тем, что делали с ней много-много раз, она уже была мертва…
Дверь в башню отперта, и я пробираюсь внутрь, на ощупь, хватаясь за мебель, и добредаю до стола Храбена. Достаю ножницы и обрезаю волосы как можно короче — надеюсь стать страшной как смертный грех. Когда уж не могу нащупать длинных прядей, я отыскиваю его сломанную серебряную зажигалку — ту, на которой оттиснута голова орла, торчащая из цветов и папоротников. Лишь с двадцатого раза удается высечь искру. Я поджигаю сначала бумаги Храбена, затем его игральные карты, а потом все мои платья и красивые вещи, чтобы они не оказались в сортировочном сарае и их не продали с остальной одеждой. С мебелью приходится возиться дольше.
Мне не везет: Йоханна замечает пламя прежде, чем хоть что-то по-настоящему загорелось. Она выталкивает меня взашей, приставив нож к горлу, плюет в меня. Мне все равно, что будет дальше. Я уже мертвая. Руки и ноги делают все механически. Но, поскольку Храбен со мной еще не разобрался, наказывают меня пока так: запирают в Бункере, чтоб я образумилась.
— Шалава! — Йоханна швыряет меня внутрь с такой силой, что я долетаю до задней стены. Лежу в темноте, весь дух из меня вышибло, а вокруг только эхо от хлопнувшей двери и скрежета ключа. Когда гаснут и эти звуки, я понимаю, что не одна. Здесь темно, глаз выколи, и воздух сперт, но я слышу, как что-то двигается.
— И что же Император сделал? — спрашиваю я, когда Грет наконец перестает бурчать.
— Он приказал своим стражникам запереть маленькую врушку в погреб с целым возом соломы и с прялкой. Там, в темноте, она и сидела. Одна. Ей и сухой корки-то не доставалось пожевать, не говоря уже о краденом вишневом пироге. Прясть всю жизнь, пока не сбудутся мечты Императора — пока все его сокровищницы не переполнятся золотом.
— А почему она не выбралась из того угольного погреба?
— Императоры не топят углем. Они жгут банкноты.
— А что потом с ней случилось? — Я прыгаю с одной ножки на другую, мне интересно, чем все кончится. — Никто не пришел ее спасти?
— Нет, — обрывает меня Грет и хватается за мешок с прищепками. — На сей раз гадкую девчонку придется не на шутку проучить за вранье. Она, может, до сих пор там и сидит, если только ее не съели заживо голодные крысы.
Чем бы ни было, оно приближается. И это не крыса: слишком большая и слишком сопит.
— Брысь, — рявкаю я, вскидывая кулаки.
— Не бойся. Я тебя не трону. Ты та девочка, которая сказки рассказывает.
Я знаю этот голос. Это жуткая Ханна с полосатыми волосами.
— Уйди. Отстань от меня.
— Тебя Кристой звать, верно?
Не отвечаю. Все слишком болит. Я хочу только, чтобы тихо было, но Ханна принимается говорить и не умолкает. Я затыкаю уши пальцами, а когда вынимаю, слышу, что она описывает сад ее семьи. Там большое ореховое дерево, под которым здоровенная грядка лугового шафрана, и такие у него цветы светло-розовые, так трепещут на легчайшем осеннем ветерке, что ее Grofi-рара звал их «нагими дамами».
Всякий раз, стоит мне закрыть глаза, являются злодеи, пьяные в дымину, и тащат за собой девочку. Сначала они заставили ее пить с ними вино: стакан красного, стакан белого и стакан черного. А потом сорвали с нее красивые одежды и сложили их в кучу, чтобы потом продать на базаре. А потом они…
Безобразная Ханна рассказывает мне про конюшню, где жила белая сова — днем спала, а по ночам охотилась на мышей, — а еще надоедливая старая кошка, считавшая, что это ее личные владения. Они постоянно воевали: сова кричала, а кошка надрывно мяукала, пока кухарка не разливала их водой из ведра.
А потом опять голос Грет:
— А потом они… хм… когда все зло содеяли…
— Какое зло?
— Такое, что я тебе и сказать не могу. Скажу только, что длилось оно долго и девушка кричала, и плакала, и звала на помощь Господа и всех его ангелов…
Я задремываю, просыпаюсь, а Ханна все говорит. Теперь про кабинет дедушки, с облезлой головой оленя на одной стене и портретом его отца в странных, старомодных одеждах. На столе стояла здоровенная модель внутреннего уха. Ханна страшно ее боялась. А ну как уховертка туда заберется и заблудится в лабиринте? А еще там были сотни книг: Gropapa был большой мыслитель, знакомый с трудами знаменитых философов — Платона, Канта, Милля, Спенсера, но ни одного смазливого личика не пропускал. Иногда они с братом Эрихом смотрели его подборки картинок — копии великих полотен, изображавших красивых женщин. И была там одна особенная — «Лилит» работы Джона Коллиера.