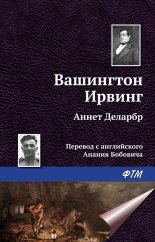Подвиг Севастополя 1942. Готенланд Костевич Виктор

– Я тоже.
– У меня сухари остались. Хочешь?
– Давай. Воды у тебя нет?
– Нет.
Мы битый час плутали между деревьев и кустарников. Возможно, просто кружились на месте. В конце концов набрели на какие-то строения. Вглядевшись во тьму, я сумел разобрать, что перед нами разрушенный дом – правда, не понял, жилой он или нет. Рядом стоял полуразваленный сарай – его я разглядел благодаря очередной взвившейся в небе ракете. Вокруг было безжизненно и тихо – дальний треск перестрелки не в счет. Я посмотрел на Марину, почти неразличимую во мраке. Она бессильно опустилась на землю.
– Алешка, может, нам лучше остаться тут? Утро вечера…
– Не факт, – ответил я ей. Но отчетливо осознал, что дальше идти не смогу. Существует предел всему. Пятые сутки… Или четвертые? Я поступил по военно-морскому принципу: лучше принять плохое решение, чем не принять никакого. Что-то такое я где-то читал.
– Ночуем здесь. Воды бы еще найти.
Удивительно, но рядом с домом отыскалась бочка, а рядом с ней – жестяная банка. Невероятно осторожно, чтобы не лязгнуть, я опустил банку вовнутрь и зачерпнул со дна. Попробовал воду с пальца, не тухлая ли она. «Кажется, можно пить».
Мы утолили, как могли, жажду (вода была довольно противной) и устроились в сарае, на деревянном полу, набросав на него собранное по углам прошлогоднее сено. Я твердо решил, что проснусь через два часа, и мы немедленно уйдем – пока нет немцев. Свой план я изложил Марине. «Лучше, конечно, отдыхать по очереди», – осторожно добавил я. Оба мы понимали – так у нас нипочем не получится.
– Два часа, и уйдем, – согласилась она.
Несмотря на полное изнеможение, уснули мы не сразу, успев переброситься парой слов. Марина спросила:
– Ты, Алеша, сам откуда?
Не вдаваясь в подробности, я назвал ей город и область.
– Надо же, как далеко. А меня в Севастополь привезли, когда мне десять было. Раньше мы с мамой в Ялте жили. Мой брат Федька, старший, там так и остался.
– А сейчас он где?
– Не знаю. В армии, наверно, если жив. У тебя родители кто?
Я ответил, опять без подробностей. Надо было скорей засыпать.
– А у меня отец на флоте. Командир подводной лодки. У нас квартира была на Корабельной. Знаешь, где это?
– Слышал.
– Рядом с Ушаковой балкой. Там красиво летом, парк. Помнишь адмирала Ушакова? Это он приказал разбить.
Мне захотелось сделать ей приятное, и я пообещал:
– Когда закончится, приеду к тебе в гости. Покажешь квартиру. И балку свою покажешь.
Марина всхлипнула.
– Разбомбили квартиру, Алеша, неделю тому назад. И маму убило. Нас эвакуировать хотели. Но я с декабря в госпитале работала, а она не ехала из-за меня, как же так, ребенка оставить. Корабельную немцы сначала почти не трогали. Еле маму уломали, через день должна была на транспорт сесть.
– Прости.
– Что же тут поделаешь.
Я постарался переменить тему.
– Ты в каком служила госпитале?
– Сначала в главном, потом в Инкерманском, в штольнях на винзаводе. В апреле всех молодых девчат приказали отправить в войска. Я и попала в санчасть. Сначала обрадовалась – знакомых много, у нас в Инкермане лежали. Мишка Шевченко, Некрасов. Ходила гордая, младший сержант. Пока спокойно было. А началось – стало страшно. Тебе бывает страшно, Алеша?
Я не знал, чего ей хочется услышать. На всякий случай решил соврать.
– Да нет, не очень. Ты не бойся. Мы же с тобою вместе. У меня винтовка. И патронов десять штук.
Патронов было шесть, один в стволе и россыпью в карманах.
– Я очень рада, что мы вместе. Правда, Лёш… Мне так страшно теперь все время.
– Всем страшно, Марина, – сказал я не очень последовательно.
– Это правда. Но ведь мы их не боимся?
– Конечно, нет. Скоро Гитлеру крышка.
– Только не в этом году. Жалко.
– Не в этом, так в следующем. С нами все другие демократические страны.
Я соврал в который раз. В том, что дело кончится на следующий год, я усомнился еще в мае, когда немцы отбили Керчь и что-то случилось под Харьковом. Ведь Керчь теперь придется освобождать повторно. А если мы будем освобождать каждый город по два раза, то нам не управиться с немцем, быть может, до конца сорок четвертого. А то и до сорок пятого. Однако Маринке я ничего не сказал. Зачем расстраивать человека? Ей и без этого было плохо. Но ведь держалась, хотя и страшно. Сказали бы мне раньше – девчонка, под сплошным огнем, почти две недели… А тут ведь и прежде бывало несладко.
Глаза слипались. Я повернулся на бок. Маринка истолковала мое движение на собственный женский лад. Тронула меня за плечо.
– Ты чего отодвинулся на целых два метра? Обжечься боишься? Я не кусаюсь.
– Отстань, – ответил я. Как будто было непонятно – я не хотел, чтоб она плохо подумала обо мне. Обидеть ее не хотел, идиотку приморскую. Но все же придвинулся чуть ближе. Чтобы еще раз ее не обидеть. На женщин, как известно, не угодишь.
– Дурачок ты, Алешка.
Непонятно зачем я брякнул:
– Я знаю, ты лейтенанта любишь.
– Совсем дурак.
– А кого тогда?
Она нащупала в темноте мою руку и неловко шмыгнула носом.
– Мне тут больше заняться нечем? Ты сколько дней не спал?
– Не знаю.
– Вот и я не знаю. Так что отдыхай, политбоец. Будешь потом сочинять о ночи с Волошиной на Мекензиевых Горах. Вы же любите потрепаться.
– Дура, – без злости ответил я.
Она не обиделась. Вложила пальцы в мою ладонь и сразу же уснула. Я тоже провалился в сон. Тяжелый, черный, без сновидений, а значит – без танков, снарядов и немцев.
– Komm hier, guck mal, so eine romantische Szene. Поль э Виржини.
Я резко открыл глаза и сразу же зажмурился – в открытую дверь сарая бил ослепительный свет. Раздался громкий смех. И снова прозвучал веселый голос, отчетливо произнесший:
– Es ist die hchste Zeit zu erwachen, meine Kinder. Zu erwachen und aufzustehen, euch zu waschen, zur Schule zu gehen. In Moskau ist schon sieben Uhr fnfzehn.
Семь пятнадцать, если фашист не врет. Сколько же я спал? Я в отчаянии поглядел на Маринку. Она сидела, закрыв лицо руками, спрятав его от света. Или от стоявших над нами фашистов. Их было трое, в выцветших куртках, расстегнутых до пупа, рукава засучены, за подсумки зацеплены каски, винтовки в руках, две наставлены на меня, одна на сержанта Волошину. Веселый немец выпустил брюки на сапоги и совсем не походил на фашистского вояку – который в фильмах, даже будучи тупым, всегда остается бравым. За плечом у немца висела моя трехлинейка.
– Ходить, ходить! – раздался еще один голос, не такой добродушный, как первый, а, прямо скажем, злой. Говоривший был невысоким, длинноносым и чернявым, ощупывал Маринку гадкими глазенками. Третий тоже пялился на нее, щеря зубы с дыркой посередине.
Мы приподняли руки с растопыренными пальцами и вышли, стараясь не глядеть ни на немцев, ни друг на друга. Я испытывал дикий стыд, и было отчего. Проспал всё на свете, проспал свою жизнь, проспал жизнь поверившей мне Маринки. Забыл простейшие правила службы. Утратил бдительность, чувство опасности. А с другой стороны, пять суток. Или четыре?
Трое немцев болтали между собой. О чем – я не понимал. Лишь выхватывал отдельные слова, произносимые веселым. Другой, казалось, говорил не по-немецки. Быть может, на диалекте, которых так много в Германии. Учитель рассказывал нам, что немцы из разных земель не смогли бы общаться друг с другом, если бы в школе их не учили общенемецкому языку. Но некоторые слова я разобрал и у злого. «Шайсе», «эршисен» и непонятное «хуре», прозвучавшее раза три.
На дворе – а это был обширный двор с не замеченным мною во тьме поваленным забором – стояли, сидели и даже лежали немцы. Курили и переговаривались. На востоке и западе – теперь, видя солнце, я знал, где восток и где запад, – перекатывалась стрельба.
«О, Ашенпуттель», – сказал, подойдя к Маринке и показывая пальцем на ее чумазое лицо, крепкий мордатый парень с пулеметом на плече, таким же, как у Шевченко. Другие заржали, хотя и не все. Один, сидевший на земле, прислонясь к стене разрушенного дома, скользнул по нас совершенно равнодушными глазами. Или просто смертельно уставшими. Лицо было худощавым и каким-то несчастным, убитым.
Мне знаками велели снять ремень. По карманам шарить не стали. Санитарную сумку веселый немец, заглянув вовнутрь, вернул обратно Марине. «Es kann ihr noch ntzlich sein, – объяснил он своим. – Im Kriegsgefangenenlager gibt еs viele Verwundeten». – «Wenn sie ankommt», – недовольно пробурчал чернявый и злой.
Мне захотелось перегрызть им глотки. И веселому, и тому, равнодушному и уставшему. Устал убивать, фашистская сволочь. «Ашенпуттель», – подмигивая Маринке, повторял, как попугай, мордатый пулеметчик. Веселый улыбался и пытался объяснить нам, что такое «Ашенпуттель». «Сандрийон… Синдереле… Копчюшек…» – перебирал он словечки на разных языках, мне одинаково непонятные и неинтересные. Повернувшись к равнодушному, крикнул: «Wie heisst es italienisch?» Тот буркнул в ответ: «Ченерентола», что-то еще раздраженно добавил и отвернулся. Веселый опять заговорил с Маринкой, но, поймав ее взгяд, озадаченно замолчал. Пожал плечами, подошел к равнодушному и присел у стены рядом с ним.
Солдат с белым кантом на вороте, унтерофицер, безучастно посмотрел на меня и Марину и махнул рукою в сторону, где уже брели, спотыкаясь, десятка два наших. Мы сделали шаг в указанном направлении, но тут нам дорогу перегородила женщина – тоже наша, но гражданская, непонятно откуда тут взявшаяся. Еще не старая, с большими красными руками, аккуратно и даже кокетливо повязанным красным платком. Улыбаясь фашистам, она громко заговорила, стараясь быть всеми услышанной – как будто фрицы могли ее понять:
– Вот они где поховалися. Я еще вчера этого байстрюка заприметила с шалавой евоной. Сховаются, а потом повылазят и станут людям вредить, партизаны проклятые. Хоть попихались напоследок, комсомольцы?
– Хватит, старая, – прервал ее по-русски человек в немецкой форме с какими-то особыми петлицами, которых Мишка, объяснявший мне чины германской армии, не рисовал. Я не заметил его появления, возможно, он пришел вместе со злобной теткой.
– Какая я те старая? – не на шутку обиделась та. – Да мне и сорока-то нету. Ты это вот что, парень, своим, нашим то есть теперь, скажи, не забудь – что мы с дедом Савелием сами вам всё сообщили. Понял?
– Награды хочешь? – зевнул в ответ русский, не прикрывая рта, можно сказать – демонстративно.
Солдаты, не понимая, в чем дело, оставили нас в покое и разбрелись по двору. Усталый и равнодушный, слегка качнувшись, поднялся на ноги и с помощью веселого товарища, то есть не товарища, конечно, а сослуживца, стал поправлять снаряжение: наплечные ремни, цилиндрический футляр противогаза и множество других вещей, которыми был обвешан.
– А кто же ее не хотит, сынок? – вмешался пожилой мужчина, видимо только что названный дед Савелий. Он выглядел почти по-праздничному: в напяленном, несмотря на жару, пиджаке, в свежей сорочке «апаш», с остроконечным воротником навыпуск. Черная с проседью борода аккуратно пострижена, от яловых сапог разило ваксой, в их носках отражалось солнце. – Ты же небось получаешь свое. Вон и на мундере цацка висит.
Русский скосил глаза на «цацку», присобаченную к карману суконного «мундера» – черный металлический кружок с изображением немецкой каски, – и криво усмехнулся.
– Храни боже от этаких цацек. Понял, черт краснопузый?
Дед Савелий не на шутку обиделся – а может, и испугался.
– Какой же я те краснопузый? Да я при царе-батюшке самый настоящий кулак был. Мироед! А при Советах – идейный вредитель. Да у меня сын – дизентир, в Ялте в полиции служит, говорили хорошие люди, жидовню пятый месяц выводит. Да я тут всех… Да я их мать… Вконец комуняки умучили православного человека. Налоги им дай, займы паскудам плати, паши сверхурочно – а за что? А чем? А на хера?
Русский немец презрительно ухмыльнулся.
– Ну, это мы, старичок, проверим. Всех проверим, каждого. До Сибири дойдем и проверим. Последнюю тварь утопим в Японском море.
Тетка, не убоявшись грядущей проверки, радостно заверещала:
– Вы их только, сынки, главное, не жалейте. Изведите так, чтобы и следа комиссарского не осталось. Всю комсомолию и пионерию.
Дед ее горячо поддержал – наступая на нас, угрожающе тыча в Маринку изогнутым пальцем и брызгая желтой слюной (та, попав на носок сапога, слегка пригасила солнце).
– Всех их под корень, всех! Стоять насмерть, гришь? Достоялись, голубчики, а? Город русской славы, гришь? А что в ём русского-то, а? Жиды, молдаване, нацмены…
Немецкий унтерофицер, казалось, тоже слушал. Во всяком случае, по его неглупому с виду лицу пробегала порою какая-то тень понимания. Вконец разошедшийся дед повернулся опять к русскоязычному фашисту.
– Уж мы-то, братцы, так вас тут ждали, так вас тут ждали, с июня прошлого на вождя Адольфа Гитлера как на святого молились заступника. А они, – он опять развернулся к нам, – окопались тут, падлы, ни проехать, ни пройти. И ведь всю нам тут землю, почву то есть значит, поиспоганили с обороной своею сраной. Двести пятьдесят дён, почитай, двести пятьдесят дён. И ведь всё перерыли тут, суки, да еще и нас заставляли копать. Сколько людей-то под бонбами сгинуло? А железа-то в почве сколько? А цементу? А снарядов, а мин? Это ж как людям работать теперь, я вас спрашиваю, господа немецкие, как развивать земледелие? Я вот сюда из Бартеньевки перебёг, сидят там еще паразиты…
Долгая речь утомила унтера.
– Schluss mit Reden! – оборвал он деда и легонько, почти по-дружески поддел того коленом под зад. Дедок моментально осекся и, растянувши до ушей свое мещанское мурло, поспешил поклониться немцу. Но в глазах промелькнула обида. Я испытал непонятное чувство: не оценили вашей прыти, Савелий Батькович, почетный вредитель села Бартеньевки.
– Шевелись! – приказал нам русский.
Я оказался в плену. И взят был без сопротивления, почти как добровольно сдавшийся предатель. Допрыгался, политбоец. Быть может, так же взяли и Якова Сталина, о котором немцы писали в листовках? (Я однажды видал такую, краем глаза, на земле, поднять ее никто не решился.) Посланный унтером мрачный солдат вывел нас на дорогу – выходит, рядом была и дорога. Мы присоединились к десятку наших бойцов, как и мы угодивших в плен. Их по левой обочине гнали на север, к оставленной нами станции. Сзади, слева и справа всё сильней разгорался бой. На юг катили мотоциклисты и бронетранспортеры с пехотой.
Конвоиров было четверо. По одному вооруженному фрицу на двух или трех безоружных людей. При том что половина была переранена – в бинтах или тряпках с багровыми, бурыми пятнами. «Боятся», – шепнул я Маринке. И тут же схлопотал по спине прикладом. «Schweigen!»
Обстрел – или что там еще – случился минут через пять, когда нас убрали с дороги, пропуская грузовики и орудийные запряжки. Кто и откуда бил, я так и не разобрал. Возможно, удар нанесли с самолетов. В гуще немецкой техники неожиданно полыхнуло, нас ослепило, сбило взрывной волной и обсыпало сверху камнями. Кто-то из наших завыл от боли. Приподняв чуть голову, я увидел красноармейца, лежавшего на боку, вывернув руку назад, – лицом ко мне, залитым кровью и мертвым. Не глядя по сторонам, я потянул Маринку за собой и быстро пополз вместе с нею к видневшимся рядом дубкам. На дороге опять громыхнуло. В двух шагах от Маринки с шипением врезался в землю кусок покореженного металла. Если бы чуть левее, боже… Мы вскочили и понеслись. Перед глазами вспорхнули сбитые пулями листья. Мимо, подумал я, и мы, царапая лица, вломились в заросли. На дороге прогремело в третий раз. Закричала раненая лошадь.
– Не останавливаться! – крикнул я, безжалостно дергая Маринку за руку. Она молча бежала за мной и впервые споткнулась шагов через двадцать. Я помог ей подняться и опять поволок вперед. Еще шагов через сто она повалилась на бок. Я опустился на колени. Из Маринкиного рта струилась кровь. По гимнастерке расплывалось темное пятно.
– Отвоевалась, – прошептала она еле слышно. По грязной щеке ручейком пробежала слеза.
Я вскинул голову и прислушался. На дороге по-прежнему что-то рвалось. По дубкам не стреляли, немцам было теперь не до нас. Марина тяжело закашлялась, на губах вскипела розовая пена.
– Кажется, в легкое… Правое… нижняя доля… или средняя… Больно… дышать не могу… У меня в сумке бинта… немножко… и марля…
Я, как мог, осторожно ее приподнял (Марина беззвучно охнула) и снял с нее сумку. Бинт и марля были на месте. А ведь запросто могло и не быть.
– Кровь остановить… – задыхаясь, шептала она. – И чтобы воздух не попал… Пневмоторакс… Наложи побольше… Перетяни посильнее… Алешка… Посади меня… Ноги вытянуть…
Марина потеряла сознание. Я закатал на ней гимнастерку, наложил на черневшее в спине отверстие марлю и крепко забинтовал ослабший Маринкин торс. Тоненький, бинта хватило. Натянул гимнастерку обратно, осторожно коснулся рукою волос. Марина очнулась и снова закашлялась кровью. На лице проступили синюшные пятна. Я тихо сказал ей – готово, передохнем и двинемся дальше, будет надо, я понесу. Она приоткрыла губы и чуть заметно шевельнула ресницами. Я наклонился и разобрал:
<>– Совсем не могу дышать… Уходи… всё равно умру…Но я знал, что она не хочет, не может этого хотеть – и до конца держал ее за руку. Полчаса еще или час. Она давно потеряла сознание, но продолжала вздрагивать, и я на что-то надеялся, хотя надеяться было не на что.
Потом сосредоточенно отыскивал пульс. На предплечье, на шее, у виска. Подносил свое лицо к окровавленному рту, пытался уловить дыхание. Заглядывал в зрачки. И тихо, по-щенячьи скулил.
Взяв себя в руки, занялся делом. Рядом нашлась воронка от бомбы – немцы кидали их щедро, далеко не всегда по целям. Не очень большая, но Марина вместилась вся, лишь подогнулись немножко ноги в стертых до дырок брезентовых сапогах. Как мог присыпал землей, сгребая ее ногтями. Забросал листьями, густо лежавшими рядом. Прошлогодними и недавними, сорванными разрывами. Повторял то ли вслух, то ли про себя: «Суки… Сволочи… Гады… Фашисты…» Словно это могло помочь.
Вот и всё. Я взял себе медицинскую сумку, вытащил из гимнастерки документы. Красноармейскую книжку, бакелитовый смертный пенальчик, сложенные вчетверо бумажные листы. Подержал в руках Маринкину пилотку, пятьдесят шестого размера, с тремя иголками внутри, с намотанной на них черной, белой, зеленой ниткой. Хотел сохранить на память. Потом передумал, пилотку и сумку положил в воронку рядом с ней. Вернул на место пенальчик – иначе не опознают. Бумажные листки, не разворачивая, засунул в нагрудный карман. Книжку машинально развернул. Внизу странички густо покраснели, от карточки осталась только верхняя половинка, с очень серьезным и умным лицом. Я попробовал читать, но буквы поплыли перед глазами, и я, завыв, повалился лицом на траву.
Возмездие
Флавио Росси
12-14 июня 1942 года, шестой, седьмой и восьмой день второго штурма крепости Севастополь
Через день после нашего возвращения у Грубера была лекция перед туземной аудиторией, и он позвал меня с собой. Я попытался отделаться, ссылаясь на необходимость писать очерк «Казаки против Сталина» (я решил – пусть «добровольные помощники» будут у меня казаками). Но зондерфюрер проявил настойчивость. «Флавио, если я буду один, я не выдержу и кого-нибудь пристрелю».
Содержание выступления прошло мимо меня, похоже, большую часть я попросту проспал. После лекции Грубер потащил меня на обед в «Шашлыки и чебуреки» – тамошняя продукция нравилась нам обоим, причем я отдавал предпочтения чебурекам, тогда как зондерфюрер – шашлыкам. В «Шашлыках и чебуреках» мы встретили Дитриха Швенцля. Обед обещал быть приятным, но минут через пять в кафе явилась служба безопасности в лице оберштурмфюрера Листа. Его сопровождал русский помощник в штатском – среднего роста, среднего телосложения, средней степени облысения. Короче, весьма невыразительной, шпионской внешности. Он представился офицером старой армии Ширяевым, однако чина своего не назвал. Выговор выдавал долгое пребывание в Берлине. С Ширяевым пришла его знакомая, девушка внешне приятных форм, брюнетка из разряда жгучих. Но за маской наружной красоты наметанный взгляд легко обнаруживал внутренний лед. Тип, подходящий для клубов и ресторанов, так сказать, представительский, не более. А следовательно, не мой.
Занявши место у нас за сдвинутыми столами, оберштурмфюрер моментально овладел инициативой.
– Хочу вас поздравить, господа, возмездие свершилось. Гейдрих не остался неотомщенным. Официального сообщения пока что нет, но мне по знакомству сообщили кое-какие подробности. Довольно занятные.
– Предполагаю, – сказал Ширяев. – Я знаю лишь название деревни.
– Деревни? – не понял Грубер.
– Ну да, – подтвердил Лист. – Деревня Лидиц, в окрестностях городишка… – он ткнулся носом в открытый им заранее блокнотик, – Кладно.
– Где это? – спросил Дитрих Швенцль.
– Рядом с Прагой, – объяснил Ширяев, – немножко на запад. Я бывал там проездом, когда гостил у Масарика. Не по собственной воле. Но у меня не совпали с ним взгляды.
Из последней сентенции я не понял ровным счетом ничего. Чехословацкий президент Томас Гариг Масарик умер еще до Судетского кризиса и вряд ли знался с типами, подобными русскому коллеге оберштурмфюрера Листа.
Повисла пауза. Грубер неохотно спросил:
– И что же в этом Лидице случилось?
Я подозревал, что он совсем не жаждет услышать о возмездии за Гейдриха. Что могло понравиться Листу, совсем не годилось для нас. Я нервно отпил вина. Лист не спешил и терпеливо дожидался, пока ширяевская дама догложет курью ножку и превратится в слух. Он дорожил каждым членом аудитории.
Наконец ножка была объедена, и Лист, широко улыбнувшись, ответил на вопрос зондерфюрера о том, что случилось в Лидице.
– Его больше нет.
И снова замолк, наслаждаясь эффектом. Подозреваю, эффект был неполным. Мы не поняли, что это значит – «нет».
– Его сровняли с землей? – осведомился Швенцль. – А куда отправили жителей?
Лист сокрушенно развел руками, поражаясь ограниченности Дитриха.
– Когда я говорю о населенном пункте, я имею в виду прежде всего население. Человек для нас стоит на первом месте, в этом смысле я гуманист. Все мужчины старше шестнадцати расстреляны. Сто семьдесят три человека.
Я огляделся. Грубер был бледен. Швенцль напряжен. Ширяев с аппетитом ел. Его брюнетка тоже. Лист продолжал улыбаться. Ширяев обтер салфеткой рот.
– Вы обещали подробности.
– Да, помню, Михаэль. Деревню окружили на рассвете. Женщин и детей заперли в школе, мужчин отправили на какую-то ферму. В семь утра начался расстрел. Ликвидировали группами по пять человек.
– Сколько же это тянулось? – удивился Ширяев. – Тридцать пять партий.
– Чертовски долго, закончили после полудня. Если бы не спохватились и не стали кончать по десять, не управились бы и к вечеру.
Звякнула вилка. Кажется, у Швенцля. Ширяев скептически заметил:
– Все-таки нетехнологично. Если бы так долго возились у нас, боюсь… Помню, в Первомайске мы работали три недели, но там было десять тысяч, а материал поступал постепенно. Не только местные евреи, но еще и толпы пленных коммунистов, партактив и всякий подозрительный сброд. Нехватка исполнителей, охрана, то да сё.
Лист с ним не согласился.
– Лидиц – совсем другое. Смысл имелся в самой продолжительности акта. Возмездие должно быть торжественным, поспешность в данном случае неуместна. Как в любви. Это во-первых. Во-вторых, представьте себе, что чувствовали мужчины, часами ожидая очереди. Что пережили их матери, жены и дети, слыша новые и новые залпы. Наверняка многие надеялись, что расстрел прекратится и их-то мужичков пощадят. Кстати, в тот день расстреляли не всех. Некоторые работали в шахте, их было… – Лист заглянул в блокнот, – девятнадцать человек. Вчера отправили в Прагу. Вероятно, расстреляют – решение принято, исключений быть не может.
– Стреляли в затылок?
– Ну что вы. Все-таки не Первомайск какой-нибудь. Хотя не знаю, как у вас там было, думаю, вы просто косили из пулеметов. В затылок – это заурядная ликвидация. А тут серьезное символическое мероприятие.
– С барабанной дробью? – ухмыльнулся русский.
– Пожалуй, пережиток. Хотя выглядело бы недурно. Нет, все же слишком.
– Глаза завязывали?
– Вряд ли. Возня. Да и зачем лишать людей возможности полюбоваться мертвыми соседями? Быть может, для кого-то это стало последним утешением. Представьте, вы идете к изгороди с матрасами, а по дороге встречаете хозяина козла, что недавно погулял у вас на огороде.
– Да вы шутник. А женщины и дети?
– Концлагерь. Возможно, самым маленьким повезет и их германизируют. Со старшими возиться не стоит, они давно испорчены, успели поучиться в школе и нахвататься всякой дряни у родителей. Но имейте в виду, эта информация пока закрыта. А жаль.
– Почему выбрали это село?
– Имеется подозрение, что там кто-то помогал террористам.
– Доказанное?
– О чем вы, Михаэль? Речь идет о возмездии, а не о юридической казуистике. Чехи должны быть наказаны, и они получили свое. Надеюсь, это еще не конец.
Теперь вилку выронил Грубер. Рука, которой он пытался ее подобрать, дрожала.
– Клаус, чо с вами? – бестактно спросил его Лист. – Не вы ли рассуждали о справедливости? Порицали неправильную политику в отношении богемцев, их незаслуженные привилегии. Я помню. Совсем недавно. На этом самом месте.
Мы со Швенцлем уставились в тарелки. Зондерфюрер дошутился. Нам тоже было слегка не по себе. Подруга Ширяева сохраняла невозмутимость. Возможно, потому, что плохо знала немецкий. Крутя в изящной ручке бокал, она ожидала, когда ей подольют. Ширяев и Лист, увлекшись беседой, подзабыли о ее существовании.
– Законы войны суровы, – наставительно сказал оберштурмфюрер доктору. – При необходимости даже жестоки.
Подлив наконец брюнетке, он принялся за шашлык. Теперь заговорил Ширяев.
– Я бы употребил другое слово, «жёсткие». По-русски это звучит великолепно – слова очень похожи, но имеют разное значение. Вслушайтесь: «жестокий», «жёсткий». Я вот, например, по-русски не жестокий, а жёсткий человек.
– Я знаю русский, – холодно отозвался совладавший с вилкой Грубер. – Восхитительный эвфемизм.
Ширяев сумел уловить иронию. Однако ничуть не смутился.
– Уважаемый доктор, порядок должен быть везде. Равно как и иерархия. А для его наведения и ее поддержания необходимы устрашающие примеры. Поверьте, если бы мы меньше церемонились с семнадцатого по двадцатый год…
Я понял, что речь идет о русской Гражданской войне. Зная не понаслышке нравы испанских «белых», я спросил – не без резкости:
– А вы церемонились?
– Лично я – нет. Я ведь жёсткий человек. Но слюнтяев у нас хватало. И чем больше мы одерживали побед, тем больше их становилось. Кадетско-либерально-педерастические рожи. «Ах, русский народ, ах, русская кровь…» Дерьмо нации, не к столу будь сказано, вообразившее себя…
Не дослушав его, я возвратился к лидицкой теме. После всего, что я видел и слышал, мои слова, возможно, звучали странно, но, произнося их, я был искренен как никогда.
– А как же быть с презумпцией невиновности? С принципом личной ответственности? С элементарными законами человечности? Всё это отменено?
Лист оторвался от тарелки.
– Вы еще вспомните об отмене пыток и общественном договоре. Да вы, я вижу, человек восемнадцатого столетия.
Похоже, оберштурмфюрер где-то учился, возможно на юриста. Я не замедлил с ответом, который прозвучал как вызов самой Системе:
– Да, господа, восемнадцатый век мне ближе, чем каменный.
Лист и Ширяев весело переглянулись. Атмосфера в кафе становилась невыносимой.
– Я бы подышал свежим воздухом, – сказал мне Грубер. – Что скажете, Флавио?
Мы поднялись и вышли на крыльцо, оставив Дитриха Швенцля на произвол СД. Снаружи нам сделалось чуть лучше. На Симферополь опускался вечер, несший с собою отдых от опостылевшей всем жары. Гром севастопольских пушек был глух и довольно редок. Тихо шумел Салгир. Мы присели на скамейку под старым платаном. Грубер проговорил:
– До чего же я устал.
Я прикинулся непонимающим.
– О чем вы, Клаус? Вас утомила непрошеная компания?
Он глубоко вздохнул, провел каблуком линию на песке – песком была посыпана дорожка перед нами – и произнес, не глядя на меня:
– Я устал улыбаться, прикидываться, высказывать чужие мысли.
– Вы тайный друг славян?
– Оставьте ваши шутки, – грустно ответил он. – Никому я не друг. Ни чехам, ни русским, никому. Я за победу Германии, за жизненное пространство. За всё, чего должен хотеть настоящий немец. Я действительно считаю благом расчленение России, ликвидацию ее как политического организма, частичную колонизацию. Но я не могу аплодировать убийцам.
«Вот оно как… А как же вы представляете расчленение, ликвидацию и колонизацию без убийств?» – должен был удивиться я. Он правильно истолковал мое молчание.
– Существуют иные, более тонкие методы. Да, наиболее злостных, сопротивляющихся, конечно… Но… Мы с вами просвещенные европейцы, наследники Гнейзенау и Бисмарка, Мамели, Кавура, Мадзини… Беккариа, в конце концов… Неужели мы не способны разработать более тонкий инструментарий, направленный на души людей, на внутреннее разложение чужеродных и враждебных национально-политических организмов? А вместо этого – грязь, мерзость, патологические убийцы…
«Мамели, Кавур и Мадзини не расчленяли, а объединяли», – должен был заметить я. Но снова промолчал. Я не чувствовал себя наследником Мамели и Мадзини. И даже просвещенным европейцем. Похоже, европейцы в Европе перевелись.
– Вы, верно, внутренне усмехаетесь. Думаете, доктор перепил и его понесло. Но, поверьте, я другой… Помните, тогда в степи… Пулеметы, спецкоманда… Мне стоило огромного труда, чтобы выдержать это и что-то еще говорить. Вы не поверите, меня в тот раз чуть не стошнило… Здесь, в России, ежедневно уничтожается как минимум один такой Лидиц… Флавио, я больше не могу.
Я продолжал молчать. Запоздалые конвульсии европейского гуманизма выглядели жалко. При том, что я сам мало чем отличался от Грубера.
– Знаете, чего бы я хотел? Пойти и набить им морду.
«И этого мы не позволим себе никогда», – снова подумал я. Грубер хмуро подтвердил:
– Именно так.
И неожиданно добавил:
– У одного русского писателя, еврея из Одессы, Сталин его расстрелял года четыре назад, персонаж, тоже еврей, говорит, что он – за интернационал добрых людей… Звучит забавно, но что-то в этом есть.
Я осторожно повел глазами – не слышит ли кто посторонний – и осторожно сказал:
– Боюсь, Клаус, нас туда уже не возьмут.
– Я не боюсь, я знаю точно. Интернационалы не для нас, мы националисты.
Мы вернулись за стол. Лист и Ширяев вскоре ушли, и мы, доедая ужин, имели возможность поговорить о менее жёстких вещах.
Последнее время я серьезно засомневался, что смогу написать военный роман. Интересно написать о войне трудно даже ее непосредственному участнику (из числа наделенных талантом). Трудно не в содержательном, а чисто в исполнительском плане.
С одной стороны, в произведении на военную тему представлена экстремальная ситуация, что само по себе должно гарантировать читательский интерес. Жизнь и смерть во всей их наготе, сильные страсти, могучие характеры, ужасы, позволяющие читателю приятно ощутить свою личную безопасность, а в ряде случаев – бесспорное моральное превосходство над теми, кто совершает военные преступления (само собой, речь идет о врагах, поскольку военные преступления совершают враги).
Но это с одной стороны. Имеется и другая, повторяю, чисто исполнительская. Военная служба и военная деятельность бесконечно однообразны. Предустановленный уставами однообразный распорядок и однообразные действия, направленные на однообразные цели. При этом масса вещей, связанных с войной и совершенно очевидных для ее участников, будет настолько далека от читателя, что наши слова будут просто бессильны дать о них хотя бы приблизительное представление. Можно сколько угодно подыскивать эпитеты. Например, сравнивать немецкое штурмовое орудие с выползшей на берег исполинской черепахой, но тому, кто не видел Stug-III, это ровным счетом ни о чем не скажет.
Есть, разумеется, кино с его зримыми образами (мне однажды, после Абиссинии, предложили состряпать сценарий). Но специфические трудности найдутся и там. Молодые люди в одинаковой одежде, полголовы под каской, лиц порой не разглядеть, бегают, ползают, стонут (если позволит цензура). В самом маленьком подразделении их больше, чем нужно для развития сюжета, в то время как другие герои, тоже нужные, могут запросто находиться в других частях, штабах и так далее. В итоге наряду с нужными появится масса ненужных, но неизбежных персонажей – во имя пресловутой жизненной правды – а на деле ради банальной узнаваемости, чтобы какой-нибудь каптенармус после сеанса не возопил: почему в роте нет каптенармуса? И все они, повторяю, одинаково одеты (зрители не очень разбираются в петлицах, нашивках и званиях). А если это элитное подразделение, в котором все как на подбор? Одного роста и практически на одно лицо. Высокие голубоглазые блондины с типовыми нордическими носами. Таращиться на них быстро осточертеет даже самой большой любительнице мальчиков в униформе. И чем ближе к правде всё это будет снято, тем будет скучнее смотреть. Вот они выходят на рубеж атаки, обмениваются малопонятными для зрителя знаками, исчезают в дыму, появляются, стреляют, исчезают, появляются, обмениваются, стреляют, падают, героически умирают (без мук или в муках, что опять-таки зависит от цензуры).
И самое главное – в чем конфликт? Когда все делают одно и то же великое дело? Конфликт с врагом – это понятно, но где тот конфликт, что толкает вперед сюжет? И в чем состоит сюжет? В рытье окопов? В подвигах? (Если фильм будет сплошь состоять из подвигов, подвиг утратит свою уникальность, сделается чем-то обыденным, скучным – или просто неправдоподобным.) Быть может, в приеме пищи? В отправлении естественных надобностей? В пьянках между боями?
И где основной движитель любого сюжета – любовь? Женщин-то рядом нет. В этом смысле, между прочим, русским легче. У них военных дам хватает. При случае их западные союзники, делая фильм о восточных братьях по оружию, смогли бы снять совокупление в грязном окопе, в перерыве между убийствами немецких солдат (когда наконец получат дозволение снимать половые акты; тонко же, по-хемингуэевски, намекнуть возможно и сейчас). Такого рода эпизодик обеспечит долю чувственности, а заодно покажет степень русского свинства – ведь когда-нибудь американцы могут снова поссориться с русскими.
На женской почве у русских наверняка имеют место роковые страсти – измена, ревность, соперничество. Что, если снять дуэль двух красных офицеров из снайперских винтовок? Между тем у немцев нет даже такого. Разве что показать офицерский бордель. Или убийство отпускником неверной супруги. Вместе с любовником, желательно одной пулей. Разумеется, после войны, когда цензура смягчится.
Многое позволит со временем рост технических возможностей и ослабление давления на кинопроизводство. Этого вам еще никто не показывал… Оторванных рук, оторванных ног, оторванных голов. Настоящего воздушного боя с летящими в зрителя пулеметными трассами. Настоящего наезда танком на раненого солдата. Настоящего взрыва эсминца – полкинозала пойдет ходуном. Настоящего удара штыком – так, чтобы всё наружу. Но ведь настанет день, когда покажут всё. И что тогда?
Этим мыслям я предавался, сидя в «Хейнкеле-111», поднявшемся с аэродрома в Сарабузе тринадцатого июня сорок второго года. Пилот и штурман двухмоторного бомбардировщика были знакомы Груберу по польской кампании, и зондерфюреру не составило труда упросить их взять меня на воздушную прогулку над Севастополем. Авианачальство не возражало. Итальянский корреспондент, собравшийся писать о немецких летчиках, вызывал сугубо положительные эмоции. «Мы бы еще подумали раньше, когда существовала опасность встречи с русскими истребителями, но теперь она сделалась практически нулевой – они буквально разрываются между необходимостью прикрывать свои войска и отбиваться от наших «Мессершмиттов».
То, что я видел сейчас, смотрелось бы совсем неплохо в кинозале – особенно в цвете. Сначала разбег по зеленой, но уже начинавшей желтеть траве, взлет, и спустя пару минут – восхитительная панорама Крыма. Степь, лесистые предгорья, узенькая ленточка Салгира. И море, тускло серебрящееся вдали, по правую руку – я замечал его, когда машина кренилась на правое крыло.
Я услышал в шлемофоне голос командира (его звали Францем Герлахом, он был молод, спортивен и выглядел американским playboy'ем).
– Как самочувствие?
– Отлично, Франц! – бодро ответил я.