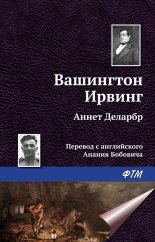Подвиг Севастополя 1942. Готенланд Костевич Виктор

– Робкая пастушка ласково шептала…
Клара, милая Клара… Или милая Гизель? Но она не робкая. И вообще, что такое «робкая»? Образ, не более.
– Милый мой, хороший, отдохни немножко, – ответил я, благо рифма уже созрела. Дидье после недолгого раздумья завершил:
– Оботри свой хвостик, и начнем сначала.
Как мало нужно бывает порой для оглушительного успеха. Какой-нибудь писака строчит годами толстенный роман – и не может представить себе дальнейшей его судьбы. Прочтут или не заметят, восхвалят или освищут. А тут – четыре строчки, и всенародный восторг.
Отсмеявшись, Браун спросил:
– Где это вы в своих университетах видели пастушек?
– Нигде, – серьезно ответил Дидье. – В университетах водятся студентки, чахлые, скучные и в очках. А студентам больше нравится ядреные девчонки из сельской местности. Поэтому мы приедем к тебе на хутор и займемся твоими пастушками.
Браун состроил скептическую мину.
– У нас девки, конечно, веселые, да только так они к вам и помчатся.
Мнение Грефа было иным, более оптимистичным. Или наоборот, пессимистичным? До чего же все перемешалось.
– Когда окончится этот бар… – он поглядел в сторону партийного Главачека и поправился: – Вот это самое, пастухов останется так мало, что нам всем придется крепко попотеть.
Главачек печально вздохнул:
– А вот у меня была девка в Моравии… И ножки раздвигала, и пела хорошо.
– Прямо вот за этим делом? – поразился Браун. – Умираю, хочу поющую девку! А то мои всё больше языком чесали, дуры деревенские.
– А нежно раздвигать – это как? – поинтересовался Штос на правах специалиста в медицинской сфере.
– Вот так! – детским смехом залился Браун и попытался изобразить ногами в сапогах нежность робких пастушек Гессена.
– Прости, приятель, но твои прелести не возбуждают, – покачал головою Штос.
– Это потому что у меня на ногах не шелк, а шерсть.
– В данный момент на тебе штаны из хлопка, – поправил Брауна любивший точность Дидье.
– Но под ними-то всё равно шерсть! – не унимался Отто.
Невинный разговор о пастушках перерос в традиционную армейскую дискуссию: что лучше для женщин – длинный или толстый. Как главного специалиста в области анатомии, в арбитры призвали Штоса.
– Не все так просто, господа! – авторитетно объяснил он нам. – Это зависит от целого ряда факторов. От строения частей тела. От привычек в интимной жизни. От занимаемой позиции.
– В обществе? – спросил Дидье.
– В обществе тоже. От того, чем вы, собственно, собираетесь заниматься.
– То есть? – не понял Браун. – А чем еще можно заниматься?
– Деревня, – мечтательно вздохнул Дидье. – Ваши пастушки тоже такие темные?
– Куда им до ваших очкастых.
– И наконец, – закончил Штос, – от характера отношений между партнерами. Романтичности, возвышенности и так далее. Некоторые из моих знакомых медичек, самые великодушные, говорили, что принципиального значения не имеет ни то ни другое. И что важнее всего – душа. Некоторые, подозреваю, даже не врали. Магда Фойерман точно не врала. Хотя жаловаться ей было не на что.
* * *
Я не помню, откуда появился патефон. Кажется, приволок Греф. Что, впрочем, тоже не имело значения. И пластинки – откуда взялись пластинки? Мы уже сильно выпили, и разницы не было никакой. Первая пластинка была русской. Ее поставил Дидье, в надежде услышать что-нибудь знакомое. Чтобы можно было хором подпевать. «Волга-Волга, матерь Волга, ты течешь, неся покой. И не ведаешь о страшном, что свершит казак донской». Но песня была другой, гораздо более веселой. В исполнении какого-то мужчины. Вроде бы по-русски, но ни черта не разобрать. Рефреном повторялось «На Кавказе есть гора… большая… такая».
– О чем там, умники? – спросил нас Греф.
– Похоже, про Кавказ… – неуверенно ответил Дидье, напряженно вслушиваясь в звуки, мало похожие на русскую речь.
– Все ясно, – сделал вывод Отто. – Как раз для нас. Скоро будем на Кавказе. Я уже умею плясать по-тамошнему, видел у кавказских добровольцев. Дайте мне нож! Цольнер, где он у тебя?
– Бери.
Дальнейшее выглядело так. Получив нож, Отто зажал его в зубах. Сделал свирепые глаза. Отбросил правую руку в сторону. Другую, согнувши в локте, поместил на уровне груди. Заорал «асса» и начал бешено перебирать ногами по земляному полу, периодически меняя положение рук. Его примеру последовали Клаус и Штефан, вдребезги пьяные парни из первого взвода – они тоже стали бешено орать и носиться с ножами в зубах по сараю. На мой взгляд, это больше походило на ритуальные пляски готтентотов и гереро – более близких германскому сердцу, чем обитатели таинственного мира неведомых кавказских гор.
Греф менял пластинки. Прозвучали песни в исполнении русской певицы с весьма приятным голосом – что-то о море и встречах. Потом было несколько других. Их опять пел мужчина, но не тот, что пел про гору на Кавказе. Одна из песен, про солнце, море и любовь, была невероятно похожа на польское танго, в котором покинутый любовник жалобно вымаливал у бросившей его любовницы «последнее воскресенье», прозрачно намекая на возможность самоубийства. Его нередко слушал отец, получивший от коллеги по высшей технической школе набор привезенных из Польши пластинок.
Потом мы пели сами. Обычный армейский репертуар. У немецкой армии достаточно песен – нация Моцарта и Бетховена, мы самая музыкальная армия в мире, и если кто-то думает иначе, то срать мы на них хотели. Про Аргоннский лес и подвиги отцов. Про вереск и девушку, ждущую меня на родине. Про то, как по городу маршируют солдаты – и девушки, другие девушки, а может быть, и та, что ждет меня на родине, распахивают окна и пялятся им вслед. «Это миф! – кричал отчаянно Штос. – Прекрасный национальный миф! Я хочу в миф! Быть мифом! Мы все будем миф!» – «Мы не миф, – икая, отвечал Дидье. – Мы метафора. Гипербола. Литота. Метонимия. Синекдоха». Не понимавший подобных слов и не обладавший слухом Браун молча колотил алюминиевой кружкой по лавке и продолжал колотить, когда Главачек и хромающий Греф, разделавшись с Польшей («Данциг свободен!»), отправились наказывать английских предателей германской расы. Главачек был самолетом – руки в стороны, плавные качания корпусом, – а Греф радистом-стрелком – ды-ды-ды-ды-ды-ды…
- Потому что,
- Потому что
- Мы идем,
- Идем
- На Англию,
- Англию!
Когда Англия понесла заслуженную кару, мы с Дидье принялись распевать утратившую прежний, да и всякий вроде смысл «Стражу на Рейне». Уставший от жары и потому раздевшийся Хайнц торжественно перемещался по сараю в синих спортивных трусах, воздевая руки вверх и потрясая ими в патетических местах. Браун продолжал молотить по лавке кружкой, я прижимал ладонь к груди и вдохновенно закрывал глаза. Прочие корчились от смеха, и только Главачек косился на нас с непониманием – в нем сохранялась вера в высокие идеалы.
Потом вспоминали жизнь до войны. По общему мнению, жизнь до войны была. У каждого своя, но в целом неплохая. И подумать только, кому-то еще не нравилось.
– А я до войны был кельнером, – ни с того ни с сего признался вдруг Главачек. – И называли меня, понятное дело, обер-кельнер. Так сказать, господин обер.
У Хайнца, повалившегося в мокрых от пота трусах на лавку, моментально появилась идея.
– Господа, – сказал он нам, отнимая фляжку с водой от губ. – Предлагаю задуматься над общеизвестным фактом. Всякого кельнера, а вовсе не только обер-кельнера, называют обером. Не следует ли пойти по этому пути и произвести реформу воинских званий? Скажем, все стрелки станут старшими стрелками, все ефрейторы – старшими ефрейторами, а все фельдфебели – старшими фельдфебелями.
Против последнего пункта решительно возразил старший фельдфебель Греф: «С фельдфебелями ты, братец, перегнул», – но его уже не слышали, приступив к обсуждению других принципиальных деталей.
– А кем станет унтерофицер?
– Скажем, обер-унтерофицером.
– Нет, лучше просто обер-офицером.
– Действительно, скромно и элегантно.
– А что с обычными, так сказать, заурядными офицерами? Я понимаю, что лейтенант станет старшим лейтенантом. А остальные?
– Надо подумать.
– Твою реформу, Хайнц, можно сделать более радикальной, – сказал тут я. – Давайте всех называть просто оберами.
– Или сразу оберстами, – предложил, расправив плечи, Штос.
– Вот с этим я согласен, – не растерялся Греф. – Кстати, вы в курсе о передвижном солдатском борделе? Послезавтра в батальон доставят девок из Симферополя. Так что готовьте презервативы! У кого нет, обращайтесь ко мне. Дорого не возьму, возможен обмен.
– Использованных на новые? – прищурился Дидье.
– Молчи, несчастный циник.
Весть о борделе меня не взволновала, и чтобы не участвовать в разговоре, я решил почитать письмо от Гизель. Как водится, вначале стояло «Милый Курт». Что дальше, я разобрать не успел, помешал противный голос Гольденцвайга. Когда мы пели и трепались о довоенной жизни, этот подонок молчал. Но после сообщения о шлюхах у него отыскалась тема для разговора. Как выяснилось, близкая ему до чрезвычайности. В своей хорошей жизни (совсем не довоенной) он занимался тем, что отбирал женщин в офицерский бордель, и теперь решил поделиться с нами конфиденциальной информацией.
– В офицерском у нас трудились те, кто добровольно, а в солдатском – по мобилизации.
– То есть как – по мобилизации? – удивился кто-то.
Гольденцвайг презрительно фыркнул.
– Дурачок… Война – это мобилизация всех ресурсов, в том числе и женских. И отношение соответствующее, кормежка там, всё прочее. Не любил я этих мобилизованных. Тощие, синие, ни черта не умеют, бежать еще пытаются, суки. Мне больше нравилось с офицерскими, была возможность. Но иногда и с такими приходилось, когда по-другому не получалось.
Интересно, кем он был в гражданской жизни? Наверняка каким-нибудь сутенером. Гнусная уголовная морда. Сидел, нет? Вот бы о ком никто не загрустил. Но ведь такая сволочь всех переживет.
– На этом я и погорел. Оказалась там одна хлипкая, из слабонервных, сидит, ревет… Мы ее с ребятами попотчевали часика два, а она, паскуда, возьми и сдохни. Тут мой шеф и развонялся: Гольденцвайг, туда-сюда, вы используете служебное положение, чтобы угощать своих дружков общественным имуществом, мне не хватает человеческого материала. И меня спихнули в спецкоманду. Тоже мне, нашел человеческий материал, старый козел, у самого не стоит, так цепляется к нормальным людям.
Я не выдержал и привстал.
– Может, помолчишь?
Гольденцвайг уставился на меня, ожидая дальнейших действий. Дидье и Браун на всякий случай приподнялись.
Положение было дурацким. Я круто развернулся и вышел из сарая. По пути услышал, как Главачек негромко произнес: «Говори тише, Гольден, не мешай господину Цольнеру. Он хочет остаться чистеньким и бережет свои уши. Я не удивлюсь, если даже к девкам не пойдет». И эта тварь туда же.
Ночь была непроглядно темной, несмотря на усыпавшие небо звезды. На душе было гадостно, гадостно было во рту, мерзко сосало в желудке. Как будто нажрался дерьма. А ведь вроде не первый раз. Черт с вами со всеми, плевать. Я хочу остаться чистеньким. Да, хочу.
По узкой тропке между изгородями я прошелся до нашего, вернее до Таисьиного дома. Заметил, как испуганно метнулась тень, услышал, как скрипнула дверь. Надо бы завтра смазать. А может, не стоит, в случае чего этот скрип послужит сигналом тревоги. Впрочем, помощи тут не дождешься.
Хочу остаться чистеньким. Остался ли, вот в чем вопрос. Ворованных кур жрал со всеми. В лучшем случае – ворованных, то есть украденных с известной долей стыда. И ту девчонку Греф убил у тебя на глазах. Божился потом, будто она сама на него накинулась и он с перепугу выстрелил. Но ты ему не поверил. А потом забыл – и вместе с ним жрал кур, потому что был голоден и чертовски устал. И Браун при тебе открыл гранатой хлипкую дверь деревенской хибарки, так, на всякий случай, не захотелось стучать. И там лежал мертвый дед, прикрывший собою внука. У внука осколком раздробило ладонь. Брауну потом было неловко. Он переживал. Отказался от ужина. Господин судья, прошу принять во внимание, что непосредственно после убийства подсудимый чувствовал себя неловко.
Я уселся на землю, прижавшись спиной к стене, хранившей дневное тепло. Я знал, что Таисья и Клавдия бодрствуют. Чего они ждут – когда я усну? когда я уйду? Поймал себя на мысли, что готов сделать для них что угодно – лишь бы не быть страшилищем. Но спать не спалось. Лучше было уйти. Я вернулся обратно в сарай.
Там доигрывали в скат, и никто на меня не взглянул. Браун умело расправлялся с Гольденцвайгом. Сильно продувшийся сутенер поставил на кон золотое колечко. «Игра становится серьезной», – заметил Греф. Браун с легкостью выиграл снова, после чего сказал:
– На сегодня всё. Я хочу спать. Где ляжем?
– Давай прямо здесь, – вспомнил я о Таисье и Клаве. Попутно ругнул себя за то, что не решился сказать хозяйке – мы ночевать не придем. Сделал бы доброе дело, дав ночь покоя несчастным людям.
– Рано! – сказал Гольденцвайг. – Я отыграюсь.
– Хватит, – зевнул утомленно Главачек. – Без штанов захотел остаться?
Гольденцвайг полез в нагрудный карман и длинными пальцами выудил полотняный мешочек. Развязав тесемки, выложил на стол непонятные штучки. Судя по звуку, металлические. Дидье насторожился.
– Что за фигня?
Гольденцвайг довольно улыбнулся.
– Золото. На акции добыл.
В свете лампы действительно что-то блеснуло.
– Какой еще акции? – спросил его Греф, прикрывая зевающий рот.
– Обыкновенной, даже возиться не пришлось, там специальные русские были, щипцами дергали. Их потом, конечно, тоже.
Сделалось тихо. За стеной стрекотали кузнечики и сверчки. В лампе дрожало пламя. Дидье почти неслышно пробормотал:
– Вы там все чокнулись – или как?
Сутенер посмотрел на него с таким же презрением, с каким недавно глядел на меня. Пожал плечами. Хмыкнул.
– Нормальное дело. Все берут. Работка, между прочим, не из приятных, врагу не пожелаю, а тут какая-то компенсация. Так что не стесняйтесь, ребята. Играем, Браун? Учти, я просто так не уйду. Эй!
Придушенным голосом, словно бы сдерживая рвоту, Дидье прошептал:
– Убери.
Гольденцвайг поскреб на щеке щетину.
– Колечко, может, тоже убрать? Оно не из ювелирной лавки. С жидовочки, прямо с пальчика… еще тепленького. А может, с украиночки, хрен их тут разберет, тоже черненьких хватает. Браун, может, отдашь? Еще не поздно. А то ведь карман прожжет.
Браун озадаченно вертел кольцо в руках, и было видно, что расставаться он с ним не хочет. Я толкнул его в плечо.
– Отдай. Кому я сказал. Ну, Отто…
Раздался чей-то глумливый голос – не разобрать в полумраке чей.
– Если господин Цольнер хочет остаться святым, так пусть остается сам. Или он теперь у нас заместо полкового попа?
Я промолчал, с надеждою глядя на Отто. Зато немедленно вскинулся Хайнц.
– Слушай, заткнись. Или…
– Что «или»?
Греф не вмешивался. Отто вертел кольцо. Штос обошел снарядный ящик, за которым велась игра, и встал рядом с Дидье, у меня за спиной. Главачек проявил рассудительность.
– Хватит собачиться, парни. Нормальное дело. Кольцо – это всего лишь кольцо. Зубы дергать, пожалуй, слишком, а кольцо – нормальный трофей. А война – это война.
Всё тот же голос из полумрака заметил:
– Похоже, господину Цольнеру такая война не по нраву.
Хайнц рыкнул:
– Я сказал, заткнись.
В двери с фонариком в левой руке, в спортивных трусах и накинутом на плечи кителе появился заспанный Вегнер. Недовольно спросил:
– Что за шум?
Гольденцвайг поспешно упрятал коронки в карман. Отто проделал то же самое со своим золотым кольцом. Воцарилось напряженное молчание. Греф устало поднял голову.
– Выпьете с нами, господин лейтенант? У нас тут маленький праздник. Жалко только, многих не хватает.
Вегнер присел у ящика. Без особенного желания вытянул кружку пива и, не говоря ни слова, чуть покачиваясь, удалился. Было видно, что он не поверил Грефу. Старший фельдфебель злобно на нас посмотрел и погрозил кулаком.
– Еще раз начнете – пожалеете. Совсем без меня распустились. Цольнера тоже касается. И Дидье. Будет вам три дня отдыха… в сортире. А теперь – спать. Всем.
Мы расползлись по домам. Я оказался прав, что не стал предупреждать Таисью.
* * *
Я моментально уснул. Но как нередко бывает, похмельный сон оказался недолгим. Алкоголь рассосался в крови (или что там бывает у нас с алкоголем?), и я проснулся от желания пить. Стараясь не шуметь, на цыпочках вышел из дома. Набрал из бочки воды. Она была теплой, но я осушил две кружки. Наполнил третью и, сев на привычное место под стеной, поставил кружку прямо на траву.
Хоры кузнечиков стихли. На востоке забрезжил рассвет. Решив, что смогу читать, я развернул письмо от Гизель. «Милый Курт…» Я опустил листок. Что будет написано дальше? Тяжелая работа, деньги, карточки? Ждет меня по-прежнему? Или утешилась с другим, таким же несчастным и одиноким, какими мы были сами? Я поймал себя на мысли, что мне безразлично. Я был бы рад любому исходу, лишь бы она была довольна. Насколько возможно быть довольным в наше время. Безнравственность или усталость? Когда-то я переживал из-за сгоревшего в пустыне танкиста. Размышлял, не совершаю ли подлость. Каким же я был идиотом. Я живой – и мне безразлично всё. Какое же дело до нас мертвецу?
Нет, это просто усталость, всего лишь усталость, Цольнер. И убежденность, что Гизела никогда… Ты в этом уверен, стрелок? Признайся честно, хотя бы себе – тебе ведь абсолютно безразлично.
Я, не читая, сложил листок и сунул его в карман. Заметив, как из дому вышла Таисья, прикрыл глаза, чтобы не смущать понапрасну женщину. Когда открыл, она стояла напротив, метрах примерно в пяти, и пристально глядела мне в лицо.
Я выдавил улыбку. Таисья не ответила. Но взгляда не отвела. Очень странного, непонятного, неподвижного, грустного взгляда.
Братское кладбище
Красноармеец Аверин
12-14 июня 1942 года, двести двадцать пятый – двести двадцать седьмой день обороны Севастополя
Поле, по которому я полз, было усеяно трупами. Нашими, советскими, почему-то всё больше нацменами – похоже, часть формировалась на Кавказе. Они бежали прямо на пулеметы и падали, срезанные, как стебли. Удары пуль бросали их на спину, и потому глаза смотрели прямо в небо. Я подобрал винтовку, валявшуюся рядом с горбоносым парнем, похожим на артиста Владимира Зельдина. Винтовка была исправной, новенькой, недавно смазанной – надежная трехлинейка тридцать девятого года выпуска.
Красноармеец, лежавший неподалеку, был больше похож на русского. Мне показалось, он дышит, и я подполз к нему, отчаянно желая спасти хоть кого-то. Однако только показалось – он был мертв, как и все другие. Живых, вероятно, вынесли санитары. А мертвых вот… не смогли. Как я. Стащив с убитого ремень с подсумками, я прошептал: «Спасибо, товарищ». Надо бы было забрать документы, но поблизости начали лопаться мины, и я снова пополз туда, где, по моим расчетам, были наши. Немцы, по тем же расчетам, были сзади и, вероятно, отдыхали перед новым рывком.
Еще поле было усеяно разноцветными листовками, белыми, розовыми, желтыми, на плотной оберточной бумаге. Они лежали на трупах, валялись в траве, шевелились при дуновениях ветерка, а когда проносилась взрывная волна, птичьей стаей взмывали к небу и оттуда, кружась, опускались обратно на землю. Пережидая серию близких разрывов, я подобрал такую бумажку. Прочел и заскрипел зубами. «Товарищ Сталин сказал: «Крым будет советским!» Но он ошибся: Крым будет свободным. Только в одном Севастополе засели оголтелые бандиты и большевики. Но наши славные солдаты наложат горы ваших трупов, а летчики потопят ваши корабли». Вот кто я был такой – большевик и оголтелый бандит. И Маринка была оголтелой бандиткой и большевичкой. Только она умерла, а я по-прежнему жив. И я должен наложить горы немецких трупов. За то, что она умерла, за то, что лежит в воронке, за то, что я не смог по-людски ее похоронить.
Я прошелся пальцами по патронам в подсумках. Полный боезапас. Мой новый товарищ пострелять не успел. Может, и на фронте был один всего лишь день. Не повезло – в отличие от меня. А мне повезло – в отличие от Маринки.
Ползком я выбрался на разбитую и изрытую снарядами дорогу – и совершенно неожиданно очутился среди наших. Трое бойцов сидели в кювете. Мины рвались повсюду, и им приходилось постоянно пригибаться. По обе стороны от дороги ползком перемещались десятки других бойцов, вероятно из подошедшего подкрепления.
– Ребята, вы откуда? – спросил я, задыхаясь от… Нет, не радости, испытывать радость я был всё еще не способен. От чувства облегчения, быть может, – жив, цел, спасен.
Сержант, покрытый пылью с головы до ног, резко обернулся и впился в меня недоверчивым взглядом. Глаза его были воспалены, рот полуоткрыт, руки в кровоподтеках почернели от сажи. Сидевший рядом с ним красноармеец в гимнастерке с оторванным рукавом, не меняя положения тела, навел на меня автомат. Другой, в замызганной спортивной майке и с перевязанной головой, выбросил перед собою руку с немецким кинжалом.
– Мы-то чапаевцы, – процедил сержант. – А ты вот, братец, чей тут будешь?
Я назвал свой полк и дивизию. Увидел с удовлетворением, как опустились автомат и кинжал. Попросил воды. Сунув мне фляжку, сержант задумчиво произнес:
– Много тут народу ходит. Может, и не врешь, а может… Из окружения, что ли, выбрался?
– Почти.
Про недолгий свой плен говорить я не стал.
– Бывает, – рассудительно сказал красноармеец в майке. – Мы вон тоже вчера выбирались.
Я слыхал, что для пробившихся из окружения должны быть какие-то сборные пункты. Поэтому я спросил, имеется ли что-нибудь такое рядом. Сержант пожал плечами. Тогда я предложил:
– Давайте я с вами останусь. Вот, документы.
Но сержант оставлять меня не захотел. То ли людей у него было много, то ли боялся ответственности.
– Знаешь что, вали-ка в тыл. Пункт точно должен быть. Поспрашивай там.
Его неуверенность передалась и мне. То, что казалось простым и само собой разумеющимся – вышел к своим, буду рядом со всеми, – стало выглядеть чуть иначе. Я, конечно, не испугался, но ощутил неприятный холодок.
– А меня за дезертира не примут?
– Так какой же ты дезертир, когда с винтовкой. Давай, давай, дуй отсюда. Вон, опять начинается.
Обстрел действительно усилился. Немцы стали обрабатывать передовую полосу из тяжелых мортир. В том месте, где я совсем недавно полз, с грохотом вырос ряд пыльных столбов. Я попрощался с сержантом и покинул уютный кювет.
Немного погодя двигаться стало легче. Заросли и складки местности позволили идти, почти не пригибаясь – и народу я встречал всё больше и больше. Если бы еще не залетавшие сюда снаряды да не гул самолетов над головой. Далеко впереди небо было затянуто черным. Это горел уничтожаемый с воздуха город. А совсем неподалеку непрерывно грохотало и трещало, словно бы кто-то палил из исполинского пулемета. Видимо, рвались боеприпасы на обстрелянном немцами складе.
Скоро я увидел незнакомого лейтенанта и старшину. Они присели у придорожных зарослей терновника и останавливали перебегающих по ней солдат, в основном легкораненых. Поблизости расположились трое автоматчиков. Задержанные бойцы сидели тут же, дожидаясь, когда их переформируют и вновь направят в бой.
Я понял, что мне сюда, и решительно направился к лейтенанту. При ближайшем рассмотрении он оказался артиллеристом – молодым, худощавым и удивительно белозубым. Я доложился ему по форме – звание, фамилия, войсковая часть, отбился в бою от своих – и предъявил документы. Сидевшие бойцы смотрели на меня с любопытством.
– Во, видал? – изумленно сказал лейтенант старшине. – Совсем обнаглели у нас диверсанты. Сами представляются. Глядишь, и на довольствие попросятся.
Похоже, лейтенант шутил. Однако старшина, бывший, напротив, немолодым и невысоким (о зубах не скажу, старшина не улыбался), переждав недальний взрыв, рассудительно проговорил:
– А чё? Дивизия подходящая, рожки да ножки от их остались. Документов навалом повсюду разбросано, а начальства ни хрена нет. Никто и не проверит. Фотография хоть в книжке есть? Хотя немцам фотографию присобачить раз плюнуть. Техническая нация, известное дело.
Мне стало тошно. Рожки да ножки. Вас бы туда на денек. И фотографии в моей книжке, вопреки прошлогодним еще предписаниям, не было. Как и у многих – не успели сделать снимок. Я судорожно стиснул винтовку. Старшина насторожился, автоматчики шевельнулись. Опять двадцать пять. В паре сотен метров от нас разорвалось штук шесть, а то и больше, снарядов.
– Кто командир дивизии? – спросил у меня лейтенант. – Полка? Начальник политотдела? Командир роты? Командир батареи?
Я отвечал, но старшина только хмыкал – чай, у немцев не дурные сидят, нужные фамилии выучить способны. Да и не знает никто тут таких фамилий, кроме разве что фамилии комдива. Бергман – вот кто он такой, Бергман? Лично он, старшина Евстратов, не знал отродясь никакого Бергмана. И фамилия опять же подозрительная. Может, он Бергман, а может быть, Борман. Я стоял как оплеванный и глядел себе под ноги, стараясь не взорваться и не наделать глупостей. Старшина продолжал бурчать, я задыхался от злости. Автоматчики переминались с ноги на ногу. Тут лейтенант заметил у меня вторую красноармейскую книжку. Я вытянул ее разом со своей и держал теперь в руках, не зная, как сунуть обратно.
– А это у тебя что?
Я сглотнул и ответил – быть может, излишне резко:
– Документы боевого товарища. Убитого немецко-фашистскими захватчиками. В километре отсюда. Там вон, в дубках лежит. Могу предъявить, если со мною прогуляетесь.
Старшина поморщился и чуть заметно шевельнул ладонью. Автоматчики приблизились. Сидевшие рядом перебинтованные бойцы подняли головы и напряженно на меня уставились. Хотели посмотреть на ловлю диверсанта, но опасались, как бы от меня не пострадать. В сотне метров к югу разлетелись осколками мины.
– Покажь, – не обидевшись, распорядился лейтенант. Развернул побуревшую снизу книжечку, насупился и очень долго смотрел на фотокарточку. Захлопнул и, как-то сразу погрустнев, проговорил: – Красивый у тебя был товарищ, красноармеец Аверин. На, иди. Там вон ваши, возле кладбища копают. Вся дивизия. Под командованием старшего лейтенанта, не помню как его там… Если что, ссылайся на меня. Лейтенант Хромачев. Запомнил?
Маринкины бумаги убедили лейтенанта быстрее, чем мои. Ну да, конечно. Не станет же диверсант таскать с собою книжки убитых русских санитарок. Получилось так, что Маринка меня, быть может, спасла – уже после собственной смерти. А я ее даже не закопал. Трус.
Странно было, однако, что остатками дивизии командовал какой-то старший лейтенант. Неужели не осталось никого выше его по званию? Хотя бы капитан-лейтенант Сергеев?
* * *
Наши занимали оборону неподалеку от старого военного кладбища. «Наши», сказано не очень точно – в дивизии до штурма были тысячи человек, теперь же вместе с тыловиками оставались немногие сотни, и свое подразделение предстояло еще отыскать.
Мне повезло – я встретил старшину Лукьяненко. Он тут же меня узнал: «Где шлялся, политбоец хренов?» Я не знал, что сказать, а он и не ждал ответа. Только махнул рукой, показывая, где расположены остатки роты.
– Привет, – сказал мне запросто Старовольский, когда я нашел своих сидящими в густой траве и жующими концентрат рядом с недавно начатым окопом. Мне по-настоящему были рады. Мухин заявил:
– Мы-то думали, тебе кранты. Долго жить будешь, значит.
– Это точно, – авторитетно подтвердил Молдован. – Самая верная примета. Я тебе потом расскажу одну историю.
Мне нашли котелок, сунули в руки ложку, выдали хлеба, навалили каши и налили в кружку воды. После короткого артналета из-за подрубленного снарядом дерева вынырнул Мишка Шевченко. Как и прочие, черный, пыльный, тощий.
– Алешка, ты! Холера тебе в пуп!
Он уселся рядом и раскрутил свою фляжку. Я шепнул:
– Как вы тут? Что с ротой, батареей? Где Сергеев?
– Накрылась рота. И батарея накрылась. И дивизия вся накрылась. Сергеева вчера ранили, не очень сильно, но пока не боец.
– В Инкермане?
– Да нет, за бухту перевезли. Как раз машина шла на пристань. Ты-то как?
– Да так, как видишь.
– Ну и ладно. А мы тут загораем. Немца теперь триста сорок пятая держит и то, что от чапаевцев и морбригады осталось. Мы вроде как в резерве. Считай, в тылу. Укрепляем оборону. Быть может, передохнем денек, если фрицы не прорвутся.
Про Маринку Мишка не спросил. Он ведь не знал, что мы были вместе. А я не решился сказать. Вновь началась бомбежка, и нам пришлось укрываться в недорытых щелях. Я решил, что скажу потом. И отдам Старовольскому книжку.
* * *
Бой кипел в километре от нас, выло со всех сторон, но после прошедших дней нам и вправду казалось, что мы загораем в тылу. Приводили в порядок разрушенные траншеи, восстанавливали огневые точки, укрывались от носившихся всюду осколков. Не жизнь, малина, лучше не придумать. Я вспомнил свой первый севастопольский день, когда казалось, что мы с корабля прямиком угодили в пекло. Теперь то время представлялось невозможной почти идиллией.
Нас усилили ребятами из других подразделений, а также из другой дивизии. В роте появился красноармеец Меликян, высокий и тощий армянин с вытянутым худым и печальным лицом. Мишка Шевченко как человек любознательный при первой же возможности – а подвернулась она вечером, когда немцы прекратили атаки и ослабили артобстрел, – дружелюбно его спросил:
– А ты, друг, я вижу, совсем нерусский. Солнечный Азербайджан? Дагестан? Елдаш кзыласкер?
– Армения, – ответил Меликян, которого, кажется, звали Варданом. – По-нашему «товарищ» не «елдаш», а «энкер». А «красноармеец»…
– Знаю, брат, – перебил его Шевченко. – А вот ты, Алеха, в курсе, как будет «Красная Армия» по-армянски? Мотай на ус, пока я жив: «Кармир Банак».
Меликян удовлетворенно кивнул. Я улыбнулся. Мишкино тщеславие порой не знало границ, но всегда было по-своему симпатично.
Он протянул Вардану руку.
– Шевченко, Михаил. Не перепутай с Тарасом.
Меликян его не понял – братский классик был ему неведом. Но парнем оказался неплохим. Спокойным, обстоятельным, не стеснявшимся переспросить, если чего не знал. Грустным, правда, очень, но и я со стороны не выглядел больно веселым – а в потемки моей души соваться и вовсе не стоило. Мне всё никак не удавалось найти подходящий момент, чтобы рассказать Старовольскому о Марине – хотя раскрыть ее книжку и посмотреть в глаза на фотокарточке я смог за это время не однажды.
После Мишки Меликяну довелось познакомиться с Мухиным, часа примерно через два, когда наше отделение лежало в цепи. Не знаю, по какому поводу Вардан обратился к бытовику:
– Слушай, ара…
Мухин немедленно окрысился. Проткнув Меликяна свирепым взглядом, отчетливо, чуть ли не по слогам проговорил:
– Запомни, я тебе не ара.
Вардан не на шутку смутился.
– Почему не ара? Зачем так говоришь? Ты красноармеец, я красноармеец…
Однако Мухин упорно стоял на своем.
– Я сказал, не ара, значит, не ара.
На их пререкания обратил внимание Старовольский. Цыкнул:
– Что вы там заладили: ара, не ара? Меликян, переведите ему, и товарищ уймется. И чтобы молчали оба.
– Вот и я говорю: чего заладил, – пробормотал Вардан. – «Ара» значит «друг».
Последнее слово осталось за Мухиным, который тихо, чтобы не услышал Старовольский, прошипел:
– Таких друзей в Исторический музей.
И посмотрел на меня победителем. Меликян пожал плечами. А мне вдруг сделалось обидно, что я ни разу не был ни в одном приличном музее. И вообще, пока не оказался под Севастополем, дальше Новосибирска не выбирался. В Севастополе, кстати, тоже имелись музеи – Черноморского флота, панорама Рубо. Но что от них нынче осталось? Хорошо, если эвакуировать успели.
На следующее утро после обстрела и бомбежки в подразделении недосчитались четверых. Трое были ранены, один убит. Здоровенным камнем ушибло Мишку, осколком пропороло рукав гимнастерки у Мухина («О, видали, еще бы миллиметр»), ударом в каску оглушило Молдована. На меня ничего не упало, только присыпало камушками и припорошило пылью. Мухин, осматривая поврежденный рукав, не без зависти заметил:
– После того раза тебя ничто не берет. Так и ходишь непоцарапанный.
Я не сразу понял, о каком таком «том разе» речь. Потом сообразил – Мухин имел в виду мою царапину, тогда, перед тем как убили немцев, Пата и Паташона. Я попытался припомнить, как это было давно, но не смог. В тот день или на следующий у нас появилась Марина, мы стояли с ней в траншее, она смеялась, изображала, что щелкает меня по носу, перегораживала дорогу брезентовым сапогом… И еще была политбеседа с Земскисом, который рассказывал, какие ужасы творят фашисты с нашими гражданками. Мы с Мариной сидели рядом, и мне было стыдно за дурака комиссара. И Мухин тоже тогда был рядом. Я поднял глаза и сказал:
«Ага, как после прививки».
«Не сглазьте, дурни!» – вмешался услышавший наш разговор Молдован.
Поздним вечером, когда мы, устроившись в канаве, жевали остатки НЗ, до нас дошли слухи о гибели в Южной бухте транспортного судна «Грузия». Его потопили на рассвете немецкие самолеты. Сотни тонн боезапаса пошли на дно, но пополнение, слава богу, сумело выбраться на берег вплавь.
– На днях еще «Абхазию» потопили, – мрачно сказал Шевченко, – в Сухарной балке, недалека отсюда, мы как раз на Мекензиевых отбивались. И эсминец «Свободный» у Павловского мыска. Все в один день. Человек пятьдесят погибло.
– «Грузия», «Абхазия», – задумчиво повторил Меликян названия погибших транспортов. – А «Армения» есть?