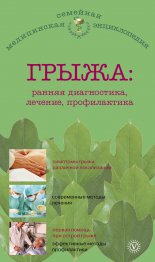В поисках Колина Фёрта Марч Миа
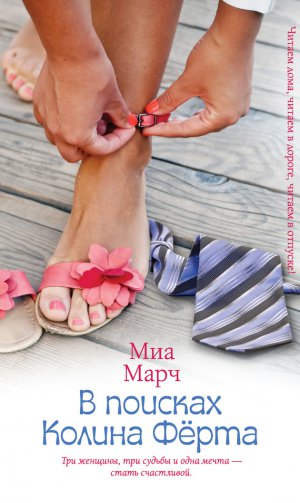
© Mia March, 2013
© Издание на русском языке AST Publishers, 2015
* * *
Моему любимому Максу, который подарил мне радость материнства
Не могу назвать час, или место, или взгляд, или слова, с которых все началось. Это произошло слишком давно. Я полюбил вас прежде, чем понял, что со мной происходит.
Фицуильям Дарси «Гордость и предубеждение»
Я понимаю, что при нашей встрече на приеме, где угощали индейкой с карри, я вел себя непростительно грубо и надел джемпер с оленем, который накануне подарила мне моя мать. Но дело в том… э… что я хочу сказать, очень невразумительно, что… э… по правде говоря, возможно, несмотря на внешность, ты мне нравишься. Очень.
Марк Дарси «Дневник Бриджит Джонс»
Я в полной мере осознаю, что, даже если сменю завтра профессию, стану астронавтом и первым человеком, высадившимся на Марс, в газетных заголовках напишут: «Мистер Дарси высаживается на Марс».
Колин Фёрт
Глава 1
Беа Крейн
Письмо, изменившее жизнь Беа, застало ее на кухне бостонского «Безумного бургера», где она выполняла четыре заказа на фирменное блюдо под названием «Гора Везувий» – стопка в фут высотой из трех кусков булки, прослоенных зажаренным до прозрачности луком, беконом, швейцарским сыром, салатом-латуком, томатами, пикулями и острым соусом. Одна из ее новых соседок, Нина, снимавшая на лето часть унылой квартиры с тремя спальнями, в которой Беа жила теперь вместе с двумя незнакомыми женщинами, просунула голову в дверь кухни и сказала, что расписалась за Беа в получении заказного письма и, поскольку шла на ланч в «Бургер», захватила его с собой.
– Заказное? От кого? – спросила Беа, бросив быстрый взгляд на пакет, пока перекладывала со сковородки зажаренный до прозрачности лук. «М-м-м». Она жарила лук три часа и все равно запах ей не надоел.
Нина посмотрела в верхний левый угол конверта.
– В обратном адресе значится – от Бейкера Клейна, улица Двенадцати штатов, Бостон.
Беа пожала плечами.
– Открой, пожалуйста, и прочти мне первые строчки. Я не могу одной рукой закончить этот бургер.
Барбара, менеджер Беа, вышла бы из себя, застав в кухне постороннего человека, но Беа любопытно было узнать, что в письме, – а Безумная Барбара, как называл ее за спиной персонал, проводила инвентаризацию в своем кабинете.
– Конечно, – откликнулась Нина, вскрыла конверт, вытащила письмо и прочла: – Моя дорогая Беа.
Девушка замерла, ее рука застыла над листьями салата-латука.
– Что? – Именно так всегда начинала свои письма ее мать, когда писала ей в колледж. – Переверни листок – от кого оно?
– Тут подписано «Мама».
Беа подняла бровь.
– Ну, поскольку моя мама умерла больше года назад, это явно не от нее.
– Оно от руки, – сказала Нина, – но тут точно написано «Мама».
Бессмыслица какая-то. Однако мать Беа всегда подписывала свои письма «Мама».
– Сядь-ка на тот табурет, Нина. Я закончу последний бургер и прочту письмо в свой перерыв. Спасибо, что принесла его.
Приближался такой нужный пятнадцатиминутный перерыв: она пришла на смену в «Безумный бургер» в одиннадцать, а сейчас было уже почти два часа. Беа нравилось работать в популярной бургерной в бостонском районе Бэк-Бей, пусть даже работа эта была временной, поскольку девушка закончила колледж год назад и все еще не нашла место учителя, но начальница доводила ее до белого каления. Если Беа тратила на перерыв шестнадцать минут, Барбара вычитала у нее из зарплаты. Эта женщина жила ради вычетов из зарплаты. На прошлой неделе один из «Везувиев» Беа выборочно измерили, в нем оказалось всего одиннадцать дюймов, и она получила на пять долларов меньше.
На каждый кусок булки – а всего их три – Беа положила начинку, добавила лишнюю порцию острого соуса, накрыла все верхней ее частью и измерила свое сооружение. Чуть-чуть не дотягивает до нормы, значит, придется добавить салатных листьев. Наконец она положила его на тарелку рядом с тремя другими «Горами», поставила корзинку с колечками лука и корзинку жареной картошки с сыром, затем вызвала звонком официантку, вернула с перерыва другого повара, Мэнни, и, взяв конверт из плотной коричневой бумаги, вышла в переулок и подставила лицо июньскому солнцу. Как чудесно каждой клеточкой, каждым волосом ощутить теплый легкий ветерок после того, как полдня провела в маленькой кухне.
Беа достала из конверта листок – и оцепенела. Письмо было от матери; она безошибочно узнала почерк Коры Крейн.
Датировано более года назад и прикреплено к каким-то бланкам.
Моя дорогая Беа!
Если ты читаешь это, значит я умерла. Год назад. Всю твою жизнь я скрывала от тебя то, что должна была сказать, взяв тебя на руки, когда тебе был день от роду. Не я родила тебя, Беа. Мы с твоим отцом удочерили тебя.
Сама не знаю почему, но я стыдилась, что не могу родить ребенка, которого так отчаянно хотела, которого так отчаянно хотел твой отец. Когда сотрудник агентства по усыновлению положил тебя мне на руки, ты стала моей. Как будто бы тебя родила я, и, полагаю, сама жаждала в это верить. Поэтому мы с твоим отцом – упокой Господь его душу – так и поступили. Мы никогда ни словом с тобой об этом не обмолвились, так тебе и не сказали. И ты выросла, считая нас своими родителями.
Теперь же, чувствуя, что скоро умру, я не в силах унести это с собой. Но и сказать тебе об этом со смертного одра тоже не могу, не могу так с тобой поступить. Я пишу это письмо ради нас обеих. Но ты должна знать правду, потому что это правда.
Я очень сожалею, что не имела достаточно смелости быть честной с первой минуты. Сказать тебе, как благодарна была, как ты стала моей еще до нашей встречи, с той самой секунды, когда сотрудник агентства по усыновлению позвонил нам и сообщил эту новость.
Я надеюсь, что ты меня простишь, моя дорогая девочка. Ты моя дочь, и я люблю тебя всем сердцем.
Мама.
Беа вытащила письмо из-под толстой скрепки и просмотрела бланки. Документы об удочерении двадцатидвухлетней давности, выданные агентством по усыновлению «Рука помощи» в Брансуике, штат Мэн.
Дрожащими руками Беа засунула бумаги в конверт, прошлась по переулку, потом остановилась, вынула письмо и перечитала. Написанные черными чернилами слова начали сливаться: «Должна была сказать… Сотрудник агентства по усыновлению… Прости…» Если бы не мамин почерк и качественная бумага, которую она использовала для своей корреспонденции, Беа подумала бы, что ее кто-то разыгрывает.
«Удочеренная? Как так?»
Письмо и документы переслала юридическая фирма, о которой Беа никогда не слышала; ее мать Кора Крейн давно овдовела и была небогата, и когда умерла в прошлом году, после нее остался всего лишь скудно обставленный съемный коттедж, где она жила круглый год, слишком далеко от пляжа на Кейп-Коде, чтобы в нем поселиться. Беа осмотрела все ящики и шкафы, собирая последние драгоценные напоминания о матери, и будь это письмо в доме, нашла бы его. Ее мать, совершенно очевидно, устроила так, чтобы Беа узнала эту новость значительно позже ее смерти, когда немного утихнет скорбь.
Она попыталась представить мать, самого милого человека, которого когда-либо знала, сидящей в кровати в хосписе, пишущей это письмо и, скорее всего, страдающей. Но перед глазами вставала другая картина: ее мать, ее отец двадцать два года назад знакомятся с Беа, которой один день от роду. «Вот ваша дочь», – сказал, наверное, сотрудник агентства по усыновлению. Или что-то в этом роде.
«Кто же я, черт возьми?» – задумалась Беа. Она вспомнила снимок в рамке на столике у своей кровати. Это была ее любимая семейная фотография, сделанная когда ей исполнилось четыре года, и Беа любила смотреть на нее каждый вечер перед сном и каждое утро, проснувшись. Она сидит у отца на плечах, ее мать стоит рядом с ними, смотрит на Беа и смеется, позади них пылает оранжевыми и красными листьями дерево. На Беа плащ Бэтмена, который она упорно ежедневно носила несколько месяцев, и красная шапочка, связанная матерью. Кора сберегла эти старые любимые вещи, и теперь Беа хранила их в шкафу, в коробке с памятными вещами. Вспомнилась другая фотография, стоявшая на письменном столе в ее комнате: Беа с матерью на выпускной церемонии в колледже прошлым маем, чуть больше года назад, всего за несколько недель до того, как ее матери стало плохо и у нее диагностировали рак яичников, словно она только и держалась, чтобы увидеть выпуск Беа. Через два месяца ее не стало.
Кора Крейн, преподаватель игры на фортепиано, обладавшая терпением святой, с темными кудрями, ярко-голубыми глазами и открытой улыбкой, была ее матерью. Кит Крейн, красивый рабочий-строитель, каждый божий день певший ей перед сном в детстве ирландскую песню, пока не умер, когда ей было девять лет, был ее отцом. Крейны были чудесными, безумно любящими родителями, чью любовь Беа чувствовала каждый день своей жизни. Если кто-то другой произвел Беа на свет, это ничего не меняло.
Но ведь на свет ее произвел кто-то другой. Кто?
В ее душе поднялось смятение.
– Беа! – Ее начальница, Безумная Барбара, в гневе выскочила на улицу. – Какого черта ты там делаешь? Время ланча еще в самом разгаре! Мэнни сказала, что ты ушла не меньше двадцати минут назад.
– Просто я получила очень странное известие, – растерянно ответила Беа. – Мне нужно несколько минут.
– Если только кто-то умер, а если нет – немедленно возвращайся на работу. Берет увеличенный перерыв во время обеденной запарки, – забормотала себе под нос Барбара. – Кем она себя возомнила?
– Вообще-то… – смутилась Беа, понимая, что не справится с лавиной заказов. – Мне нужно домой, Барбара. Я только что получила странное письмо и…
– Или ты возвращаешься к работе, или уволена. Мне до смерти надоели все эти отговорки – целый день у одного болит голова, у другого заболела бабушка. Делай свое дело, или я найду того, кто способен оправдать свою зарплату.
Беа работала в «Безумном бургере» три года, с прошлого лета – на полную ставку, и была лучшим и самым расторопным поваром на кухне. Но Безумной Барбаре никогда не угодишь.
– Знаешь что? Я увольняюсь.
Она сняла фартук, сунула его Барбаре, в кои-то веки лишившейся дара речи, и пошла за сумкой из личного шкафчика.
Убрав в нее письмо, она полмили до дома прошагала как в тумане и споткнулась о чей-то рюкзак, едва войдя в квартиру в четырехэтажном кирпичном здании. Боже, как же неприятно жить с незнакомыми людьми. Она прошла по узкому коридору, наступив на чьи-то трусы-боксеры, отперла дверь в свою комнату и захлопнула ее за собой. Уронив сумку на пол, Беа села на кровать, прижимая к груди старую мамину подушку, вышитую крестиком, – и неподвижно просидела несколько часов.
– Ничего себе, Беа, вся твоя жизнь была ложью.
Не донеся до рта кусок пиццы, Беа уставилась на Томми Вонковски, бывшего звездного нападающего прославленной футбольной команды колледжа Бердсли. Полчаса назад она лежала на кровати, пялясь в потолок, осмысливая вчерашнюю ошеломляющую новость, когда зазвонил телефон: Томми, сидя в «Пиццерии По», спрашивал, не перепутал ли он время их свидания. Беа заставила себя встать и пройти два квартала до ресторана – она не ела и не выходила из комнаты после получения письма от матери. Но теперь, сидя напротив Томми, пожалела, что не отменила встречу. Вселенная Беа пошатнулась, и ей требовалась дружеская поддержка, а Томми Вонковски не мог этого дать. Беа и сама не понимала, зачем вообще согласилась на это первое свидание, но не каждый же день сексуальный спортивный парень предлагает ей встретиться. Когда на прошлой неделе они столкнулись в университетском Письменном центре, где она подрабатывала часть дня репетитором группы (Беа помогала ему с экзаменационной работой по английскому за первый курс, которую он наконец соизволил написать), девушка была очарована его красотой, их полной несхожестью и его преимуществом в росте. При своих пяти футах десяти дюймах она в присутствии Томми почувствовала себя изящной.
– Я бы не стала утверждать столь категорично, – сказала Беа, сожалея, что рассказала ему о письме. Но к тому моменту, когда официантка поставила перед ними большую пиццу, они исчерпали все темы для разговора, и Беа, посыпая тертым пармезаном свой кусок, выпалила то, чем была поглощена.
– Представляешь, что я вчера узнала? Оказывается, меня удочерили.
Но, да, можно сказать, вся ее жизнь была в какой-то мере обманом. Друзья, незнакомые люди – сама Беа – много лет удивлялись ее абсолютной непохожести на Кору и Кита Крейнов. Они темноволосые, она – блондинка. У ее матери потрясающе голубые глаза, у отца – зеленые, а у Беа – карие. Ее родители были среднего роста, она же была довольно высокой. Беа не обладала ни музыкальным талантом матери, ни математическими способностями отца. Оба они слыли спокойными интровертами, она же могла говорить, говорить и говорить. Беа помнила, как часто посторонние люди и друзья спрашивали, глядя на нее: «Откуда ты такая взялась?»
И ее папа отвечал: «О, у меня – очень высокий отец, почти шесть футов и два дюйма», и в доказательство показывал фотографии покойного деда, с которым Беа не встречалась. Или ее мать небрежно бросала: «У моей матери – упокой Господь ее душу – были такие же карие глаза, как у Беа, хотя у меня самой голубые от отца». И это тоже было правдой. Она видела фотографии бабушки по матери, умершей, когда Беа была совсем маленькой: карие глаза, как у Беа.
«Как будто бы тебя родила я, и, полагаю, сама жаждала в это верить. Поэтому мы с твоим отцом так и поступили».
– Черт возьми, ты, наверное, теперь ненавидишь свою мать, – сказал Томми с набитым пиццей ртом. – То есть всю жизнь она лгала тебе в отношении такой… как это называется?
– Основополагающей вещи, – сквозь зубы процедила Беа. «Да как ты смеешь предполагать, что я когда-либо возненавижу свою мать, ты, тупой переросток?!» – хотелось ей крикнуть. Но единственное, о чем она могла думать, это о последних минутах Коры Крейн, умиравшей в хосписе и из последних сил сжимавшей руку Беа. О ее милой матери. – Я совсем не питаю к ней ненависти. Никогда не смогла бы. – Однако, позволяя себе задуматься об этом, как невольно делала на протяжении последних суток, Беа чувствовала странную злость, заставлявшую сердце колотиться, а затем уступавшую место растерянности, от которой кружилась голова и становилось трудно дышать. Основополагающую правду от нее действительно скрывали. Но она не могла гневаться на мать, и в мыслях не было. Ее мать умерла. – Она объяснилась в письме. И если бы ты знал мою мать…
– Приемную мать.
Она сердито на него посмотрела.
– Ну да, приемную. И все же – нет, она моя мать. Просто моя мать. То, что она меня удочерила, ничего не меняет, Томми.
Он взял второй кусок и впился в него – потянулись ниточки расплавленной моцареллы.
– Вообще-то, меняет, Беа. Я хочу сказать, что родила тебя другая женщина.
Обескураженная, Беа откинулась на стуле. И в самом деле, родила ее другая женщина, о существовании которой она не знала до вчерашнего дня. Существование которой не могла себе вообразить. Не было ни лица, ни цвета волос, ни имени. Прошлой ночью, наконец закрыв глаза в три часа, она представила себе биологическую мать со своей внешностью, только… старше. Но насколько старше? Была ли ее биологическая мать подростком? Или очень бедной женщиной, не имевшей возможности прокормить лишний рот?
Двенадцатого октября двадцать два года назад какая-то женщина родила Беа, а потом отдала на удочерение. Почему? Что у нее за история? Кто она такая?
– Да, Томми, меня родила другая женщина, – сказала она, опять потеряв аппетит. – Но это всего лишь делает ее моей биологической матерью.
– Всего лишь? О биологической матери нельзя сказать – «всего лишь». – Он щелкнул языком, вонзил зубы в третий кусок пиццы, глядя в окно на оживленную бостонскую улицу, как будто это Беа требовался репетитор, и повернулся к ней: – Ну, скажем, ты выйдешь замуж и усыновишь ребенка, и вот этот ребенок умирает от какой-то страшной болезни, а ваша с мужем кровь не подходит. Биологическая мать могла бы спасти жизнь твоему ребенку. Ты только представь, это же грандиозно. В смысле, подумай об этом.
Но Беа не хотела. Ее родителями были Кора и Кит Крейны. «Ля-ля-ля, зажать уши». И тем не менее чем дольше она слушала Томми Вонковски, объяснявшего, как ей следует относиться к ситуации, тем больше осознавала, что он во многом прав.
Беа бродила по Бостону, одолеваемая мыслями о странном письме, перевернувшем всю ее жизнь. Неделю назад она была одним человеком: дочерью Коры и Кита Крейнов. Конец истории. Теперь же оказалась другой личностью. Приемной дочерью. При рождении она была началом чьей-то истории. Может, концом чьей-то истории. Что это за история? Она не могла отделаться от мыслей о своих биологических родителях: «Кто они? Откуда родом? Как выглядят?» И – да, с подачи Томми Вонковски: «Каким образом это связано с медициной?»
Она сидела за письменным столом, любимые романы, сборники эссе, записки о первом годе жизни в качестве школьного учителя и ноутбук придавали ей сил, позволяли снова почувствовать себя прежней. Беа пристально смотрела на конверт из коричневой бумаги, лежавший рядом с книжкой «Убить пересмешника», по которой защитила диплом. Сейчас она должна была бы преподавать в школе английский, в средних или старших классах, учить детей писать добротные сочинения, критически воспринимать романы, объяснять, почему они должны любить английский язык. Но когда прошлым летом умерла ее мать, Беа пала духом. Она не пошла ни на одно собеседование в частные школы, куда подала заявления, а в муниципальных хотели, чтобы она получила степень магистра, а это означало бы новые займы. И вот где она теперь, год спустя, – не преподает и по-прежнему живет вместе со студентками. Изменилось только одно: она оказалась не той, кем себя считала.
Беа рассматривала их с матерью фотографию в день выпуска в колледже: это она, та же Беа Крейн, что и на прошлой неделе. С теми же воспоминаниями, с тем же разумом, сердцем, душой и мечтами.
Но каждой клеточкой своего тела она чувствовала себя иной. Ее удочерили. В этот мир ее привели другая женщина, другой мужчина.
Почему это должно что-то менять? Почему это имеет такое значение? Почему она не может просто примириться с правдой и жить дальше?
Например, потому что одна. Две ее приятельницы уехали из Бостона после окончания колледжа. Ее лучшие школьные подруги разлетелись по всей стране и Европе: у всех летний отдых, кроме Беа, у которой не было дома, и ей некуда ехать.
Она чувствовала себя запертой в клетке и в то же время свободной. Вот она гуляла по Бостону, думая о родителях, а в следующую секунду – о безымянной, безликой биологической матери. А потом она возвращалась в свою комнату и сверлила взглядом коричневый конверт, пока не открывала его и не перечитывала документы на усыновление, ничего ей не говорившие.
Ей так хотелось узнать хоть что-нибудь, позволившее бы сделать лишенные смысла слова «биологическая мать» более… конкретными.
– К черту! – Беа схватила конверт, вытряхнула бумаги, и прежде чем успела передумать, взяла сотовый и набрала номер телефона, указанный на первой странице.
– Агентство по усыновлению «Рука помощи», чем я могу вам помочь?
Глубоко вздохнув, Беа описала свою ситуацию и сказала, что хотела бы узнать имена родителей. Вероятнее всего их не будет. Беа кое-что почитала и выяснила, что документы по большинству усыновлений являются закрытыми, как и в ее случае, если судить по этим бумагам, но иногда биологические матери оставляют свои фамилии и контактную информацию для досье по усыновлению. Существовали также регистрационные записи, в которых могли расписаться биологические родители и усыновители. Сама Беа нигде не стала бы расписываться.
– Ясно. Я посмотрю в вашем досье, – сказала женщина. – Подождите минутку.
Беа затаила дыхание и подумала: «Пусть возникнут трудности. Никаких имен». Она не была готова к этому.
Зачем она позвонила? Когда женщина вернется к телефону, Беа поблагодарит ее за поиски и скажет, что передумала, поскольку не готова узнать что-либо о своих биологических родителях.
– Очень удачно, – сообщила женщина. – Чуть больше года назад ваша биологическая мать звонила, чтобы внести в досье новый адрес. Ее зовут Вероника Руссо, и она живет в Бутбей-Харборе, штат Мэн.
Беа не могла вымолвить ни слова.
– Дать вам минутку? – спросила женщина. – Я не стану вас торопить, не волнуйтесь. – И действительно, выдержала паузу, а когда у Беа готова была лопнуть голова, произнесла: – Дорогая, у вас есть ручка?
Беа взяла серебряный «Уотерман», подаренный мамой в честь окончания колледжа, и механически записала адрес и номера телефонов, продиктованные женщиной: домашний и сотовый.
– Она даже внесла рабочий адрес и телефон, – продолжила сотрудница. – «Лучшая закусочная в Бутбее».
Вероника Руссо. Ее биологическая мать имела имя. Она была реальным человеком, живущим и дышащим, и внесла последние изменения в досье. Она оставила всю возможную контактную информацию.
Ее биологическая мать хотела, чтобы ее нашли.
Беа поблагодарила женщину и нажала отбой. Поежилась и взяла свой любимый свитер – старый рыбацкий свитер отца из небеленой шерсти, который купила ему Кора, когда они проводили медовый месяц в Ирландии. В этом же свитере отец был заснят на ее любимой фотографии, где держит Беа на плечах.
Надев свитер, девушка обхватила себя руками, сожалея, что от него не пахнет отцом: мылом «Айвори», «Олд спайсом» и безопасностью, – но отца не стало, когда Беа было девять. Давно. В течение следующих одиннадцати лет Беа с матерью жили вдвоем – дедушки и бабушки с обеих сторон уже умерли, Крейны были единственными детьми в своих семьях.
А потом Беа потеряла мать. Осталась одна.
Она села в эркере, глядя на проливной дождь. «У меня есть биологическая мать. Ее зовут Вероника Руссо. Она живет в городке под названием Бутбей-Харбор, штат Мэн. Она работает в закусочной, которая называется «Лучшая закусочная в Бутбее».
Звучало мило. Женщина, работающая в такой закусочной, не может быть совсем уж плохой, правда? Она, вероятно, официантка, из тех приветливых теток, которые называют клиентов «дорогуша». А может, она, перенеся множество жизненных тягот, стала суровой и непреклонной женщиной, с угнетающим стуком ставящей тарелки с яичницей и рыбой с чипсами.
Возможно, она повар блюд быстрого приготовления. Это объяснило бы способность Беа сооружать невероятные гамбургеры, хотя в своей комнатке без кухни она ничего приготовить не может. Работая минувший год в «Безумном бургере» и в Письменном центре, она получала достаточно, чтобы оплачивать снимаемое жилье. Но в июле с деньгами будет туговато, и Письменный центр не всегда открыт во время летнего триместра. Последний жалкий чек на зарплату, за полнедели в «Безумном бургере», тоже не слишком поможет.
Ей негде жить, некуда поехать. Но у нее появились эти имя и адрес.
Она могла бы отправиться в Мэн, заставить себя войти в «Лучшую закусочную», сесть за стойку, заказать кофе и посмотреть на таблички с именами на фартуках официанток. С такого близкого расстояния она сумела бы разглядеть свою биологическую мать. Ей это по силам.
Да. Она поедет туда, посмотрит на Веронику Руссо и, если захочет, представится ей. Не сказать, правда, что она знает, как это сделать. Может, бросить записку в почтовый ящик или просто позвонить? Потом они где-нибудь встретятся – погуляют или посидят за чашкой кофе. Беа выяснит то, что ей нужно знать, чтобы прекратить строить догадки, размышлять, доводить себя до безумия. Затем поблагодарит Веронику Руссо за информацию, вернется в Бостон и начнет искать новое жилье. И новую работу. Придется, видимо, расстаться с мечтой о преподавании. Она вернется домой сразу же, как только разберется с прошлым, и подумает, что делать со своей жизнью.
Домой. Как будто у нее есть дом. Эта комната – просто-напросто большая кладовка. А съемный коттедж матери на Кейп-Коде, куда они переселились после смерти Кита Крейна, давно продан его владельцем. Но тот маленький белый коттедж оставался единственным местом на земле, где она чувствовала себя дома в Дни благодарения, в Рождество, во время летних каникул, а случалось, и когда наваливались проблемы, разбивалось сердце или она просто нуждалась в своей маме.
Теперь остались только воспоминания и этот старый рыбацкий свитер. И незнакомая женщина Вероника Руссо в Мэне. Давно ожидающая, чтобы Беа ее нашла.
Глава 2
Вероника Руссо
Только идиотка стала бы печь пирог «Любовь» – шоколадный с карамельным кремом, по особому заказу – во время просмотра «Гордости и предубеждения». Добавила она ваниль? А соль? Будь он неладен, этот Колин Фёрт в своей намокшей в пруду белой рубашке. Вероника положила мерные ложки на засыпанный мукой рабочий стол и переключила внимание на маленький телевизор, стоявший рядом с кофеваркой. Боже, как же ей нравится Колин Фёрт. Не только потому, что он такой красивый. Этот телевизионный мини-сериал снят не меньше пятнадцати лет назад, и Колину Фёрту сейчас под пятьдесят. Хотя выглядит он по-прежнему великолепно. Но дело не только в этом. Колин Фёрт – это шесть футов два дюйма надежды. Для Вероники он воплощал то, что она искала всю жизнь, но так и не нашла и, вероятно, никогда не найдет. Веронике было тридцать восемь. До сих пор не замужем.
«Если бы ты хотела любви, действительно хотела любви, ты бы ее получила», – много раз говорили ей подруги, даже бойфренды. «С тобой что-то не в порядке, – заявил ее последний кавалер и ушел, хлопнув дверью, потому что она не согласилась выйти за него замуж. – У тебя как-то не так работает сердце».
Может быть. Да нет, Вероника знала, что это правда. И знала, в чем причина. Но сейчас, в тридцать восемь лет, подруги переживали, что она так и останется одна. Вот и приходится говорить то, что кажется одновременно легкомысленным и правдивым: она надеется встретить мужчину, который станет для нее Колином Фёртом. Ее подруга из закусочной прекрасно знала, что имеет в виду Вероника.
– Конечно, он – актер, играющий роли, но я понимаю, – сказала тогда Шелли. – Честный. Порядочный. Вселяет уверенность. Ума – через край. Верный. Просто веришь всему, что он говорит с этим его британским акцентом, – и доверяешь.
Всё это и еще – он так немыслимо красив, что Вероника запуталась с собственным пирогом «Любовь», который могла бы испечь и во сне. Ее особые чудо-пироги пользовались большим спросом с тех пор, как она вернулась в Бутбей-Харбор чуть больше года назад. Она выросла в Бутбее, но дом купила не в том районе, где жила с родителями. Она с первого взгляда влюбилась в лимонно-желтое бунгало на Морской дороге, и в день своего вселения туда услышала чей-то плач, когда вешала деревянные жалюзи на раздвижные стеклянные двери, ведущие на террасу. Вероника высунула голову и увидела соседку, сидевшую на заднем крыльце в черном неглиже и черных кожаных туфлях на шпильках. Она подошла и спросила, чем может помочь, и женщина крикнула, что ее брак распался. Вероника села и уже через несколько минут ее соседка, Фрида, выложила всю историю – как старалась завлечь собственного мужа, едва смотревшего на нее в последнее время, домой на ланч. Но он сказал, что захватил остатки от прошлого ужина и ему достаточно.
– Он скорее съест сэндвич с холодным мясным рулетом, чем займется мною! – воскликнула Фрида. – Сколько месяцев я пытаюсь его вернуть, но ничто не помогает.
И она вновь залилась слезами.
Вероника сказала соседке, что испечет особый пирог, которым Фрида угостит мужа на десерт этим вечером. Подавая ему его порцию, Фрида должна думать о том, как сильно любит и хочет своего мужа, и погладить его по затылку.
Тем же вечером Фредерик Малверсон посетовал, будто что-то на него нашло, и вернулся. Теперь Вероника каждую пятницу пекла для Фриды пирог «Любовь». Одно словечко друзьям и родным Фриды, и телефон Вероники начал разрываться от звонков, как это было и в Нью-Мексико. Пирог «Любовь» пользовался наибольшим спросом.
Она пекла свыше двадцати особых пирогов в неделю. Плюс два в день для «Лучшей закусочной в Бутбее», где работала официанткой. И девять в неделю – для трех местных гостиниц. Но те – для закусочной и гостиниц – были всего лишь пирогами «Счастье», вкус которых наводил на мысль о летних каникулах. Свои особые чудо-пироги она приберегала для клиентов по всему городу, все – от пирога «Выздоравливай», который выполняла во всевозможных диетических вариантах, например без клейковины, без молока и даже без сахара, до пирога «Уверенность», в состав которого входил сок лайма.
А вот чего ей не удавалось, так это приготовить для себя пирог «Колин Фёрт». Для сотен заказчиков она испекла «Любовь», похоже, привлекая к ним это чувство. Конечно, может, все дело в самовнушении, но что с того, если это работает? «Ты получаешь то, во что веришь», – говаривала бабушка Вероники. При мысли о дорогой Ренате Руссо, умершей всего за несколько месяцев до трудностей, начавшихся у Вероники в шестнадцать лет, она закрыла глаза. Она позволяла себе помнить те времена, когда у нее была семья, и Вероника, ее родители и бабушка садились за стол в доме, где она выросла – всего в нескольких милях отсюда – и наслаждались большим итальянским обедом. Фрикадельки и столько лингвини в домашнем томатном соусе, приготовленном бабушкой, что, казалось, ее кастрюли бездонны.
Она тосковала по тем дням, закончившимся апрельским утром, когда шестнадцатилетняя Вероника выложила за завтраком с блинами, что беременна. Вот у нее есть семья – минус любимая бабушка. А через миг Веронику отправили прочь.
«Зачем ты расстраиваешь себя мыслями обо всем этом?» Она снова переключила внимание на экран и поверявших друг другу свои любовные тайны сестер Беннет, Элизабет и Джейн в очаровательных белых платьях. Но с момента возвращения в Бутбей-Харбор только о прошлом и могла думать. Поэтому-то и приехала домой, чтобы взглянуть прошлому в лицо. Перестать… убегать.
Она думала, что если вернется сюда, если встретится со своим прошлым лицом к лицу, тогда, возможно, ее сердце заработает как надо. И может быть, может быть, может быть, с ней свяжется дочь, которую она отдала приемным родителям. Вероника жила в Нью-Мексико, когда ее дочери исполнилось восемнадцать, и позвонила в агентство по усыновлению «Рука помощи», оставив контактную информацию, затем сделала то же самое, позвонив в регистрационный отдел штата Мэн. В тот день она ждала звонка. И на следующий. Но молодая женщина не объявилась и не спросила, не она ли Вероника Руссо, не она ли родила девочку 12 октября 1991 года в Бутбей-Харборе, штат Мэн. В следующие несколько недель Вероника постоянно держала телефон при себе, в любую минуту ожидая звонка. Она не знала, почему верила, что ее дочь свяжется с ней в день своего восемнадцатилетия, но верила.
Печь пироги, вселявшие надежду, она начала тогда, четыре года назад в Нью-Мексико. Прежде она не слишком увлекалась выпечкой, но как-то посмотрела кулинарное шоу, посвященное праздничным пирогам, и купила ингредиенты для приготовления торта. Ей понравились мука на ощупь, бледно-желтые кусочки холодного сливочного масла, текстура кулинарного жира, белизна сахара и соли, прозрачность воды. Такие простые составляющие, хотя ничего сложного в приготовлении теста из обычных продуктов не было. Но Вероника не сдавалась, пока не добилась совершенства для своего теста, всех видов, в зависимости от пирога. Именно так она открыла то, что ее успокаивает, заменяет одинокие ночи любимой работой на кухне. Ей нравилось печь пироги. Они казались ей необыкновенными, и, готовя их для подруг, она называла их по тем поводам, ради которых пекла. Для подруги с разбитым сердцем – «Заживляющий». Для больной подружки – «Выздоравливай». Для хандрящей – «Счастье». Для страдающих от безнадежной любви – «Любовь». Для обеспокоенных – «Уверенность». Пользовался популярностью и ее пирог «Надежда». Одна подруга хотела, чтобы ее бойфренд, вновь отправлявшийся в зону военных действий, вернулся из Афганистана целым и невредимым, и Вероника испекла для нее чизкейк с соленой карамелью, в который вложила всю надежду, и подруге велела сделать то же, когда та будет отрезать первый кусок. Бойфренд вернулся лишь с переломом ноги. Ее пироги оказали свое благоприятное магическое воздействие на стольких людей, что Вероника обзавелась обширной клиентурой. «Как это действует?» – хотели они знать. Вероника обладает магическими способностями или все дело в молитве? И удаче. Может, во всем понемногу.
Но Вероника ни разу не испекла для себя пирог «Колин Фёрт», чтобы привлечь в свою жизнь мужчину, которого наконец-то полюбит. Все волшебные пироги мира не смогли бы излечить ее разбитое сердце. Она утратила способность полюбить кого-то, несмотря на всю свою доброжелательность к окружающим. Однажды она любила так пылко, и была так непоправимо оскорблена. Смертью бабушки. Шестнадцатилетним парнем. Отказавшимися от нее родителями. Она пыталась любить, изо всех сил пыталась. Эти годы Вероника провела не одна, привязанности были. Кто-то на пару лет, кто-то всего на несколько месяцев – самые разные мужчины. От привлекательного повара по дежурным блюдам в первой закусочной, в которую в шестнадцать лет ее взяли официанткой – это было во Флориде, куда она переехала после рождения дочери, – до гордого моряка в Нью-Мексико, заявившего, что устал ждать ее согласия и они едут в Лас-Вегас, чтобы пожениться, нравится ей это или нет. Она снова попыталась объяснить, сказала, что можно провести чудесный, романтический уик-энд в Вегасе и без брачной церемонии, без разговоров о женитьбе, но он решил, что она сбежит, как только они доберутся до свадебной часовни. Она не сбежала. Это он, взбешенный, раскричался, что с него хватит и ее самой, и ее неспособности связать себя с ним брачными узами, и, бросив ее там, у часовни, уехал, и Вероника его больше не видела. Когда на следующий день она вернулась в Нью-Мексико, его немногочисленные пожитки исчезли из дома, в котором он практически жил с ней. Она так и не открыла ему свое сердце. Оно ни для кого не открылось полностью, кроме Тимоти Макинтоша, парня, о котором она старалась не думать последние двадцать два года.
Именно там, перед маленькой белой свадебной часовней, Вероника поняла, что должна вернуться в Бутбей-Харбор. Если она хочет когда-нибудь прийти в себя, нужно вернуться. В свой родной город, где ее отослали из дома, где она родила свою девочку, две минуты подержала на руках, а затем вынуждена была отдать. Вероника поверила, что если вернется, встретится со всеми воспоминаниями, то пирог «Надежда» сработает, возможно, и для нее, и сердце внезапно раскроется, и та малышка разыщет ее.
Веронике просто хотелось знать, что у ее дочери, которую она отдала, все благополучно. Иногда она думала, что достаточно узнать это, чтобы жить дальше. Ее разбитое сердце исцелится, и жизнь изменится. Во всяком случае, могла бы измениться.
Поэтому она вернулась домой, хотя и испытывала неуверенность. Вернулась и сразу же попыталась встретиться со своими демонами. Прежде чем искать жилье в городе, Вероника поехала к дому, в котором выросла, белому коттеджу – два этажа с фасада и один – с обратной стороны, двухскатная крыша с длинным скатом на одноэтажную часть и сдвинутым к передней части коньком; новые хозяева выкрасили ее дом в синий цвет. Вероника остановила автомобиль на обочине, ее затошнило, и она быстро оттуда уехала. Но несколько раз возвращалась, и реакция становилась все менее острой. Как и в отношении дома, где жили Макинтоши, кирпичного коттеджа, где они с Тимоти провели столько времени. Она даже сходила в лес, где они ставили старую скаутскую палатку и часами обсуждали свои мечты, говорили, что уедут из Мэна сразу же после школы – на автобусе компании «Грейхаунд» во Флориду: там всегда тепло и не бывает снега. Старая палатка, в которой был зачат их ребенок.
Вероника старалась посмотреть в лицо своему прошлому, но, видимо, что-то делала не так – может, смотрела не на те вещи, – потому что чувствовала себя в Бутбей-Харборе так же неуютно, как и в тот день, когда приехала сюда год назад. Почему, понять она не могла. Никому не было дела до случившегося двадцать два года назад, кроме нескольких человек, помнивших ее девчонкой, забеременевшей за год до выпуска из школы, девчонкой, родители которой были настолько обескуражены, что выгнали ее, продали свой дом и уехали из города, из штата, бросив дочь на произвол судьбы. Двое из этих, действительно помнивших, людей записались, к несчастью, на ее курс по приготовлению пирогов, начинавшийся в понедельник вечером, – Пенелопа Вон Блан и Сиси Олвуд, которые ходили с ней в школу и вели теперь идеальный образ жизни и делано улыбались Веронике, а потом шушукались за ее спиной. Курсы Вероники пользовались популярностью; она уже провела четыре таких, но ограничивала класс пятью учениками, чтобы уделить внимание каждому. Какая ирония, ведь большую часть минувшего года она старалась не обращать внимания на Пенелопу и Сиси.
Лицо Фицуильяма Дарси заполнило экран. «Однако, если ваши чувства изменились, я скажу вам: вы безраздельно пленили меня, и я люблю, люблю, люблю вас. И желал бы с этого дня никогда с вами не расставаться», – говорил он Элизабет, и что-то шевельнулось в душе Вероники, как всегда при этой сцене. Боже, как же он настойчив. Настойчив в своей пламенной любви.
В дверь позвонили, и Вероника оторвалась от поцелуя, которого ждала на протяжении всей серии. Вытерла о фартук перепачканные мукой руки, бросила последний взгляд на экран и пошла открывать.
Офицер Ник Демарко и его дочь, которой, как прикинула Вероника, было девять лет, может, десять. Вероника всегда про себя называла его офицер Демарко, хотя они вместе учились в школе. Ну, во всяком случае, до предпоследнего года. Он дружил с Тимоти, парнем, как все знали, сделавшим Веронике ребенка. Поэтому Вероника держалась на расстоянии от Ника, который, в свою очередь, тоже не искал с ней сближения. Сейчас он был не в полицейской форме, а в джинсах и футболке бостонских «Ред Сокс». Дочка была копия отца. Темные волосы с более светлыми каштановыми прядями и темно-карие глаза с длинными ресницами. Правда, подбородок у нее был маленький, хотя в Нике Демарко ничего маленького не наблюдалось.
– Мы не опоздали? – спросил Ник, заглядывая в глубь дома. Девочка выжидающе смотрела на Веронику.
– Не опоздали куда? – спросила она.
– На занятие, – сказал он.
«На занятие?» Ник Демарко точно не записывался на ее курсы. Если бы так, то даже двухчасовое лицезрение Колина Фёрта на протяжении последних четырех вечеров не позволило бы Веронике забыть об этом.
– Ну, вообще-то, вы рано. Мой курс по приготовлению пирогов начинается в понедельник вечером. Время правильное, день не тот. Но ведь вы ко мне не записывались, или я ошибаюсь?
Ник поморщился.
– Твоя рекламная листовка неделю лежала у меня в кармане, я все собирался позвонить, а потом решил, что мы просто придем.
У девочки был такой вид, будто она сейчас заплачет.
– Но ведь мы все равно можем прийти на ваши занятия? – обратилась она к Веронике.
Вот черт. Группа была набрана полностью. У нее и так уже шесть человек, а она действительно предпочитала ограничивать четырехнедельные курсы пятью учениками. В противном случае, Вероники на всех не хватало, да и становилось тесновато. Слишком много локтей за рабочими столами.
Офицер Демарко смотрел на нее не отрываясь, умоляя сказать: «Да, конечно, ты можешь прийти на мой курс, милая девочка».
–Так удачно получилось, что у меня есть несколько свободных мест, поэтому все в порядке, – улыбнулась она его дочери.
Вероника увидела, как ребенок расслабился, и удивилась про себя, почему для нее так важно научиться печь пироги – и возможно, один из ее особых пирогов.
– Как тебя зовут, милая? – спросила она.
– Ли. Ли Демарко. Мне десять лет.
– Хорошо, Ли, приходи с папой в понедельник ровно в шесть часов и не забудь фартук. – Взгляд Ника сказал ей, что фартука у них нет. – Но если у тебя его нет или ты забудешь, у меня есть лишние.
Ли улыбнулась, и ее личико осветилось.
– Ты хочешь научиться печь какой-то особый пирог? – спросила Вероника у девочки. – На первом занятии я планирую заняться яблочным, но не скрываю и рецепты моих особых чудо-пирогов, если кто-то решит испечь один из них.
Девочка покосилась на отца, потом уставилась в пол.
– Яблочный подойдет. На прошлой неделе я пробовала его за ужином. Очень вкусно.
Девочка явно выбрала какой-то из особых пирогов, но не хотела говорить об этом в присутствии отца.
– Ах да, мой яблочный пирог «Счастье», – сказала Вероника.
– Я действительно почувствовала себя счастливой, когда его ела, – согласилась Ли, но ее плечики поникли.
Ник взъерошил волосы дочери.
– Что ж, не станем больше тратить твое время, Вероника. Прости, что напутали. Значит, увидимся в понедельник в шесть.
Ему было настолько неловко, что Вероника его пожалела. Она хорошо разбиралась в людях, именно это позволило ей прославиться своими пирогами. Но почему Ник Демарко так спешит уйти, понять не могла. Скорее всего, служебные дела.
Не успела Вероника запереть дверь, как снова позвонили.
На этот раз на крыльце стояла только Ли Демарко. Ее отец остался на дорожке. Он поднял руку, и Вероника кивнула ему.
– Да, милая? – обратилась она к Ли.
– Я вспомнила, какой особый пирог хочу научиться печь, – прошептала Ли. – Но пусть это останется тайной, если можно.
– Конечно.
Закусив губу, Ли обернулась, желая убедиться, что отец не услышит.
– Я хочу научиться печь пирог, который вы делали для миссис Бакмен. Она моя соседка. На прошлой неделе она пригласила меня перекусить после школы и дала кусок этого пирога. Она сказала, что вы испекли его специально для нее. Она сказала, что от него и у меня улучшится настроение.
Сердце Вероники сжалось. Пирог, который она испекла для Аннабет Бакмен, назывался «Душа», шу-флай, единственный, который, судя по всему, помогал Веронике почувствовать себя ближе к бабушке. Ничего особенного, просто черная патока и посыпка из крошек с коричневым сахаром, его теперь редко встретишь, но Вероника его любила. Ее бабушка выросла, готовя этот пирог для своей семьи в самые безденежные времена, и Рената Руссо говорила, что была бы счастлива больше никогда в жизни не печь шу-флай и иметь доступ к фруктам, хорошему шоколаду и другим восхитительным ингредиентам. Но однажды, в первые недели по возвращении в Бутбей-Харбор, Вероника так затосковала по бабушке, что впервые испекла шу-флай, и когда запахло густой патокой и посыпкой из крошек с коричневым сахаром, ощутила в комнате ее присутствие. Она почувствовала ее так близко – ее любовь, все то, что она сказала бы Веронике теперь. Боже, насколько иначе сложилась бы жизнь, будь бабушка жива, когда Вероника забеременела. Скорее всего она оставила бы ребенка, а не отдала на усыновление. Бабушка взяла бы их в свой дом.
«Сосредоточься на Ли», – приказала она себе, коротко вздохнув.
– Я знаю, о каком пироге ты говоришь, Ли. Это мой пирог «Душа» – шу-флай. Когда ты его готовишь или ешь, то думаешь о человеке, близость которого хочешь ощутить. Вот так он действует. Пирог этот получил свое название давно, он был таким сладким, что привлекал мух, пока остывал. Поэтому хозяйки приговаривали: прочь, муха! – шу, флай[1]! И название пристало.
– Шу-флай, – повторила Ли. Потом кивнула и собралась было уйти, но снова повернулась и сказала: – Спасибо.
«Это связано с ее матерью, – сообразила Вероника. – Ли, должно быть, хочет почувствовать ее присутствие». Вероника слышала, что жена Ника Демарко погибла в результате несчастного случая на воде два года назад.
«О, Ли», – подумала она, глядя, как девочка просовывает ладошку в руку отца и они уходят по Морской дороге.
Эта приятная малышка без труда впишется в ее занятия. Отец, вероятно, не продержится дольше первого урока. Они, видимо, из тех, кто «делают что-то вместе», а потом он просто не привезет Ли на следующее занятие, и Веронике не придется в маленьком пространстве своей кухни находиться с Ником Демарко, который, без сомнения, помнит ее по школе и в курсе, что она забеременела, а потом таинственным образом исчезла. Тогда все знали, что ее отослали в «Дом надежды», заведение для беременных девочек-подростков на окраине города. Немногочисленные подруги Вероники сказали ей, что все это обсуждают и Тимоти Макинтош отказывается от отцовства, говорит, будто Вероника спала со многими.
«Почему же до сих пор при этих воспоминаниях так больно в груди?» – удивилась она, прибавляя громкости в телевизоре. «Забудь обо всем, кроме “Гордости и предубеждения” и лица Колина Фёрта», – сказала себе Вероника. В конце концов, ей нужно испечь пирог «Любовь», а для этого необходимо находиться в определенном настроении. Она досмотрела «Гордость и предубеждение», пожирая глазами Колина Фёрта, и вернулась к работе.
Глава 3
Джемма Хендрикс
С того момента, два дня назад, когда Джемма увидела розовый плюсик на экспресс-тесте на беременность, она пребывала в самой настоящей панике. Своей новостью она ни с кем не поделилась. Как только она сообщит Александру, он схватит ее в охапку, закружит по комнате, потом позвонит своим родным, закажет грузовик праздничных сигар и запустит в действие план, который медленно высосет жизнь из души Джеммы.
Поскольку на прошлой неделе Джемма потеряла работу – работу, которую любила настолько сильно, что все еще каждый вечер засыпала со слезами на глазах, – она знала, что Александр, помощник прокурора, использует все свое изрядное мастерство для обоснования довода, вынашиваемого им уже почти год: обзавестись тремя детьми, переехать в тот же городок в округе Уэстчестер, где жили его родители и семья брата, предпочтительно на равном расстоянии от обоих домов, и Джемма превратится в домоседку, устраивающую свидания в песочнице. «Нам по двадцать девять, бога ради, Джемма, – постоянно говорил Александр. – Мы женаты пять лет. Мы взрослые люди».
Джемма стиснула перила балкона в их квартире, высоко над улицами Манхэттена, на восемнадцатом этаже. Минуту назад ей было так хорошо. Она сидела на кровати с ноутбуком, договариваясь с Джун насчет своего приезда этим вечером в Мэн на свадьбу их общей подруги, назначенную на завтрашний вечер. Затем – щелк, щелк, щелк. Семь мейлов от матери Александра. Списки домов в Доббс-Ферри с мыслями и чувствами Моны Хендрикс по поводу каждой комнаты, выбора краски, пейзажей и краткой информацией о соседях, поскольку Мона считала своей обязанностью заранее их оценить.
Господи боже. До этого момента Джемма чувствовала себя прекрасно. Зная, что скоро сядет в машину и поедет в Мэн на девичник, на уик-энд вдали от Александра, который продохнуть ей не дает (то ли еще будет, когда она скажет ему о беременности – он станет невыносимым), Джемма сумела успокоиться, паника немного утихла. Затем от Моны пришли письма – образ той жизни, которую пытается навязать ей Александр, и Джемма выскочила на балкон глотнуть воздуха.
О нет. Теперь Бесселлы, их соседи, вышли на террасу со своим младенцем Джейки. Джейки-Вейки то, Джейки-Вейки сё. Джемма слышала, как Бесселлы всю ночь ворковали над своим ребенком: «Джейки-Вейки нужно поменять памперс-мамперс!» Похоже, даже в три ночи Бесселлы с восторгом меняли обкаканный подгузник.
Лидия Бесселл держала Джейки и дула на голый животик малыша, а Джон Бесселл делал вид, будто покусывает крохотную ступню. Джейкоб гукал от удовольствия.
Джемма во все глаза смотрела на них, пытаясь представить себя с ребенком, но не могла. Она прирожденный журналист, пишущий призовые статьи о жизни в бруклинском многоквартирном доме или о том, как ураган «Сэнди» повлиял на жизнь людей в конкретном квартале Фар-Рокуэя. Она должна была находиться там, узнавать, кто, что, где и почему, и писать статьи, вызывающие сотни писем и откликов. Она – репортер, была репортером с того момента, когда ступила в редакцию школьной газеты в старших классах. Она всегда хотела заниматься только этим, докапываться до истины, делить с людьми их подлинные чувства, давать читателям свою точку зрения на события. Но ее напряженная работа, выплаты профсоюзных взносов, все продвижение по службе, круглосуточное сидение над статьями, чтобы успеть к немыслимым срокам, – все пошло коту под хвост, когда на прошлой неделе ее вызвали в кабинет к начальству в «Нью-Йоркском еженедельнике», давно выходящей, уважаемой альтернативной газете, где твое имя в начале статьи кое-что да значило. Ее отпустили. Отпустили со словами: «Мне так жаль, Джем, я за тебя боролся, но времена тяжелые, и наверху сказали, что персонал, проработавший меньше пяти лет, уходит первым на этом витке увольнений. Тебя быстро подберут, Джемма. Ты – лучшая».
Верно. Лучшая. Хотя лучшую не отпустили бы, да? Александр, надо отдать ему должное, настаивал, что «лучшая» не имеет никакого отношения к «верхам» и их идиотским решениям. Он заверил Джемму, что любая газета в городе ухватится за нее. Да только они не ухватились. «Никого не берем, извините», – рефреном услышала она в пяти газетах. Но затем Александр начал говорить, что увольнение к лучшему и настало время обзавестись детьми, перейти к следующему этапу их жизни.
Джемма даже не знала, что повергло ее в больший шок – потеря работы в «Нью-Йоркском еженедельнике» или розовый плюсик теста.
Как это случилось? Джемма аккуратно принимала противозачаточные таблетки, ровно в семь каждое утро. Полтора месяца назад ей прописали антибиотики из-за бронхита, и когда врач сказал, что они ослабляют эффективность противозачаточных, Джемма заставила Александра пользоваться презервативами, вызвав у него тяжелый вздох.
А теперь она беременна. Один дурацкий порвавшийся презерватив. Бац.
Александру она не скажет, пока не разработает надежный план, достаточно убедительный, чтобы опровергнуть любой его довод. Она обдумывала его два дня. Они останутся в Нью-Йорке. Не переедут в Уэстчестер – не говоря уже о городке, в котором живут властные Хендриксы. Она разошлет новую партию резюме по следующему кругу новостных изданий. Она найдет классное новое место, доработает до родов, родит, затем вернется на работу, когда ребенку исполнится три месяца, загодя договорившись с няней, которая станет приходить на большую часть дня или на весь день. Они с Александром составят расписание отгулов, чтобы сидеть с больным ребенком или ходить с ним на осмотр к педиатру. В последние два дня, когда Джемма думала об этом в таком ключе, на душе становилось полегче, хотя все, что касалось собственно младенца, пугало ее до смерти. Она понятия не имела, как это – быть матерью, хотеть быть матерью, хотеть хоть чего-то подобного.
Но Александр ни за что не согласится на ее план. Уже много месяцев он говорит только о своем желании полностью изменить их жизнь: ребенок, дом в пригороде, безопасный, надежный автомобиль, например «субару», вместо их шикарной маленькой «миаты». Послушать Александра Хендрикса, так у них мог уже быть второй ребенок, как у его брата, имевшего двухлетнего малыша и второго на подходе. Александр был по горло сыт Нью-Йорком – толпами, шумом, воем сирен, сумасшедшими таксистами, подземкой. Последние полгода он говорил ей, что «нельзя играть в одни ворота, нас двое в браке». То же самое она скажет ему. Тупик.
Джемма посмотрела на соседку, игравшую на террасе с маленьким Джейкобом. Но внезапно личико малыша исказилось и покраснело. Лидия положила младенца на мягкий шезлонг и принялась двигать его ножками, имитируя езду на велосипеде. Ребенок тут же перестал волноваться.
«Откуда она знает, что делать? – удивилась Джемма. – Может, это так же легко, как выглядит у Лидии? Может, материнство просыпается инстинктивно?»
Но у Джеммы никаких материнских инстинктов не имелось. И Лидия Бесселл для нее не пример; в прошлом эта женщина была сотрудником по инвестициям в банке на Уолл-стрит и на работу возвращаться не собиралась. Бесселлы уже нашли дом своей мечты в Территауне и собирались переехать туда в конце лета. «Видишь, – говорил Александр Джемме, поскольку знал, что Лидия пользуется ее симпатией и уважением. – Даже Лидия отказалась от своей зарплаты в три тысячи долларов, чтобы стать домохозяйкой и матерью в пригороде. Это жизнь-мечта, Джемма».
Узнав о ее беременности, Александр своего не упустит. Это сейчас он не дает ей вздохнуть? Она даже не могла представить, в какой кошмар превратится ее жизнь. Опека, придирки, постоянные звонки: «Ты сделала? Ты уверена? Не забудь…» Борьба за тот образ жизни, к которому он стремится. Дело закрыто.
– Джем, если ты хочешь добраться в Мэн засветло, тебе нужно ехать! – крикнул из кабинета Александр. – Уже двенадцатый час.
Ей совершенно точно необходимо поехать. Одна в машине семь благословенных часов. Божественно. Она сможет подумать, выстроить план, аргументы. Прежде всего разобраться со своим отношением к беременности. Пока у нее только одно чувство: паника.
Когда Джемма уже собралась уйти с балкона, на террасу вышла мать соседки, приезжавшая практически каждый день. Она устремилась к младенцу, осторожно взяла его на руки и заворковала. У Джеммы, как всегда, сжалось сердце: она не могла представить на месте этой женщины свою мать, холодную и нелюдимую. Даже Александр, навидавшийся за время своей работы помощником прокурора штата Нью-Йорк самых сомнительных персонажей, был поражен недостатком тепла и коммуникабельности у своей тещи.
Джемма вернулась в квартиру и прошла в импровизированный кабинет мужа, который он устроил и ненавидел – две стены из гипсокартона, ежедневно напоминавшие, что у него недостаточно места и он вынужден прибегать к фальшивым стенам. Александр сидел, уставившись в экран монитора компьютера. На секунду, как порой бывало, когда она смотрела на мужа, Джемма изумилась его красоте – высокий, мускулистый, со светлыми рыжеватыми волосами и умными темно-карими глазами, которые ничего не упускали.
Ей полюбилась его властная манера поведения, когда они только познакомились, понравилось, как встретила ее семья мужа при их третьем свидании, как будто они уже поженились, – Александр привез ее познакомиться с громогласными, самоуверенными Хендриксами. Непривычная к счастливому, шумному семейству, она прониклась к нему обожанием. В первые месяцы, пока они с Александром встречались, его мать звонила Джемме, интересуясь ее мнением по любому поводу – от того, какого цвета туфли надеть к коричневому платью, до того, какой подарок им с мужем выбрать Алексу на день рождения. Джемме было приятно, что Хендриксы вовлекают ее в свою жизнь, нравилась их решительность в мыслях, мнениях и на семейных собраниях, спонтанно устраивавшихся среди недели. В своей семье ей было так одиноко, ее мать, преподаватель французского языка, большую часть времени говорила дома по-французски, хотя Джемма и ее сестра так до конца и не освоили этот язык, а отец-бизнесмен проводил неделю в разъездах. Джемме исполнилось одиннадцать лет, когда родители развелись, и она было вздохнула с облегчением, подумав, что мертвая тишина закончится, и оба они вдруг станут приветливыми и любящими в своих отдельных домах, но этого не случилось.
Поэтому – да, Джемма была без ума от дружелюбных, пусть даже немножко лезущих в душу Хендриксов. Но за пять лет их брака она от них устала, а они хотели, чтобы она изменилась, стала похожа на них. Когда они с Александром ссорились, он бил ниже пояса фразой, котоая, знал, ранит ее больше всего: «Ты ведешь себя, как твоя мать, Джем».
Когда-то она так его любила – и все еще любит, – но теперь рада была уехать на выходные. Лучшего времени – по крайней мере, в данной ситуации – и выбрать нельзя. Может, выходные в разлуке заставят его поскучать о ней, увидеть как отдельную личность со своими мыслями, мнениями, своей мечтой о жизни, куда не входит переезд в Уэстчестер и участь матери-домохозяйки.
Паническое ощущение вернулось, и Джемма напомнила себе, что через семь часов, если не будет пробок, окажется в Бутбей-Харборе, усядется вместе со своей старой подругой на красивый белый деревянный диван-качели на крыльце гостиницы «Три капитана», и умная, проницательная Джун поможет все это обмозговать. Спасибо, господи, за подружек, владеющих очаровательными старыми гостиницами в Мэне.
– Я готова, – сказала она Александру, бросая взгляд на экран монитора: списки недвижимости.
– У тебя такой усталый вид, – заметил он, разглядывая ее.
– Просто переживаю, что не могу найти работу… работу, которую действительно хочу. От этого не сплю по ночам.
Он встал и обнял ее.