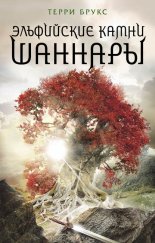Серп демонов и молот ведьм Шибаев Владимир

– Как частное лицо. С личным мнением.
– Нет больше личных лиц, – в запале, зловеще произнес Череп. – Нет Мичуриных с Циолковскими, исчезли Тимуры без команды и передохли все матросовы без огневой поддержки «Катюш».
Обозреватель вздрогнул. Главный молча и неприязненно разглядывал глуповатого сотрудника.
– Кончилось время чистой науки, – тихо подытожил начальник газеты. – К несчастью. Канули в пропасть кружки юннатов и авиамоделистов, пионерские игрища у кострищ и студенческие посиделки за бокалом чая. Вы что – задумали всех нас спровадить в ад? Не слышу?
– Да нет… – с сомнением растянул Сидоров. – Просто… Так хочется. Чтобы ребята не сидели, как зомби, за ночными мониторами стрелялок, а собирались в круг и обсуждали странности и загадки программ. Так мечтается, чтобы ученые люди спокойно докладывали необходимым карьеристам о последних своих борениях с уравнениями. Еще стражду, вдруг бы сбившиеся в волчьи стаи подростки поразились разнообразию придуманного неизвестными мира-помойки и пожалели такого же отбившегося. Так хочется… увидеть вновь открытый филиал рая на земле. Впрочем, мечты вполне идиотские, понимаю…
Череп пожевал то, что у других называется губами.
– Мне с вами спорить, что глухому со слепым, – отчеркнул он точку. – Мы тут выдвинуты зарабатывать хозяевам деньги. Поставят стеречь рай и шлагбаум поднимать – будем осматриваться. Вы вот что… Алексей Павлович. Хотите со своей научной распиской подставлять голову под лом – делайте это, хотя бы не бравируя удостоверением газеты. Да, кстати. В воскресенье планируете-то сами быть на загородной акции?
– Я? Куда?.. Да нет, – недоуменно отозвался журналист. – А что за…
– Ну и ладно. Все, работайте. Через… четыре дня текст статьи – на стол… О чем-нибудь.
Так закончился этот мешаный, скачущий, как свадьба попугаев, разговор. Сидоров поднял голову и оглядел симпатичный внутренний дворик института. Под двумя кленами с пушистой, уже покрытой свежей медью и позолотой листвой он углядел скамью, где, похоже, еще недавно молодые научные, прикрытые легкой сединой кандидаты, не нашедшие спроса на лаборантских должностях заграниц, надо думать, могли собраться в длинный обеденный промежуток и поворковать о том о сем, жуя бутерброды на глазах стенающих голубей. На полоске газона возле ржавого гаража со сваленным рядом газовым баллоном вдруг заструилась свежая зеленая трава, перепутавшая физические и биологические часы. Вдали полыхнул грохот тряского трамвая и тут же затух, погашенный трелью предупредительного звона. На сизосинее осеннее небо выбралась одинокая белесая тучка и бродила туда-сюда, не решаясь сама выбрать маршрут.
Сидорову не хотелось никуда мчаться и даже идти. Где дочь, где этот паренек, было неясно. Сразу бежать на разборку в «Воньзавод» или сначала заглянуть на подлодку, стал он прикидывать. В съемной квартире, видимо, нечего делать. Дуня после ночных волнений улеглась спать, ничего не услышит и никому не откроет. Еще рано утром из своей комнатки он бегал по квартирке с валокордином и валидолом, потом сидел возле телефона и судорожно дозванивался до скорой, а рядом тряслась старушка Дуня, приговаривая:
– Вон она, Груняша, какая. Свалилась болеть… Нарочно меня одну хочет покинуть… Вон. На два всего годочка повзрослей. А туда собралася… У нас сложено, ты, Леша, не волнуйся… Я ей талдычила, не гляди ты в тиливизир этих политических… которых не любишь. Гляди на которых любуешься. Как цветы. А потом захотела перещелкнуть на хорошее, неволнительное. И попалась на тивитоталью программу брачное сочетание торжества двух мужиков. И тут же разом стали сказывать, усыновляют оне, эти два здоровых, еще толстенького сынка усатенького, годов возле тридцати, али осьмнадцати, кто их разберет. Тут уж Груняша так взволновалась, руками заводила, запроклятила. Вот и стала румяна… Что теперь станется, Лешка, а? Возьмут ее, старую, или как?! Сейчас, говорят, пожилых сразу на запчасть везут. Меня заодно не сдавай, я Груне должна передачу еще носить, хлебу какого с соком моркови… чего положено от дохторов… яблоков. Меня не сдавай…
А после, когда уже скорая, сдавшись под напором журналистского удостоверения известной газеты, повезла Груню в больницу, и Дуня чуть угомонилась и прилегла, то сказала Сидорову слабым голосом:
– Лешка, слушай бабку. Давай мы тебя сыновить будем. – Журналист удивился. – А то, – уперлась старушка. – Матерь-отца у тебя нету, и площадь пропадет. Меня все сродичи, если где и водятся, не упомнят. А ты хоть могилку обиходишь за комнату, травку посеешь, цветочков весенних. Мы с Груней тебя усыновим напополаме. Я – матерь вроде, а она – вторая матерь. А что, етим можно, а нам, трудовой кости… И отца тебе подберу, вон Парфен, чем не отец родной…
Так и не решился с утра вопрос с усыновлением. Теперь Дуня спит, подумал газетчик. Туда позже. Надо все же ехать к Альбине Никитичне, решил, и нащупал в кармане пиджака нагрудный конвертик кадровика.
– Потеряли что? – вежливо спросил сидящий рядом литератор H., оторвавшись от внутренних художественных кровотечений.
– Да нет, – пробормотал газетчик, даже и не предполагая в случайном встречном знатока его проблем. – Все что мог растерял раньше.
– Хорошо как мы тут с вами посидели, – мечтательно произнес H., глядя на сбежавшее к крыше Института облачко. – Тихо так, умиротворенно, молча. Птички переговариваются об отлете, машины перебрехиваются, деревца под легким ветром шепчутся. А мы сидим и молчим в тишине. Покой – это теперь рай.
– Эксклюзив, – поддержал любующегося невидными пажитями собеседника обозреватель. – Раритет.
– Нет, – мягко не согласился Н. – Мечта. Запретный плод. Ну, желаю вам… – вежливо раскланялся он и, понуро загребая сухие, самые слабые листья, побрел прочь.
Через полчаса Сидоров безуспешно звонил в квартиру своего бывшего тестя, военмора
Хайченко. И все же дверь, как после долгих раздумий, распахнулась.
– Вы? – удивился газетчик, завидев на пороге человека несколько не в себе, космотруженика и техпереводчика Хрусталия Ашипкина. – Вы что тут делаете?
На кухне смущенный Хрусталий пояснил: оставлен разъехавшейся хозяйкой и ее друзьями как чиновник связи, на телефоне или двери.
– Вдруг вы придете, – пояснил он свою миссию.
– Молодые люди, дочь или паренек, сюда не являлись? – спросил Сидоров, заглядывая все же мельком в комнаты. – У вас какая информация? – и поглядел на раскрытую баночку консервированных рыб, почти полную, и крохотную рюмку с каплями влаги на дне.
– При моем дежурстве не объявлялись. А потом, Алексей Павлович, кто же мне доверится. Ну, информацию… Не хотите рюмашечку?
– Слушайте, а оказались-то вы здесь как, адрес откуда?
– Адмирал сообщил. Друг Никиты Никитича. Мы с ним долго… Про Севастополь, Шипку, осаду Очакова… Про позор Цусимы.
– Адмирал?!
– Ну да, которого фоточки в электопоездах. Вы предъявляли. Уродов на море.
– А этот, откуда он?
– Так к вашей съемной квартире грубый в коже на мотоциклетке доставил, прямо к вам на беседу.
– А вы, Ашипкин, с какого бока?
– Мы там. Нас как раз Груня метлой с лестницы замела. Надоели ей визитеры. А Дуня, святая душа, именно возьми и пойди в собес, на очередь любоваться. А мы тут сиди, – глупо закончил нескладный Ашипкин.
– Ни черта не понимаю, – запутался Сидоров и замолчал.
Смолк и Хрусталий… Тикали на стене ходики, фикус на оконце стал отбрасывать от набежавшего солнца тень.
– Как поживает ваш знакомый? – вежливо поинтересовался переводчик с языка техники.
– Что? – вскинулся погруженный в свое газетчик. – Кого имеете…
– Ну, – смутился Ашипкин. – Господин член-корреспондент, – с какой-то даже обидой добавил он.
– Не знаю. Не до него сейчас.
– Ай-яй, – попенял себе дежурный связник. – Я у него главное и забыл спросить тогда, когда с вами на электричке пробирались. Хотел к вам обратиться, вроде просьбы: увидитесь – узнайте для меня сведение. Человек в курсе верхних деяний.
– Что еще? – пробурчал недовольный Сидоров.
– Вопрос-то важный, – проникновенно высказался Хрусталий. – Могу и вас спросить, даже искал встречи. Может, вы знаете. Чем, например, человек отличен от болта.
– Вопрос по существу. – даже без издевки отреагировал Алексей Павлович.
– А как же, – не понял Ашипкин. – Судьбоносный. Глядите. Болт делает человек, и человека он же, только из разного подручного материала. Болт чуть тверже в характере, надежней по службе. Ну и что ж. И человек, если напряжется и закалится в муках и радостях, в испытаниях, способный быть верным спутником на спутнике или в поездке. Сидя внутри авто. Да. Железный, хорошо выполненный друг живет дольше; если хоть вы, журналист газеты, хоть и я, человек из прошлой жизни, поместимся в его условия – кислые дожди, коробящееся поле жизни, ужасный снег на торчащую голову – мы не выдюжим и пол его срока. Болт не говорлив, умен, легко выслушивает чужие мнения. А что иногда не отвечает, это чепуха – ведь если кто спрашивает вас, упершись упрямо, значит хорошо уже держит в себе ответ, а если с пристрастием и напором – садист или пыточных мастер дел. Не так?! То, что болты, винты, шурупы и другие плохо размножаются, – не их беда, кто-то не досмотрел, хотя плодить себе подобных малых сих на поругание обстоятельств и беде – не велика заслуга. Согласны? Возьмем дальше, – продолжил Ашипкин, глядя на задумавшегося Сидорова. – Вот вы полюбили болта, он конечно от страсти не сгорит, ответит вам ровной, холодной лаской – ну и что? А кабы кто вместо него метал в вас стружку ненавистей и стальные занозы из глаз. Хорошо вам станет! Ладно, ходят они плохо, но мы-то тоже ходоки – то спотыкаемся в деревенских ухабах, то подвернемся ногой или главной рукой. А крутятся как, загляденье, в голове у них не шумит и не качает их вовсе. Видели, как вращаются в телевизоре иранские национальные танцоры в юбках на ритуальных танцах? Эти дадут танцорам много вперед. То-то и оно. И вот хотел все у вас, Алексей Павлович, спросить, может знаете – есть ли у них душа?
– У болтов?
– Неважно. У камней, шурупов, родника, телеящика, наконец, – душа имеется?
– Сложно сказать, – протянул Сидоров в манере Дудушко. – Пока наблюдаемость отсутствует.
– Именно! Пока. Никем отсутствие научно не доказано. А попы вам из истлевших свитков набрешут, держи только карман шире. Им бы как есть было. У наших многих – бездушность ясная, у некоторых женщин одна обольстительность форм. Хотя, я читал в «Вечерке», народы разных уважаемых стран отрицают душу у дам. В Зимбабве, еще где-то… Отказывают им в носке божественной награды. Только страсть и инстинкт. А инстинкт он кто – просто помощник по дому. Так вот вопрос: есть у болтов и ихних друзей душа, тронутая особой рукой ткань или натертая волшебным чесноком стихия? Как по-вашему?
– Это разве важно? – решил отвязаться от сдвинутого Сидоров.
– Чрезвычайно и бесповоротно! – восторженно воскликнул Хрусталий, подскакивая на стуле. – Во-первых, думайте. Поповские через душу сделали невозможное во все века. Всегда рабы – римских катакомб, серпа и молота, гладиаторских ристалищ, восточных сирийских трущоб или желтых рисовых полей с пауком древних арийских властителей – все галерники знали: кто-то их взял в полон, и надо работителей побивать или бежать без оглядки. Пока молотом не стукнули по загривку или серпом по детородности. Все во все времена хотят выстроить рабов по колоннам, покрикивать и плеваться, идя рядом и не в строю и ожидая повышенной пайки. Одни рясники, изобретя душу, построили новую колонну. Сами людишки, всунув рабское внутрь, пали ниц перед алтарями, заливаясь слезами очистительными и провозглася себя рабами и побочными детьми Духа всемирного. Сами, без понуканий, ползут на коленях. Ни один марке, ни один сенека с богдановыми и Соловьевыми такого не допехал, только покрали у божьих выдумщиков то, что те успешно умыкнули у еще древнейших кликунов и пророков – про равенство там. Одну-две мыслишки из сотни откровений. Про сознательность и отказ от инстинктов. Великие умы – обратить людишек в самозакручивающих себя в раскаяние и плен высшего презрения болтов. Чтоб сами, без понуканий, лезли в колонну. Это ли не главное! Дальше. Вон буддисты и те будто бы говорят: излетит душа с человека и спрячется в камне, потеряет корова свое вымя внутри – и оно перепорхнет ловко в монаха. Допускают совершенную независимость плотской, отбрасывающей тень ткани и эфира, несущего счастье, правду и душевную боль. Вот. И если такое допустить, то я, я – простой Ашипкин, могу быть временно по обычным физическим законам без души, и она упорхнула от меня погостить.
– Куда? – ужаснулся Сидоров.
– Да хоть и в вашу, в вашу, Сидоров, оболочку. В грудную клеть. Чтобы подравняться в один строй с другими.
– А мне зачем вторая душа? – возмутился захватчице журналист.
– Будут жить душа в душу. Моя черная, мазанная в перьях и дегте. И ваша – прозрачного рассола.
– Мне чужого не надо, – отказался газетчик. – Со своей бы разобраться.
– Неправильно, – поднял голову Ашипкин. – Сами знаете, неправильно от слабой души отворачиваться. И все же обратно к болтам – признаете ли, что человек, камень и кошка временно соседствуют и сосуществуют нутряной тайной, загадкой прикосновения?
– Ну а если и признаю?
– Тогда все, – тихо и радостно сообщил Ашипкин. – Тогда можно ждать.
– Чего еще ждать? – попытался понять журналист.
– Всего! – торжественно вывел сдвинутый, а потом тихо добавил совсем ни к селу: – Вы уж, Алексей Павлович, никому, знаете, ту бумагу, что мы добыли, не отдавайте. Изорвут, растопчут и заплюют.
– Какую? А… эту. Так сказал же физик – наплевать, ничего не изменится.
– Физик в физике силен, газетчик – во строках своих. А бумага с ее бумажной душой – могучая сила. Нет ее, и все подозревают и в неведении: правда, придет всевышний и покарает плохих, злых сынов своих. А выскочит эта бумажка на волю, пройдет по радио и газетам, захватается – людишки и поверят: нет никого, кто из них душу вынет за их пакости, кроме таких же, соседей. Я хочу ждать, пусть придет.
– И покарает вас за все? – спросил тихо обозреватель, для чего-то оглянувшись.
– Ага, – шепотом, выпучив глаза, поддержал Хрусталий. – Пускай вынет из меня душу. Я хоть полюбуюсь.
Журналист плеснул по рюмочке, оба выпили, не чокаясь, и заслуженный болтостроитель схватил консервы, занюхал.
– Ну теперь идите, – предложил журналист. – Ожидайте.
– Ладно, пойду, – тихо согласился Ашипкин, поднимаясь. – Вы за меня подежурьте. Раз долго не звонят, значит дела у них. Если бумагу надумаете отдать, мне дайте, я сохраню, как зеницу Его ока. Ну и, если вдруг придет время, мелко порву, ночь буду рвать, пока пальцы в кровь не сотру, – и скрылся из квартиры.
А журналист, немного еще посидев, уставясь на пустую рюмку, тоже отправился вон, прикрыв и защелкнув за неимением ключа дверь.
Когда он подошел, проделав неблизкий путь до речного порта, к музею-подлодке, то увидел, что дверца, вырезанная отечественными умельцами в прочном корпусе для удобства посетителей – пионеров новой формации, ветеранов и случайных, приоткрыта. Внутри горел неяркий свет, и на малом каютном диване сидела практикантка Екатерина Петровна и шлифовала платком маникюр.
– Вот, – сказала она, протянув ладонь, как для поцелуя, – в вашем газетном бедламе даже некогда сделать.
На маленьком столике перед ней, где обычно дневали и ночевали маршрутные карты и водочная посуда, лежал крупно написанный лист.
«Лешка, – вывел военмор Хайченко, – приходили ребята, Эля и паренек Миша, сначала порознь. Я их накормил, но не удержал – уехали “за город”. И все. Тут ждет тебя помощница, погляди, не покорежит ли технику. Я к адмиралу, у него давление, как при шторме, скачет. Твой Никитич».
Сидоров оторвал глаза и посмотрел на занимающуюся своим делом особу.
Ночь сидела в чердачном пространстве, укрытом сверху полупараллелепипедом крыши, будто ее высекли из цельного, огромного черного памятника вселенной и поместили невесомой темной энергией над спавшими. Именно так, над спавшими, потому что из двух спрятавшихся в густом пахучем сене путешественников один – а именно он, Михаил Годин, уже бодрствовал и разглядывал монолит ночи, широко раскрыв глаза, а другой – девушка Эльвира Хайченко погрузилась в невыталкивающий, разрушающий догматы архимедовой физики, эфир сна.
Поодаль, на крайней балке, Миша укрепил тор слабого фонарика, и конический свет его позволял видеть только дозволенное – красивейший, выделенный сияющей оболочкой фотонов из многогранного пространства овал
Элиного лица. Мы – эллины, подумал Миша. Тогда, за видимой границей нашего времени, в дохристианских пространствах, когда рай и ад еще не обрели точных, начерченных первыми исследователями координат, граненых граней понимания – тогда существовали счетные множества разных божеств: Зевсы и Афродиты, Вакхи и Меркуры, пифии и сульфиды… или как их там еще, и неверно было бы произнести – бог знает кто еще в этом сонме, потому что особых существ оказалась тьма в незамкнутых полусферах древнего мира. И кто из них что знает или вычерчивает вероятностную модель событий – догадывался человек. Мы как эллины, Эля и я, хотим разузнать о рае чуть больше других. Что ж, таков путь исследователя и ученого, верящего и полного сомнений в успехе одновременно, узурпатора и сына истины. Как здоровско, просто по фантастике вышло с вечера, когда Миша долго убеждал, уговаривал Элю, сыпал аргументами и соображениями, приводил примеры алхимиков, поисковиков «вечного камня», попутно, походя открывавших новые газы и созвездия, серные соединения и фосфорные растворы, и наконец обосновал аксиому – та, искоса глянув на спутника, а думается, и с радостью, сказала:
– Ладно, уболтал. Если не понравится в этом рае, сбежим. Зададим стрекача.
– Что зададим? И кому? – не понял Миша, а потом оба расхохотались.
Вообще, вся эта поездка, затеянная в спешке беспамятства, ужасе возможной погони и страхе спортивно-пожарных и клеточно-порошковых кошмаров, вдруг постепенно вылилась в просто восхитительную траекторию путешествий. Чем дальше от города уносила беглецов электричка, тем шире распахивалось в их сощуренных ужасом глазах пространство и тем вольнее двигались и жестикулировали руки, обретая дополнительные, говоря занудным языком теоретической механики, степени свободы.
Невероятно повезло в электричке с попутчиками их поступательного движения прочь от невзгод. Напротив, вместо ошалевших от безделья молодых пригородных хулиганов, двое топологически изоморфных дядечек, как впоследствии оказалось – писателей братьев Кранкеншкап, тихо спали, сидя совершенно ровно и ни на что, кроме спинного мозга, не опираясь. А когда Миша спросил у Эли: «Есть ли у нас еще деньги, и каков их счет?» и полез в карман, то один из братьев, видимо от слова «деньги» проснулся, посмотрел на ребятню и представился.
Оказалось, замечательнейшие пожилые люди писатели Кранкеншкапы ехали до станции Налеевка в старинный и прекраснейший, окруженный парками Дом творчества, где умеющих писать даже когда-то катали на двух лошадках, Погасе и Непогасе, и кому доставался первый, тому фартило за пишущей машинкой. По вечерам кефир, мечтательно заломил глаза попутчик.
– Должен же он еще существовать, этот Дом, – воскликнул в запальчивом восторге брат Кранкеншкап. – У нас и путевки есть, – более кислым тоном добавил он. – Не верите? – и полез в пакет.
– Ну что вы, что вы! – поспешил успокоить брата в основном и беседовавший Миша, в то время как Эля только кисло прислушивалась, а в конце беседы изредка хихикала. – Вера – не наш профиль, мы любим доказательства.
– Будет, – пообещал брат и вытянул из пакета здорового цыпленка табака на булке, поглядел на него, потом на молодежь и протянул им еду со словами: – Кушайте, кушайте пока брат спит. Свежайшее цыплячество, только появился возле ресторана Дома литераторов.
Ребята постеснялись, помялись, но потом вцепились, разорвав пополам, в подгоревшую на кострах птицу зубами.
– А вы что же? – задал вопрос Миша, указывая языком на табака.
– Поели, поели, – странным образом заверил попутчик. – Только что, у входа в ресторан, ну, знаете, сзади. – А вот и путевочки, – проворковал Кранкеншкап, вытягивая два измызганных каракулями листа А-4. – Вот и доказательства. Обменяли у литератора Н. на две банки пива и значок «Почетный воркутянец», устаревшую семейную реликвию. Сколько можно хранить следы былых семейных маршрутов.
Совсем неожиданно проснулся второй братец и поправил: «Заслуженный Надымец», – и вновь засопел, впал в сонный транс, а брат продолжил:
– А куда ему, этому Н. с путевками деваться. Его и с путевкой и без уже никуда не пускают. И в редакции перестали пускать, выпихивают и листы за ним веером швыряют. «Не нужна нам ваша старомодина и страхолюдина, уста-редка гадостная, – орут. – Развели некрасовщину с саврасовщиной. Нам теперь французы изящное носят – Курвиль с Бранкуром». Да, сам был свидетель. Ну, не надует же заслуженных христиан пера!? А тот, этот H., получил путевочки в счет остатков гонораров от громадного продюсера сериалок то ли Могильного, то ли Брудатого. Ну, знаете, знаменитый тивиблокбастер «Мужчины не платят». Ведь не обманули? – задумчиво потряс бумажками. – Сейчас, хлопцы, – продолжил писатель, – многое в искусстве идет на бартер, да. Оперу меняют на звание, секс-символ балета «черная лебедь» – на любовника-европейца, повесть – на обет молчания, рояль старинную – на турпутевку в один конец. Роман – на два привода в орган милиции и один досмотр. Что делать: капитальный ремонт социализма. Вот мы, – крикнул рассказчик и посмотрел на брата. Аналог не проснулся. – Не проснется, – прошептал, склонясь, дядечка. – Только на волшебные слова: доллар, на иену и фунт пока не просыпается, гонорар, фуршет, из иностранных – сабантуй, презентация, презумпция и некоторые другие волшебные. Так вот, ребятки, короче. Задумали мы повесть о молодежи. Называется пока «Остаться в М.». Это сейчас такой фрейдистский сюр, фишка понтовая, все называют загадкой, чтобы потом смотрибельность по тиви вырастала, рейтинг. «Остаться в Ж.», «Остаться в П.» – чтобы все, кусаясь, догадывались, что П. – президент, а Ж. – не президент, а к примеру, если мистический триллер, то Жуть. Так вот, наша эта М. – ясно.
– Муть? – спросил наивный юноша.
– Ну что вы, – улыбнулся писатель. – Это мы про себя, в творческом экстазе говорим друг другу: муть, или мудь, или медь. А так М. – это молодежь, молодость, навсегда остаться в молодых. Да. А что писать, черт его знает. Выдумали две подгруппы «Свои» и «Ваши», ну, как положено. С утра до ночи митингуют, собачатся, разыгрывают комсомольские субботники и групповые свадьбы под рок. С ночи до утра опять же труд: в барах, в кафе ночные разговоры под пьяные танцульки. Молодость, желудок не ноет. Ну любовь там, лесбиянство, разврат на знамени, все дела. Это ясно. А вот посоветуйте, хочется в молодость что-нибудь щемящее всобачить. Вот вы, молодые, – чем вы дышите?
– Кислородно-азотной смесью, – обозначил Миша.
– Вонью всякой… озоном, – подтвердила Эля.
– Ну это ясно, – заволновался брат. – А так, внутри, идеологически, о чем мечтается, куда стремится. Знаете, говорят: с кем тебе служится, как тебе тужится. Муть всякая, оживляж – цель жизни, сверхзадача, тромб сознания.
– Я мечтаю разрешить седьмую проблему Гильберта по-простому, – выставился Миша. – Или хотя бы шестую.
Эля посмотрела на спутника, как на ужаленного осой аллергика, и сморозила:
– Вся молодежь нормальная, кроме кто на феррарях нанюхались, все мечтают отвалить поскорее к чертям собачьим со своих мест куда подальше.
– Это куда же? – заинтриговался попутчик, видимо, тоже когда-то разрешавшийся от того же бремени.
– На Север, на Восток, на Запад, все равно, – запальчиво подтвердила решившаяся на путешествие внучка военмора. – По любой дороге, на любой пути…
– На Север? – удивился Кранкеншкап, вспоминая семейные колымские легенды.
– А может быть, – не растерялся Миша. – Остановимся бивуаком в топологически понимаемой близости от деревни Кольского полуострова, у озер. Я буду путинить, моржа бить немного, корюшку арканить. Картофель посеем зернами, репу. Репа в пространстве печи дает замечательный результат. Главное дружно, бабка за дедку. Эля пойдет по чернику, морошку, гнусь отгоним модератором низких частот.
– А что! – согласилась девица. – По грибы под осиновики, свинью ученую заведем – будет в лесах экспортный гриб мордой добывать и на заимку складывать. И гриб, и прогулка бекону.
– Звери! – поразился брат Кранкеншкап обилию северного огорода. – Бекон, имеете в виду не филозофа, надеюсь? А на Запад?
– Если туда, то Миша будет в ихнем небольшом университете, в Андорре какой-нибудь или в Лихтенбурге, главным лаборантом или провизором, – запальчиво вступилась за ученого парня подруга. – Ему уже сейчас научное руководство предрекает – твои, Годин, знания годные, как у их приглушенного профессора.
– Приглашенного, – мягко поправил аспирант.
– Да хоть оглашенного, – не сдалась боевая подруга. – У наших российских талантов головы – в ихние двери не влазят. Что мы, работу не найдем?! Я буду подавальщицей в баре ихним сволочам травку потихоньку подсовывать, хотя сама – ни-ни, да там и официально можно, в Голландиях с амстердамами блудными. Да нет, – остановилась она. – Стану лучше цветы в парниках резать и укладывать, а то и у моря, хоть Балтийского, хоть Средиземного – я море люблю! – буду рыбу сушить и за Мишей ухаживать, если он обмочится в путину. Промокнется. Все равно устроимся, молодые везде нужны.
– А вот на Востоке уж точно мест нет, – обнаглел сосед по поезду. – Пропадете.
– Никогда! – заявил аспирант. – Устроюсь учителем арифметики в местной школе Уссурийского края и буду готовить местных пареньков к университетским олимпиадам. А ночью… буду изобретать решения сложных проблем. Математику ничего не нужно, кроме головы. И подруги.
– Ночью выйдем, – подхватила подруга, – из кедрового домика – тигры воют, женьшень на делянках колосится. Задерешь голову – самолет высоко летит, мелькая огнями, в твой прежний край…
– А на Юг?
– На Юг нам не надо, – коротко сообщила Хайченко.
– Зря, – покачал головой брат-писатель. – А вот притча. Про юг. Видит один другого, который идет, и спрашивает: ты куда путь держишь,
Мойша? В землю обетованную, отвечает тот. Дорогу знаешь? Не знаю, но все равно надо. Зачем? Сару мою не могу уже каждый день видеть, кроме субботы. У нее от всей красоты один скандал остался. А где она, дома? Нет, вон за мной плетется. Сара, а ты куда за Мойшей идешь? В землю обетованную. Это где такая? Где Мойши нет, не могу его уже и по воскресеньям видеть, до того нудный стал – ни похихикать, ни поругаться. Ничего не понимаю, развел руки встретивший семью. Что тут не понять, я ей просто дорогу показываю, крикнул Мойша. Скоро вернусь, – закончил Кранкеншкап и печально оглядел свое обручальное кольцо.
– Смешная притча, – сказала девушка Эля грустно и сжалась.
Но остаток пути провели они весело. Собеседник брат Кранкеншкап стал рассказывать бородатые еврейские анекдоты, во время рассказа заснул и продолжал смешить молодежь уже из сна, покачиваясь и шелестя губами. В конце он стал травить анекдот с такой огромной старинной бородой, с которой и в синагогу не пустят. Эля слышала его в детстве в ведомственном детсаду, где его рассказывала, как сказку на ночь, воспитательница, жена офицера связи. Будто бы не смеется один анекдоту другого… и так далее, а этот и говорит: я жену твою, шел, встретил, рассказал, так Сара твоя так смеялась, Мойша, с кровати упала. А другой отвечает, хохоча: ну и юмор у тебя, Абрам, с моей женой в кровати разговаривать. С ней и так-то не о чем…
Ребята вслушивались с тревогой в бормотание спящего писателя и чуть не пропустили его остановку – «Налеевка!» Начали Кранкеншкапов тормошить, щекотить, спят и спят. Миша кричит: «Вычет, начет, доплата, аванс, субсидия», – ни в какую. Тут Эля, умница, как заорет: «Коньяк армянский настоящий, бутылка».
Мгновенно проснулись, ошарашенно огляделись братья-писатели: «Что, Париж? Стокгольм?» и помчались на выход. Уже когда электричка неторопливо отчаливала, увидели молодые путешественники братьев на привокзальной заплеванной площади, где все на их вопросы пожимали плечами и разводили кто чем, лишь один какой-то в зипунке, которому все одно, закивал, стал братьев подсаживать в телегу и понукать свою хромую лошаденку, Погаса.
Деревня, это Ничаево, куда они наконец добрались от станции совершенно случайным автобусиком с камикадзе-солдатиком водителем за рулем, оказалась весьма чистой и ухоженной. Забросив рюкзачки за плечи, беглецы в удивительном спокойствии прошлись по главной и единственной улице, где многие жильцы в этот день, в пятницу, почему-то повылезли и взялись кто красить забор, кто чистить наличники, а кто и трубу латать. Возле полуразрушенной церковки чудак в напоминающей рясу одеженке мастерил огромную, сбиваемую из длинных осиновых комлей лестницу и прилаживал ее кусками, так, чтоб добраться до полуразрушенного барабана колоколенки.
Начинающий ученый и бывшая девушка из «Воньзавода» вежливо поздоровались с ним. В конце улицы, там, где по рассказам Дуни и осел домишко Парфена, увидели они совсем не то.
Дом, наверное, преобразился. По свежерубленому мезонину тянулся красный кумач с белым призывом: «Заходи в рай – локтем не пихай». Возле домика кипели работы. Бригады людей в тюбетейках рыли и носили грунт, плавили вар, мешали в старой бочке цемент. Пара прикарпатских профессионалов с фантастической скоростью мельтешили топорами, подправляя верандочку и наводя резьбу. Какие-то бородатые, похоже биологи, высаживали в кучи декоративную тую и канадский лимонник. Электрики ладили на столбах прожектора, кидали провода и звонко матерились, перепрыгивая на кошках.
«Посторонись!» – завопил на прибывших работяга, таща огромный прямоугольник гипсокартона. На прибитом возле валяющейся калитки объявлении рядом с возводимыми резными в абрамцевском стиле воротами для грамотных все пояснялось:
ХОД В РАЙ ВРЕМЕННО X. ТОРЖ ХОД И ПРОБНЫЙ ВПУСК– ВОСКРЕСЕНЬЕ 1200 ЗАПИСЬ НА ПРОЦЕДУРЫ – БУДКА
Миша и Эля уныло поглядели друг на друга и двинулись к будочке чуть на отшибе. Внутри свежеструганого крупного скворечника сидел мужичок, ковырял в носу и вытирал рубанком слезы.
– Нам бы Парфена, – осторожно спросил Миша.
– Он и есть, – скривился старикан.
– А вы зачем плачете? – нахмурилась девушка.
– Надо, вот и плачу, денег не беру. Записывать, что ли? Аванс беру сильный.
– У нас денег мало, – сознался ученый. – Нам бы так пролезть. На разведку.
– Идите отсюдова. Голытьба! – крикнул старик. – Голь перекатная, – и икнул водкой. – Семьсот четыре записались с деньгами, а они – вишь!
– Мы от Дуни, – тихо молвила Эля.
– Что случилось, дядя Парфен? – дополнил аспирант.
Дед зашипел, заводил глазами. Приложил палец к губам:
– Тихо, дети. А то хозява прознают. Все я продул, дом продал этим, окаянным, где деньги – не знаю. Бумагу, ноту реальную, суют в рожу, твоя подписка. Пил с ими – помню, а чтоб еще должон остался – такого ни-ни. Водка проклятая, темень от ней в башке. И дьявола кружатся, в ад тянут. Ладно, детки, тихо – Дуняша-то как?
– Груня приболела, – сообщила Эля. – По телефону ясно. Бабушка за ней ухаживает. Трудно ей.
– Вот те на, – ужаснулся Парфен. – Может к ей в город сбегу. Ладно, вы тихо, робятки. В воскресенье у энтих самая карусель, до того ни-ни. Не суйтесь. Может статься, я вас в воскресенье-то по блатве суну, как будто от эскурсиев отстамши. Чего все эти замышляют только – не знаю. Срамное дело. Эх, выжил ты Парфен из ума. А какой башковитый был, – опять старичок скручинился. – Стойте-ка, робятки. Иди вон во второй дом, к другу моему, мальчику Вене бесполезному. Вот так ручки вверх поднимете и пальчиками поиграете, он все, как черная коза, поймет. На чердак ночевать запечет. Коли домой соберетесь, ладно. А коли сночевать – на сеновал засунет, тут уж приезжали. Вон щас выйду, вам ткну домину. Вы по воскресенью тихо возле меня окажите-ся – и устроим. Парфен все может – такая башка.
Старик вышел из будки с надписью «Касса» и ткнул в Венин дом.
– У него мать как раз к крестной в другу деревню помчалась, к празднику вернется; смятаны, творогу натащит, сливков – городскую толпину опаивать. Деньжищи сильные, да…
Тут увидел вдруг Миша Годин, что из будки старик прицеплен к скобе за ногу толстой веревкой.
– Это что? – поразился он, указывая на вервие. – Давайте мы вас немедленно обрежем и освободим и вместе идемте на чердак в дружеское пространство сна.
– Не, – твердо отказался дед, опустив голову. – Каторгу отработаю, и на свободу. Покаместь мне рано свободу-то, по всему видать. Едреныть, – и истово перекрестился. – Идите, сховайтесь пока.
Молодежь повернула к указанному строению, но дед окликнул их:
– Дуняшу за меня поцалуйте. С приветом.
– Сами, дедушка, все сделаете. Я вижу, вы еще бодрый, – ласково поддержал привязанного математик.
– Какой ты! – с нотками подозрительности восхитилась девушка.
Мальчика никудышного Веню они увидели прямо за калиткой, как будто тот ждал. Подняли руки, согнутые в локтях, и поиграли пальцами, словно прощаются. Веня чрезвычайно обрадовался гостям, зарделся, замурлыкал и забекал, пуская слюнку, и поманил их за собой, оборачивая круглое, как блин, светящееся в сумерках лицо и вышагивая непонятным механизмом: Миша не смог схватить ритма его шагов – два шага левой и один правой. Или наоборот? В сарае Веня приложил палец к губам и ко лбу, подошел к жующей там черной козе, обнял за шею, прижался и тихо и понятно сказал:
– Бабушка моя. Ненаглядная. К ночи отойду, – и опять заскакал в дом по лесенке из сеней, наверх, показывать гостям сеновал. Там уже сложенной стопкой виднелись два плотных одеялка. Так попали они в эту берлогу.
Мише теперь не спалось, он глядел на тихо вздыхающую поодаль девушку, измученную беготней и неволей, и вспоминал разговор, затеянный Элей, когда они осветили свое прибежище вынутым из рюкзака предусмотрительно положенным туда фонарем.
– Какая ты практичная! – восхитился тогда аспирант.
– Еще бы, – согласилась девушка и вынула из рюкзачка приличную бутылку воды, – тащила всю дорогу.
– Какая ты… хозяйственная, – пробормотал Миша. – Мне бы и в голову не пришло.
– В твою голову это не нужно, – поправила Эля. – Она сделана считать и решать, и никто с дубовой башкой не заменит ее. Как будто твоя голова уже побывала в рае. А быстро собраться в дорогу сможет всякая внучка военного моряка. Мы родились на море… Мать на океане, а я образовалась в бухте. Там пресная вода иногда… дороже свободы.
– Какая ты, – удивился ученый. – Свободная, как отливная волна. Хочешь – падаешь, хочешь – поднимаешься. А я в клетке правил и формул, теорем и аксиом. Ты своей волной окатила мою научную клеть.
– Да нет, – сконфузилась девушка. – Это не я. Это мой отец и мать сделали меня, как будто качаясь на гребне.
– Ты же ругала их?
– Ругала. Всех есть за что ругать. А теперь бросила. Я их теперь хвалю. Во-первых, сообразили меня организовать. Дальше: отец не никнет от невзгод, не падает от бедности и не становится черным, как коза, завистником и ненавистником. Мне стыдно, что я такая его дочь. Он ведь не полез в обозреватели искусств, мотаться по клубным тусовкам и впаривать буратинам комиксы по цене веласкесов; не погнался за богатой дочкой с купленным папой престижным университетом, а влюбился в дуру с глупой морской душой. Не полез лизать пятки начальникам. А стал тягловым конем – тянет свою лямку научного мелкого обозревателя. И что? И где ты найдешь еще такого отца?
– Нигде, – сознался Миша. – Какая ты умная.
– А мама у меня! – воскликнула дочка. – Если уж пьяница, то от всей души, если влюбится – то не иначе, как в дипломата с черной африканской ссылкой в кармане. Она романтическая, но попала в твердое время, время бетонных людей, строящих свои казематы строем. Ведь не пошла за какого-нибудь молодого полковника с перспективой на адмирала, а катер ждал ее на причале. Она – морская. У нее сердце – как комочек водорослей трепещет в прибое. Где ты еще найдешь такую?
– Нигде, – согласился аспирант. – Только в море. Какая ты… Красивая. Даже когда говоришь.
– Я? – удивилась девушка. – Миша, у нас пока нет любви, ты погоди мне это говорить… Я плохая, меня не сможет уже никто любить.
– Этого никто теперь не знает. Будущее неизвестно, и в этом его математическая красота. А о будущей любви знает только бог.
– Разве ты верующий? – засмеялась девушка.
– Конечно нет, – захихикал Миша. – Но это знает только он.
Так сидели они и болтали, пока не выпили бутылку воды, и, поскольку устали сидеть, – решили прогуляться по густым сумеркам. Все равно не спалось бы. Взявши фонарик, выбрались наружу и после легкого туалета пошли по дороге, туда, где невдалеке возле церкви мелькал небольшой огонек.
– Можно я возьму вас под руку? – церемонно спросил Миша.
– Возьми, – ответила девушка и, как ему показалось, пару раз хлюпнула носом, сгоняя слезы. Дальний огонек оказался бывшим небольшим костром, где странный строитель лестницы в никуда пек картофель.
– Вы, я вижу, не кушали, – приветствовал он подошедших. – Давайте-ка сейчас печеной картошечки.
– Ели кусок писательской куры, – сообщила Эля.
– И пили очень вкусную воду, – дополнил Миша.
– Пара горячих картофелин еще никому не помешали, – не согласился человек. – А что вы тут в деревне делаете? – добавил он, искоса поглядев. – Можете и не отвечать, не мое дело. Но любопытство проклятое всегда сжирало. Никак не смирю внутренние угли, – засмеялся он, кивая рукавом черного балахона на угасающий костер, где из малинового тихо потрескивающего рая вдруг вырывались короткие фиолетовые сполохи, возгоравшиеся на секунду под ветерком и вновь ложившиеся в сияющий потухающим нимбом круг.
– Вы священник? – тихо спросила Эля.
– Нет. Я сочувствующий, – добавил человек.
– Мы приехали передать вашему Парфену привет его городской знакомой, – ловко соврала девушка. – А он теперь на стройке. И потом решили посмотреть на воскресный праздник.
– Да-а, – протянул человек. – Этот праздник рая… Знаете, господь, наверное, наделил ведь все живое не умом, вон нынешние компьютеры запросто обыгрывают гроссмейстеров даже не за счет памяти и быстрого счета, а по совершенству стратегии. Значит, ум, дальний ум, расчет, сообразительность и сметка – не главные козыри, врученные человеку. И не его уникальное свойство.
– Как это? – несколько обиделся математик.
– Кушайте и никого не слушайте. Я болтаю просто для отдыха души. В такую ночь и возле такой красоты костерка немудрено и помудрствовать. Да. Пожалуй, рискнул бы сказать, что человек, как и лис, – один из самых глупых живых на этой планете.
– Зачем вы нас смешиваете с хитрыми лисами? – удивилась раздосадованная странными высказываниями святоши девушка.
– А как же! – не сдался тот. – Даже воющие волки, и те вырезают агнцев по нужде, сколько нужно для пропитания стаи. Львы, насытившись, дают утолить голод гиенам неогненным, те – шакалам, а остатки – гордым грифам. Еж тянет в зимнее жилье тот запас, что сможет сжевать в стужи и ледяные капели. Лишь хитрая дура лисица, забравшись в курятник, бьет всех подряд кур, взнервившись от их охов и хлопаний. Зачем? Потому и часто впадает в болезнь бешенства, цепляющуюся к ней. То и человек. Травит и роет землю, срезает травы и настраивает гигантские небоскребы не для острой нужды, а по в аду разработанным планам и наметкам. Грызет и грызет, не глядя на все это сверху. Зачем одному или семье миллиард? Не надо – только для потехи и себялюбия. И бахвальства.
Еще один дар живому – воображение. Оно сильнее фантазий. Есть в голове человека опасная зона, забыл название. Отвечает за речь. За создание образа и общность. Так вот, есть эта зона и в мозгу братьев наших меньших, обезьян. Только отключена, временно, по каким-то высшим наметкам. Не справится человек с тяготой мира и сойдет из природы во мрак времени, единственный мрак, который ад. И включится обезьянье племя, чтобы попробовать вкус жизни наново.
– С обезьянами вы не напутали? – усомнился Миша.
– Возможно. Мы – путаники и растратчики. Но есть у нас сильнейшая божья искра – воображение. Не принижайте волков – у тех все, и любовь к детям, и развитой социализм. Но по их возможностям. Сообщество термитов социально совершеннее нашего. Лелею одно – что воображение наше сильнее и гибче. Ну что лев или заяц – представит зайца или морковку в позднем поле. Наше воображение – смерч божий. Даже рай – и тот прекрасной картиной нарисовал нам Всевышний в слабой памяти.
Но сделан он, дорогие мои дети, – совсем не про то, чтобы, блуждая, войти во врата его. Эта невероятная сладостная мечта сооружена, думаю, не чтобы пугать иных преступивших, а для другого – чтобы, блуждая по нашим пажитям, падая и расшибаясь на черепки, мы и в последнюю минуту видели эту мечту и брели к ней, отринув кровавое и позорное. Не стоит идти в рай – он сам найдет вас, если надо. Или останется искрой мечты.
– Понятно, – сказала Эля. – Понятно, что вы завели такое. Мы подумаем.
– Да, подумаем, – согласился Миша. – А как это вы?.. А что это вы строили за конструкцию днем?
– Заметили. У молодых глаз наметливый. Лестницу вверх сооружаю.
– Так там ничего нет, кусок колокольни и выпавшая кладка, – указал аспирант.
– Вот именно. Меня один хороший человек недавно надоумил. Не строй снизу, заберись и начинай возводить вверху. Оттуда виднее, да и к руководителю работ ближе. Снизу земля кажется маленькой, а люди большими. А поверху – только ветер и звон облаков.
– Рухнет ваша такая стройка, – обиделся за старых мастеров, за Фьораванти и Федора Коня научный молодой человек.
– Это сколько времени отпущено, не знаем. Если годы и столетия, можно и расчетам верить, и опыту поддаться. А если секунда или день, слушаешь только сердце. Смотрю вы подмерзли. Заночевать-то есть где? А то ночуйте в моей подсобке прорабской. Нет? Ну, тогда ладно. Должен вас самым решительным образом поблагодарить за совместную беседу. Давно не высказывался и накопил лишних слов. Спасибо вам, ребята, и земной поклон.
– Это вам спасибо, – смутилась молодежь.
– Да, тут вот еще что, – засуетился человек, вытягивая откуда-то сбоку два подсумка. – Я под подпиской, – молвил он странное, – поэтому просто даю вам в пользование, на день-два. Всем на этот праздник будем выдавать. Вы уж потаскайте, ради христа.
И озадаченные путешественники поплелись восвояси. По дороге любопытная Эля сунула нос в подсумок, а вынув, сказала деревянным голосом:
– Противогазы какие-то.
– По виду специальные, – сообщил аспирант, разглядывая одно устройство в полутьме.
– Это мужик странный, от него подальше.
– Эля, – доверительно прошептал Миша, опять беря подругу под руку, – а может, обождем… с раем?
– Эти на математического старика не полезут, бесполезно, – горько обрезала девушка. – Будут тебя и меня заодно давить. Пока не удавят. Решили: сунемся; если туфта – уедем в Дальний Восток автостопом, слушать песни твоих тигров. Очень ты… расписал, – и примолкла.
А теперь Миша, лежа в копне сена, поглядывал на спутницу и представлял, как она встанет из-за стола, где помогала ему проверять тетрадки по… естествопознанию или этому… обществопознаванию, потянется гибко и скажет: «Мишка, проводи меня до ветра. А то страшновато одной, что-то тигры распелись. И разлетались самолеты с тарелками».
Михаил Годин закрыл глаза и стал погружаться в чмокающий подлодкой сон. Сон вылез чудесный и невинный: Миша жарко целовал Элю в губы, чуть приоткрыв их противогазы, сверху на них сыпались зрелые антоновки, водили хоровод их совместно и несовместно нажитые дети вместе с тиграми, и прыткие зайцы шмыгали мимо их улыбающихся пастей, таща зрелые початки женьшеня в зубах.