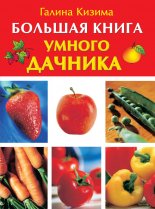Время зверинца Джейкобсон Говард

Она снова коротко хохотнула — на сей раз в таком высоком регистре, какой я прежде считал недоступным для человеческого голоса.
— Менее всего я стремлюсь к нравоучениям, — сказала она. — Спросите об этом девочек, которые поглощают мои книги одну за другой.
Мне хотелось поинтересоваться, действительно ли поглощение ее книг представляет меньшую опасность для юных дев, чем поглощение мужского семени, но я сдержался и промолчал.
— Важно не само по себе место действия книги, — сказал Хестон, возвращаясь к собственному творчеству, — будь то средняя школа в Банбери или поле боя в Боснии. Важно, чтобы дети могли узнать в героях самих себя.
— Отождествить себя с героями, вы это хотите сказать? — вставил я.
Никогда не следует прибегать к иронии — не важно, тонкой или грубой — на симпозиумах о роли детской литературы. Лучше будь прямым и бесхитростным — или тебе конец.
— Да, — согласился Хестон. — Это научит их быстрее адаптироваться к незнакомой обстановке.
— Либо поможет по-иному взглянуть на себя в ситуациях, до боли им знакомых, — добавила Салли.
— Но значение книг не сводится к этим вещам, — сказал я. — Разве главная цель чтения не в том, чтобы мысленно унести тебя подальше от того, что ты уже знаешь, к увлекательным странствиям и удивительным открытиям? Разве детское воображение не должно подпитываться чем-то чудесным и загадочным?
— Вы сейчас говорите о фантазии, — сказал Хестон с громким смехом. — О той самой фантастичности, которую сами только что заклеймили.
— Вот тут вы и попались, — сказал мне председатель собрания.
Именно в такие моменты дискуссий ты понимаешь, что тебе конец, — когда кто-нибудь злорадно говорит «вот тут ты и попался», и уже бесполезно доказывать, что на самом деле оппонент вовсе не поймал тебя на противоречии. Никто уже не станет тебя слушать. Ты попался, и точка.
Собравшиеся дружными аплодисментами приветствовали этот нокаутирующий удар, широко разевая рты в презрительном смехе и демонстрируя мне свои ярко-красные нёба. Еще один враг детей был успешно повержен. И я представил, как реально падаю на пол, а они все бросаются меня добивать и пинками вышибают мне мозги.
А потом бросают мои мозги Апорту и кричат: «Апорт!»
33. ПРОЧТИТЕ МЕНЯ, ПОИМЕЙТЕ МЕНЯ!
— Ага, так вы и есть Поппи Эйзенхауэр! — сказал Фрэнсис, здороваясь с ней за руку.
— Что означает «ага»? — спросила Ванесса.
— Что значит «вы и есть»? — спросил я.
Они поцеловались. Я о Фрэнсисе и Ванессе. Эти двое всегда были в хороших отношениях. Фрэнсис видел в Ванессе возможность обратиться ко мне, при этом не обращаясь ко мне непосредственно (и тем самым избегая сопутствующих стрессов), а Ванесса видела во Фрэнсисе примерно такого же посредника для того же самого. То есть один из них помогал второму отдохнуть от человека, без которого они бы, скорее всего, не знали — да и не имели нужды знать — друг друга. Стиль их общения можно было назвать легким флиртом. Отсюда и шутливый гнев Ванессы, когда Фрэнсис выказал повышенный интерес к ее матери. Однако мне было не до шуток. Я не хотел, чтобы Фрэнсис, увлекшись, случайно выболтал то, что этим женщинам знать не следовало.
— «Ага» в смысле: «Странно, что мы не виделись раньше», — пояснил Фрэнсис.
— Это потому, что я не хочу тебя ни с кем делить, — сказала Ванесса.
Парочка села за наш стол.
— Клянусь, я даже не подозревала, что ты окажешься здесь, — прошипела мне Ванесса. Она чувствовала себя виноватой в этом нежданном вмешательстве и, как обычно, спешила свалить вину на меня.
Я сказал ей, что все в порядке — мы уже покончили с деловыми вопросами. И что я рад видеть ее вдвоем с мамой впервые за несколько месяцев. И что приятно видеть ее маму наконец-то прервавшей свое деревенское затворничество.
Здороваясь со мной, Поппи была приветлива ровно настолько, насколько это было уместно в данной ситуации. А вот общество Фрэнсиса ее, похоже, взволновало, и Ванесса поспешила напомнить ей, понизив голос:
— Нет, мама! Ты же обещала! Только не за обедом.
— Пустяки! — отмахнулась Поппи от назойливой дочери и приняла предложение Фрэнсиса выпить по коктейлю.
Как выяснилось, мама с дочкой перед тем занимались шопингом в «Аберкромби и Фитче».
— Покупали майки или глазели на юнцов с голыми торсами? — уточнил я.
Фрэнсис не понял, к чему это я.
— Есть такой магазин одежды в конце Сэвил-роу, — пояснил я и указал на фирменные пакеты с эротическими фото снаружи и какими-то покупками внутри, засунутые ими под стол. — Ориентирован на туристов, легковерных покупателей и дамочек интересного возраста, которые могут часами разглядывать смазливых молодых людей, примеряющих майки.
«Типа Джеффри», — подумал я.
— Звучит интригующе, — рассмеялся Фрэнсис.
— Что значит «дамочки интересного возраста»? — пожелала знать Поппи.
— Оставь его, мама, — сказала Ванесса. — Он просто ревнует.
— К смазливым юнцам с безволосой грудью? — спросил я. Как Джеффри.
— К успеху этой фирмы. Что-то я не припомню таких очередей в «Вильгельмине».
А я видел очередь. Где и как? «В очах моей души, Горацио».[87] И в этих очах души мне явилась такая картина: мои жена и моя теща стоят в очереди за благосклонностью Джеффри.
Фрэнсис пожелал взглянуть на их покупки. И пошла потеха со всякими леггинсами, маечками и кофточками, причем Фрэнсис то и дело заявлял — обращаясь то к Ванессе, то к Поппи, — что был бы не прочь оценить наряды на них.
— Приложите ее к себе, пожалуйста. Да-да, теперь я вижу, почему вы ее купили. А теперь вы, Поппи.
Я внимательно наблюдал за этой троицей. Фрэнсис вне себя от восторга. Ванесса демонстрирует ему полосатую рубашку без ворота и короткую цветастую юбку. Поппи прикрылась усыпанным розами летним платьем и вертит плечами поверх него, как непоседливая школьница.
Способны ли эти женщины флиртовать и кружить головы мужчинам, выступая, так сказать, «в тандеме»? Глупый вопрос. Зачем спрашивать, способны они или нет, когда они у тебя на глазах это проделывают? Это был их фирменный номер. Так же точно — теперь я это понял — они действовали и при первом знакомстве со мной.
И тут меня посетила ужасная мысль: что, если я был единственным мужчиной, с которым они не работали в тандеме?
— Как вы обычно проводите время? — спросил Фрэнсис, глядя Поппи в глаза.
Мне было интересно услышать ее ответ. Моя теща так и не вернулась в лоно своей любящей семьи, как изначально обещала. Она осталась жить в Шиптон-андер-Вичвуде, но частенько навещала Ванессу, и они вместе ходили по магазинам или на концерты. В свою очередь, Ванесса регулярно ездила проведать маму; во всяком случае, она говорила, что ездит проведать маму. Я видел Поппи очень редко, а тет-а-тет — всего дважды после того визита в день моего изничтожения на симпозиуме о роли детской литературы, причем лишь одна из этих встреч заслуживает упоминания.
И как же она обычно проводит время?
— О, занимаюсь то тем, то этим, — ответила она, уже на полпути к опьянению.
— Что подразумевается под «тем»?
— Возня в саду.
— А под «этим»?
— Еще больше возни в саду.
— И никакой игры на виолончели?
Я взглянул на Фрэнсиса.
Поппи взглянула на меня.
Ванесса взглянула на Поппи.
Фрэнсис улыбнулся всем нам.
— Музыка — затраханная фигня, — резко сказал я.
— С чего это ты взял? — удивился Фрэнсис.
— Он считает все вокруг затраханной фигней, — сказала Ванесса.
Я сказал ей без звука, одними губами: «И я знаю, кем затрахана ты».
Я заметил, что Поппи пытается прочесть по губам мою фразу. «И ты», — хотелось мне добавить, однако я не посмел.
— Он считает все вокруг затраханной фигней, — продолжила Ванесса, — потому что мир в таком виде его устраивает. Затраханный мир объясняет и оправдывает существование в нем Гвидо.
— Кто такой Гвидо? — спросил Фрэнсис.
— Это ее любовное прозвище для меня, — пояснил я.
— Очень мило. А у тебя есть для нее любовное прозвище?
— Затраханная в доску блядская потаскуха, — сказал я.
То есть я попытался так сказать, но вместо этого вышло коротенькое:
— Ви.
— А у вас? — Он обернулся к Поппи.
— Есть ли у меня любовное прозвище для моего зятя?
— Нет, какое прозвище есть у них для вас?
— Конфетка.
Никогда еще Ванесса и я не выражали такого единодушия.
— Но мы так не говорим! — воскликнули мы хором.
— Так меня называл мой второй муж.
— Мистер Эйзенхауэр?
— Да. А я называла его Тоблероном. Как швейцарский шоколад.
— Почему так?
— Потому что его семья происходила из Швейцарии.
По лицу Фрэнсиса я догадался, что он уже вообразил себя шоколадным батончиком и готов предложить Поппи снять пробу.
— Нет, Фрэнсис, — сказал я.
— Ты о чем?
— Ты знаешь, о чем.
— Я только собирался попросить у твоей прекрасной тещи позволения также называть ее Конфеткой.
Поппи обмахивала лицо ладонью, как веером, словно ей сделалось жарко от всех этих галантностей.
— Если вам так хочется, — сказала она.
Я взглянул на Ванессу — как она, не ревнует? От матерей обычно ждут, что те, отгуляв свое, уступают дорогу дочерям. Однако Поппи не спешила в отставку. Ныне, когда женщины открыли способ не стариться по крайней мере внешне, мамы и дочки обречены соперничать вплоть до момента, когда одна из них, в последний раз накрашенная и наманикюренная, не упадет в объятия бесстрастной земли.
Не потому ли Поппи скрыла мои развратные потуги от дочери, что соперничество между поколениями стало уже нормой? Ванесса почувствовала на себе мой взгляд.
— Надеюсь, ты не думаешь, что я пришла сюда специально для того, чтобы испортить тебе обед, — сказала она шепотом, хотя вовсю любезничавшие Фрэнсис и Поппи все равно ее не услышали бы.
— Почему ты решила, что я могу так подумать?
— Потому что ты всегда думаешь обо мне плохо.
Мне вдруг стало жаль ее, живущую с мужем, который ни в чем ей не верит, и с матерью, всегда готовой отбить у нее ухажера.
— Я не думаю о тебе плохо, — сказал я и погладил ее лежащую на столе руку. — Как правило, я думаю о тебе очень хорошо.
Она раздвинула пальцы так, чтобы я мог просунуть между ними свои.
— Однако я плохо думаю о моем брате, — продолжил я.
Ни лицо, ни рука ее не дрогнули ни единым мускулом.
— Зря ты так, — сказала она. — Ему сейчас куда как худо и без тебя.
— А что, от моих мыслей ему станет хуже?
— Ты же знаешь мою теорию болезней.
Я знал. Согласно этой теории, все болезни были заключены в голове — в твоей голове и в головах других людей. Ты заболевал, если ты сам хотел заболеть, а другие люди могли сделать тебя больным, всего лишь пожелав тебе этого. А как только ты заболевал, все твои дальнейшие поступки объяснялись болезнью — то есть если ты совершал что-то неблаговидное, в этом была виновата только болезнь.
— А ты? — спросил я.
— А что я?
Я изобразил лицом вопросительный знак.
— Как ты относишься к этому?
— К чему конкретно?
— Конкретно ко всему: ко мне, к Джеффри, к этой нашей жизни.
— Как я еще могу к этому относиться? Болезненно.
— У этой болезни есть название?
Она ни на секунду не замешкала с ответом:
— Эротомания.
Я быстро оглядел комнату и знаком попросил ее понизить голос. Впрочем, никто к нашему разговору не прислушивался, и меньше всех — Фрэнсис и Поппи, ослепленные пьяненьким восторгом, подобно крольчатам, попавшим в свет автомобильных фар.
— Я не знал, что все зашло настолько далеко, — сказал я.
— Что именно зашло?
— Ты. Я не думал, что ты до такого докатишься. Ты и…
— Но я говорю не о себе. Это ты страдаешь эротоманией.
— Я?! Это я эротоман? Да у меня и влечение-то почти пропадает в пору работы над книгой, сама знаешь.
— Я знаю теорию, Гвидо. Слова якобы гасят желание. Но не в твоем случае. В твоем случае слова и есть желание. Они сидят рядками на твоей странице, и каждое умоляет: «Прочтите меня, поимейте меня!»
Я раздраженно хлопнул себя по лбу:
— Почему снова речь обо мне? Я думал, мы говорим о твоей болезни.
— Моя болезнь — это ты.
— Я — твоя болезнь? Ну да, для тебя это очень удобно. И для Джеффри тоже. Следует ли из этого, что ты — моя болезнь?
— Как может моя болезнь не быть твоей болезнью, если я заразилась ею от тебя?
Тот шлепок по лбу как будто выключил мой мозг, и мне стоило большого труда сосредоточиться.
— Значит, это моя болезнь заставила тебя спать с Джеффри? — Кто сказал, что я спала с Джеффри?
— Ну ладно, допустим, не спала, а просто сделала ему один из твоих фирменных отсосов.
— Это он так сказал?
— Нет.
— А что он сказал?
— Он промолчал. Но очень многозначительно промолчал.
— Настолько многозначительно, что ты углядел в этом молчании отсос? Он что, надувал щеки и чмокал?
— Детали не суть важны, Ви.
— Тогда к чему весь этот разговор?
— Черт побери, но ведь он мой брат!
— Ага, вспомнил о семейных ценностях? До сих пор тебя эти вещи ничуть не трогали. Ты же не простой человек, помни об этом. Ты романист, воспаряющий духом. Уилмслоуский Ниспровергатель Моральных Основ.
— Вопрос не в том, что меня трогает или не трогает. Хотелось бы знать, как к этим вещам относишься ты?
— Я? В этой иерархии я лишь на третьем месте. Есть ты, и тебе наплевать на родственников. Есть Джеффри, которому всегда было плевать на всех. Слова «родная кровь — не вода» к вашей семье не относятся. И есть я, не состоящая с вами в кровном родстве.
— Но ты жена, Ви. Жена!
— Ах да — жена. А как насчет мужа, Гвидо, мужа?
— В смысле?
Во время этой беседы мы продолжали держаться за руки, и только теперь она отпустила мою.
— В любом смысле, Гвидо, какой тебе вздумается.
Расплывчатые ответы на мои, надо признаться, также расплывчатые вопросы. Я вроде бы уже обвинил ее в том, что она спала с моим братом, но затем пошел на попятный. Это было ошибкой. Когда речь идет о предполагаемой неверности, надо спрашивать четко и напрямик, без экивоков. Было или не было? Где было? Когда было? Как часто? Насколько тебе с ним нравилось? Когда планируешь сделать это в следующий раз? Если сразу не надавить на человека, заподозренного тобой в измене, он сорвется с крючка и ускользнет. И сколько ни ругайся потом, все будет напрасно — однозначных ответов ты уже не получишь.
Ты ожидаешь, что обвиняемая будет изворачиваться и лгать? Это естественно. Но почему обвиняющий должен ей в этом способствовать? Да потому, что прямолинейность была не в моем характере и не в характере моей профессии. Напрямую спросить свою жену, где, когда и как часто, представлялось мне недопустимым. Одно дело — высказать подозрения, другое — требовать объяснений. Как-никак я был писателем: мне нужны были не объяснения, а неопределенность, недосказанность — и пусть история закручивается все дальше и дальше. Вот почему я не читаю классические детективы, где в финале все раскладывается по полочкам. Мне не хочется знать, «кто это сделал». Если тайна может быть раскрыта — это уже не то, что я подразумеваю под словом «тайна».
Следовательно, Джеффри с Ванессой, Джеффри с Поппи, Джеффри с ними обеими…
Ох! Или скорее: Ох?
Вопросительный знак у меня вечно берет верх над восклицательным.
Словами «в любом смысле, какой тебе вздумается» могла ли Ванесса намекать на то, что ей известно мое отношение к Поппи, а Джеффри, таким образом, являлся ее ответом мне, оком за око?
Но если она — по крайней мере, внешне — придавала столь малое значение этой связи, следует ли понимать, что и моя связь с Поппи для нее малосущественна?
А может, все это представление было разыграно лишь для того, чтобы сбить меня с настоящего следа, каковым была связь Джеффри и Поппи? Но если так, то почему? Кого и что защищала или щадила в этой ситуации Ванесса? Репутацию своей матери? Мои чувства?
На мгновение мою бедную голову посетила совсем уж невероятная мысль: Ви любит меня, Ви знает обо мне и Поппи, Ви понимает, что я литератор с тонкой душевной организацией — но к тому же я еще мужчина, — и Ви не хочет причинять страдания этому мужчине.
Теперь понимаете, какие преимущества таит в себе недосказанность? Видите, какое обширное пространство для домыслов и предположений дает нам неопределенность?
Должно быть, я опять начал «сочинять губами», судя по реплике Ванессы:
— Уже планируешь книгу об этом, не так ли?
— Нет, — соврал я. — А почему бы тебе самой не написать об этом, раз уж ты в курсе всех подробностей?
— А с чего ты взял, будто я об этом не пишу?
Я уставился на нее в недоумении. А она откинула назад голову и расхохоталась, как храмовая проститутка, широко разевая рот и показывая мне свое горло. Это на меня всегда действовало безотказно. Проделывай она такой фокус почаще, я бы поменьше думал о ее матери.
— Что ты имеешь в виду?
— Ты спросил, почему я не пишу об этом, а я ответила, с чего ты взял, будто я не пишу, и не важно, что подразумевается под «этим».
— Полагаю, ты должна знать, что подразумевается, если ты об «этом» пишешь.
— В одной вещи ты можешь быть уверен, Гвидо: мое «это» не совпадает с твоим.
Подобные стычки случались уже тысячу раз. Я пишу, я не пишу. Я начал книгу, я не начал книгу. Я пишу об этом, я пишу о том, и не твоего ума дело, о чем именно я пишу… В чем же было отличие теперь? Я не мог понять в чем, но я чувствовал это отличие. Однажды меня спросили, почему я не пишу о преступлениях, притом что книги о преступлениях всегда востребованы. Потому, ответил я, что меня не интересуют преступления, меня интересуют наказания. Итак, не этого ли наказания я ожидал и, можно сказать, заслуживал — Ванессы, поймавшей попутный ветер, Ванессы успешной и победоносной? — Никак ведешь дневничок? — спросил я.
Прозвучало с вызовом, даже оскорбительно. Но это была бравада утопающего, который знает, что его ждет наказание. А то и напрашивается на наказание, ибо всякий принципиальный человек в глубине души мазохист.
— Можешь считать и так.
Меня встревожило то, что она в ответ не назвала меня «высокомерным говнюком». Ее терпеливость и благодушие были для меня плохим знаком.
— Ну так скажи мне, как писатель писателю, что ты сейчас пишешь?
Она посмотрела мне прямо в глаза, и в ее взгляде я увидел дикий блеск звезд, падавших с неба над Манки-Миа.
— Как насчет клина клином, Гвидо?
В нашем доме эта фраза могла означать только одно.
— Роман? Ты пишешь непристойный роман о моей семье?
— Ну почему обязательно непристойный?
— Просто у меня такое предчувствие.
— Хотя почему бы ему и не быть непристойным? Ты же все время пишешь непристойности о моей семье.
— Это неправда. Я никогда ничего не писал о твоей семье, пристойно или нет. Да у тебя и семьи-то нет, за исключением Поппи.
— Нет, это правда, если читать твои романы между строк, а я их читаю именно так.
Я не поддался на провокацию. Если она хочет видеть меня насквозь, ей придется залезть ко мне в голову. Или Ви уже считала себя сидящей в моей голове? Все могло быть и проще: она тайком залезла в мой компьютер. Но в таком случае она сейчас вряд ли вела бы со мной эту игру.
— Не беспокойся о моей писанине, — сказал я быстро. — Лучше поговорим о твоей. Как она продвигается? Помню, в последний раз мы обсуждали начальную фразу: «Милейший читатель, чтоб тебя разъебло!» Я тогда предложил тебе начать книгу как-нибудь иначе.
Я не преувеличивал. «Ванесса» — так в первой редакции назывался ее роман. «Ванесса», написанная Ванессой. И именно так роман начинался: «Милейший читатель, чтоб тебя разъебло!» Если таковым было начало книги, ничего удивительного, что у нее имелись проблемы с ее завершением.
— Не так, — сказала она. — Фраза была: «Милейший читатель, шел бы ты в жопу!» Есть некоторая разница, я полагаю.
Это ты из года в год ебешь мозги читателям.
— Никаких читателей не существует, Ви!
— Это потому, что ты их всех уже заебал.
— Какова же твоя начальная фраза теперь?
— А! — молвила она, поджимая губы (примерно так среагировала бы храмовая проститутка на просьбу прокомментировать прейскурант ее услуг). — Узнаешь в свое время.
Она хотела меня напугать, и это ей удалось.
— Как далеко ты продвинулась?
Нет ответа. Лишь все та же загадочная улыбка священной шлюхи.
— Показывала текст хоть кому-нибудь?
Опять нет ответа. «Не тебе и не подобным тебе бумагомарателям судить о моем творчестве», — означал ее вид.
В свою очередь я отрицающе взмахнул рукой:
— Я поверю в это, только когда увижу своими глазами, Ви.
Затем я вспомнил, что люблю ее, и поспешил добавить:
— И я очень хочу в это поверить.
Она продолжала смеяться. Они обе смеялись: Поппи — над шутками Фрэнсиса, Ви — надо мной.
— Тогда приготовься за меня порадоваться, — сказала она. — Я наконец определилась с названием.
Теперь был мой черед говорить: «А!» Я знал, каковы эти названия Ванессы.
— Постой, дай угадаю: «Почему мой муж Гай Эйблман — самовлюбленный мудозвон»?
Она встряхнула головой так, словно высвобождала змей, вплетенных в ее волосы.
— Ты, ты, ты… Поверь, Гвидо, на свете есть вещи поважнее и поинтереснее тебя.
Но я не поверил и этому.
34. ЖИЗНЬ — ЭТО ПЛЯЖ