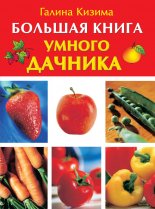Время зверинца Джейкобсон Говард

— И утомительно долгой жизни, — подхватила Ванесса.
Еще одна заезженная тема. Ванесса боялась впасть в маразм и не раз выражала надежду, что в таком случае кто-нибудь милосердный вдребезги раскроит ей череп. Неужели теперь она подумывала о том же применительно к своей матери? На какой-то миг я почти поверил в то, что она предприняла это путешествие с тайной целью сбросить Поппи в море на съедение дельфинам и таким образом вернуть свою маму дикой природе, завершив естественный круговорот. Это будет нетрудно представить как несчастный случай.
Днем у нее был отличный шанс, однако она им не воспользовалась. Посторонний зритель при виде восторженных объятий двух женщин в лодке запросто мог принять их за влюбленную пару вроде Виты Сэквилл-Уэст и Вайолет Трефусис,[56] только с волосами поярче и телосложением поближе к рубенсовскому.
Поппи была прекрасна — что трезвая, что поддатая. На жаре ее платье плотно облепило бедра. Бюсты мамы и дочки — полные и мягкие, как подушки с гусиным пухом, контрастируя с поразительно тонкими талиями — были под стать друг другу (разве что у Поппи чуточку повыше), но бедра Поппи оставались вне конкуренции. И как так получается, что у некоторых женщин именно эта часть фигуры вдруг выходит на первый план, как магнитом притягивая к себе мужские взоры? Тело под платьем уже не было молодым и упругим (я видел Поппи в купальнике, с проступающими венами и признаками целлюлита), однако сейчас ее бедра, туго обтянутые тонкой материей, замечательно округлые и в меру полные — подобно спелым фруктам или парочке местных дельфинов, перекатывающихся под платьем, — сейчас эти бедра были неотразимы. А опьянение — что ж, опьянение только добавляло ей шарма.
И я просто не мог не сделать то, что я сделал. Считайте это еще одним проявлением обсессивно-компульсивного расстройства. Изобразив бурный восторг по какому-то благовидному поводу (не спрашивайте, какому именно: то могло быть появление над горизонтом неизвестной планеты, сладкий аромат жасмина, принесенный ветром с какого-то еще не открытого континента, синхронный прыжок сразу сотни дельфинов, срежиссированный самим Нептуном), я всплеснул руками и как бы невзначай опустил одну из них на теплое бедро Поппи — достаточно близко к тазу, но не настолько, чтобы мое движение можно было посчитать непристойным. Когда позволяешь себе вольности, надо быть точным до миллиметра, дабы не перейти опасную грань; и я в данном случае удержался на грани с точностью до наномиллиметра.
15. Я — ВИОЛОНЧЕЛЬ
А в самом начале…
Тот вечер, когда Поппи после отказа ее дочери согласилась составить мне компанию и отведать изыски натсфордской кухни, был замечателен лишь самим фактом ее согласия, и ничем более. А согласие это было, скорее всего, обусловлено банальной скукой. Натсфорд, подумать только! И как же ее угораздило поселиться в Натсфорде — с такими-то огненными волосами?
Я рассчитывал, что за ужином, после непременного разговора о маме, Поппи затронет тему моих литературных занятий. Откуда я черпаю идеи? Как я начал писать? Как я пойму, что пора заканчивать? Много лет спустя эти вопросы задали мне читатели в Чиппинг-Нортоне, хотя им все было ясно и так: они поняли, что со мной пора заканчивать, уже через минуту после начала чтения. Но в ту пору еще не было читательских групп, да и в любом случае Поппи никогда бы к такой группе не примкнула.
Очень трудно оценивать интеллект нечитающего человека, если главным критерием такой оценки для тебя является как раз чтение. Моей маме я был готов простить все ее заморочки и выкрутасы хотя бы потому, что в паузах между ними она стремительно проглатывала книги, пусть даже ее читательский интерес ограничивался примитивной формулой: «торговля + трах». Оставалось лишь удивляться, где она добывала такое количество порнороманов с героями-торгашами. Не сочинялись же они по ее спецзаказу, в самом деле? Она могла часами сидеть в постели, обмотав голову шарфом, со свисающей изо рта электронной сигаретой, и переворачивать страницу за страницей в темпе, претендующем на рекорд по скорочтению. Сама по себе быстрота перелистывания меня не впечатляла, но при этом она поглощала слова, а те имеют свойство иногда застревать в пищеводе (то есть в мозгу), побуждая читателя к размышлению.
А вот Поппи — женщина неглупая и, похоже, превосходящая мою маму в культурном плане — совершенно не интересовалась книгами, по крайней мере в тот период своей жизни. Когда мы расположились за столиком в «Белом медведе» и я мимоходом помянул синьора Брунони, который вполне мог показывать свои фокусы в этом самом зале, она не поняла, о ком идет речь. Я напомнил, что это странствующий фокусник, персонаж из «Крэнфорда» миссис Гаскелл. «А с чего вы взяли, будто он мог фокусничать именно здесь?» — спросила она. Я в первый момент растерялся, а потом начал сбивчиво пояснять, что Крэнфорд — это и есть Натсфорд, — мол, она в курсе, конечно же, просто такие вещи иногда забываются…
Ничего она не забывала, поскольку никогда и не знала. Да и не пожелала знать, отмахнувшись от полученной информации, как от надоедливой мухи, со словами:
— Меня не привлекает такая магия.
«Уж не клонит ли она к Толкину?» — подумал я с надеждой, но, как тут же выяснилось, ее познания в литературе не достигли и этого уровня.
— А какая вам по душе? — осторожно спросил я.
Она ненадолго задумалась:
— Ну, мне всегда нравился Томми Купер.[57]
Десятилетием позже она, скорее всего, назвала бы Гарри Поттера.
Однако худшее было еще впереди. Ближе к концу вечера она провалила «толстовский тест».
В целом беседа была вполне оживленной и занимательной. Выяснилось, что она играет на виолончели, причем в ее репертуар входят произведения классиков: Баха, Боккерини, Вивальди, Дворжака. Я почтительно поежился. Шутка сказать — Дворжак. Она спросила, играю ли я на чем-нибудь. Я сказал, что нет, зато люблю слушать. Особенно Дворжака. Она никогда не выступала с профессиональными оркестрами — «недостаточно хороша для этого», — но в любительских концертах участвовала неоднократно, сначала в Борнмуте,[58] потом в Вашингтоне, куда их с Ванессой, только что закончившей школу, увез ее второй муж, дипломат невысокого ранга по фамилии Эйзенхауэр. Там же в Вашингтоне она выступила и в качестве модели, снявшись обнаженной в обнимку со своей виолончелью для рекламного постера Джорджтаунского камерного оркестра.
— Вообще-то, не совсем обнаженной, — поправилась она, возможно вспомнив о нашей разнице в возрасте, — но впечатление создавалось такое. Из-за этого и расстроился мой второй брак.
— Вашему мужу не понравилось, что вы позируете обнаженной с виолончелью? — спросил я.
Вечно этим мужьям что-нибудь не нравится.
— Дело не только в этом. Он ревновал к фотографу, который был к тому же скрипачом и репетировал со мной Двойной концерт Брамса.
— И во время этой репетиции он сделал снимок?
— Нет, во время этой репетиции нас застал муж.
— Застал вас…
— Нет, ничего подобного. Когда он вошел, мы играли дуэтом. И это зрелище так его взбесило, что он выставил меня из дома.
— Боже правый! А что скрипач?
— Муж пригрозил его убить.
— Толстовские страсти! — воскликнул я. — Это чистой воды Толстой!
Она взглянула на меня в недоумении:
— Что, еще один «крэнфордский» персонаж?
Возможно ли это? Возможно ли, чтобы виолончелистка достаточно высокого класса, чтобы исполнить Двойной концерт Брамса, никогда не слыхала о Толстом? Или спросим иначе, оставив в стороне музыку: возможно ли, чтобы цивилизованный человек старше десяти лет никогда не слыхал о Толстом?
Если только она меня не дразнила. Чувство юмора у нее присутствовало, так почему бы и не пройтись на мой счет? Однако я не представлял для нее достаточного интереса. Когда женщина дразнит мужчину, это предполагает флирт, а она со мной уж точно не флиртовала.
Я упомянул «Крейцерову сонату», «Анну Каренину», «Войну и мир». Название «Анна Каренина» показалось ей знакомым, вызвав определенные ассоциации. Во всяком случае, она догадалась, что речь идет о книгах, заявив по сему поводу:
— Это я не читала. Я вообще ничего не читаю. Зато Ванесса читает за нас обеих.
Я уж не стал говорить, что с книгами это не срабатывает: ты можешь читать за кого-либо точно так же, как ты можешь пить воду вместо него-штрих-нее.
Должен признать, она поставила меня в тупик. До той поры я считал, что музыка, искусство и литература взаимосвязаны: если ты играешь Сюиты для виолончели Баха, ты просто не можешь не знать произведения Толстого. Лишь много позднее я понял, что общекультурное развитие вовсе не является необходимым условием для того, чтобы человек преуспел как музыкант или, скажем, как писатель. Изобразительное искусство? В числе наименее культурных и образованных людей, каких я знавал в своей жизни, имелось несколько профессиональных художников, а самые бескультурные и необразованные из этих художников были вдобавок еще и писателями. Утонченность и высокую культуру чаще можно встретить среди потребителей творческой продукции или тех, кто способствует ее продвижению на рынок, как злосчастный Мертон. Но в двадцать четыре года, вымучивая свой первый роман, я об этом еще не имел понятия.
Впрочем, Поппи солгала мне насчет чтения. На самом деле она читала много и жадно — правда, всякую низкопробную дрянь, однако же читала.
Оставив в покое Толстого, я начал расспрашивать о ее жизни до и после дипломата невысокого ранга, порвавшего с ней в Вашингтоне. Ничего особенного там не было. Ее первый муж, морской офицер, спился и быстро загнал себя в гроб. Поппи его любила — в те периоды, когда ей удавалось с ним общаться. То же самое и Ванесса. Но обе уже привыкли быть сами по себе, и его смерть не внесла в их жизнь ощутимых перемен, кроме пропуска ежегодной парусной регаты у берегов острова Уайт. Ванессе не нравился Вашингтон, и она была рада вернуться в Англию. Год она проучилась в Манчестерском университете, сменив несколько профильных предметов (философия, языкознание, история искусств, снова философия), а затем оставила учебу. В университете ей тоже не нравилось, но главной причиной ухода, по словам Поппи, стало «отсутствие стимула». Получив немаленькое наследство от первого супруга и солидную сумму при расторжении брака со вторым, она ни в чем не нуждалась; так что мама и дочка не знали иных забот, кроме как о нарядах и собственной внешности. Виолончель? Да, она по-прежнему играет дома, себе в удовольствие, как и Ванесса. На днях исполнили Концерт Вивальди для двух виолончелей соль минор.
— Обнаженными? — выдохнул я.
Сам удивляюсь, как у меня хватило смелости или глупости задать этот вопрос. В следующий миг я откинулся на спинку кресла, инстинктивно подняв руки к лицу — то ли защищаясь от ожидаемой пощечины, то ли пытаясь помешать сидящим внутри меня демонам произнести еще что-нибудь в таком духе.
Поппи поставила бокал и впервые взглянула мне прямо в глаза, а затем поманила меня пальцем, заставив перегнуться через стол.
Я густо покраснел, сравнявшись цветом лица с ее губной помадой.
— Нахальный мартышонок! — сказала она и чмокнула меня в щеку.
Виолончельные бедра.
Такое нельзя не вспомнить.
И спустя много лет, когда жарким вечером в Манки-Миа я дотронулся до ее живой плоти, я вспомнил этот эпизод. Виолончельные бедра.
Я — виолончель.
А мое романное альтер эго, Мелкий Гид, тоже будет виолончелью?
Хотя иные вещи лучше оставить при себе.
16. ВСЕ ЛЮБЯТ СВАДЬБЫ
«Нахальный мартышонок» — сейчас я готов признать, что все началось именно с этих слов. Поскольку в них заключалось нечто вроде сексуального комплимента — а разве нет? — я волей-неволей начал гадать, что такого обезьяньего она во мне разглядела. От этих мыслей было уже совсем недалеко до воспоминаний о Мишне Грюневальд, называвшей меня Биглем, а следом возник и замысел романа, впоследствии мною написанного. И все это благодаря одной женщине, точнее, одной из двух женщин, на которых я хотел произвести впечатление.
Воистину неисповедимы пути вдохновения! Поппи Эйзенхауэр была — или изображала себя — чуть ли не самой ярой книгоненавистницей на планете, даже не слыхавшей о миссис Гаскелл и Льве Толстом, но именно она указала мне выход из мрака творческого застоя. Так вышло, что «смуглой леди моих сонетов»[59] стала женщина, чьи представления о магическом реализме сводились к Томми Куперу с его любимой присказкой: «Типа, как-то вот так».
Ванесса считала, что я слишком себялюбив для того, чтобы стать по-настоящему хорошим писателем.
Это была модифицированная версия ее более раннего мнения обо мне как о человеке, слишком себялюбивом, чтобы написать хотя бы одну книгу.
И она была искренне изумлена, когда я завершил свой первый роман.
— «Я выхожу под солнце!»[60] — пел я во все горло.
— Ни хрена подобного, — говорила Ванесса.
Еще больше она изумилась, когда издатель одобрил рукопись. На сей раз она великодушно признала свою ошибку.
— Я очень рада и горжусь тобой, — сказала она. — Это ведь и мой успех тоже.
— Очень мило с твоей стороны, — сказал я, не понимая, в чем состоит ее доля успеха.
На протяжении первых двух лет нашего брака я писал этот роман тайком и урывками, когда она спала, полировала ногти или общалась со своей мамой, а также в рабочее время — за кассовой стойкой «Вильгельмины», когда в магазине не было покупателей.
— Не будь меня, ты ни за что бы не довел эту книгу до ума, — пояснила Ванесса.
Я не рассказывал ей о той роли, которую сыграла Поппи в формировании замысла романа. Что касается роли Ванессы в процессе его создания, тут она была совершенно права, поскольку, при всех моих литературных амбициях, именно желание доказать ей, что я не пустой прожектер, подтолкнуло этот проект к воплощению в жизнь. Никогда не следует недооценивать необразованную тещу как потенциальный источник творческих идей, и точно так же нельзя игнорировать важность супружеских насмешек и подзуживания для реализации честолюбивых замыслов жены-штрих-мужа. Ибо подзуживание и насмешки являются частью живого общения, а живое общение для писателей вроде меня — это повивальная бабка творчества.
На этот случай существует специальный термин: майевтика.[61] Звучит как производное от имени античной богини. Я предпочел не говорить об этом Ванессе, иначе она бы наверняка потребовала, чтобы впредь я именовал ее богиней Майей.
— Этот роман также и мой в том смысле, — продолжила она, — что я ощущаю его почти как рождение ребенка.
Мы оба не хотели заводить детей, и это, пожалуй, был единственный пункт, по которому наши мнения полностью совпадали. Не исключено, что наш брак состоялся только благодаря взаимному согласию не порождать новую жизнь. Сравнение книги с ребенком это согласие нарушало — скажу больше: оно смахивало на предательство.
По поводу названия романа у нас возник спор. Мое рабочее название — «Зверинец» — не соответствовало представлениям Ванессы об имени ребенка.
— Но книга — это не ребенок, — возразил я.
— Для меня она как ребенок, — сказала она. — Почему бы не дать ей детское имя? — Какое, например?
— Например, «Ванесса».
— Ты далеко не дитя.
— Когда-то я им была.
— Но книга написана не о тебе.
Ее гортанный смех был исполнен презрения, как и ее покачивание головой.
— Какой смысл это отрицать, Гвидо? Признайся, что роман посвящен мне, от первой до последней строчки.
— Ви, ты же его еще не читала.
— А в этом есть необходимость?
— Если ты так уверена, что он о тебе, то есть.
Она оглядела меня с ног до головы, сжав губы в суровую складку. Уверен, во многих семьях такой взгляд предвещает всплеск бытового насилия. В нашей семье сам по себе взгляд уже был бытовым насилием. Если ты состоишь в браке с женщиной типа Ванессы, за это надо расплачиваться.
— Тогда о чем же он? — спросила она.
— О животных побуждениях, о чувственности, о жестокости и безразличии.
Она расхохоталась. Это был животный, чувственный, жестокий и безразличный смех.
— Значит, книга все-таки обо мне, — сказала она. — Я же в курсе, какой ты меня представляешь.
— Ви, почти все действие происходит в зоопарке. Я не вижу тут связи с нашей семейной жизнью.
— В зоопарке? На моей памяти ты ни разу не посещал зоопарк. И вообще ни разу не обмолвился о зоопарке. Да ты и животных-то не любишь — даже кота заводить отказался.
С какой стати зоопарк?
Я никогда не упоминал при ней Мишну Грюневальд. Ванесса не относилась к числу жен, способных спокойно выслушивать рассказы о мужнином прошлом. Мы с ней были Адамом и Евой. А до нас не было ничего.
— У меня богатое воображение, — напомнил я.
— И что происходит в этом богато воображаемом зоопарке?
— Всякие зоологические вещи.
Она сделала паузу:
— Так это роман о твоем члене?
— Он обо всех — о каждом члене.
— Гвидо, не у каждого есть член. Половина жителей Земли не имеет члена.
— Я об этом не забыл. Роман как раз написан от лица человека, члена не имеющего.
— То есть евнуха?
— Нет.
— Певца-кастрата?
— Нет.
— Кого же тогда?
— Женщины.
Она схватила себя за грудь, имитируя удушье от истерического смеха:
— Женщина?! Да что тебе известно о женщинах, Гвидо? Ты знаешь о них еще меньше, чем о зоопарках.
Я испытывал сильнейшее искушение поведать ей все о Мишне Грюневальд и о других Мишнах, сам факт существования коих превращал наш семейный эдем в пародию. Что я знал о женщинах? Спросите лучше, чего я о них не знал. Однако момент для таких откровений был неподходящий.
— Я внимательно слушал женщин, Ви. Я наблюдал за женщинами. Я читал о женщинах. Если Флобер мог писать от лица женщины, если Джеймс Джойс мог писать от лица женщины, если Толстой…
— Достаточно. Я поняла, к чему ты клонишь. И какова она, эта женщина, о которой ты ничего не знаешь?
Я пожал плечами:
— Веселая, жизнерадостная, красивая, сексапильная.
— И она работает в зоопарке, эта веселая и сексапильная красавица?
— Ты угадала.
Хотелось добавить: «Она там дрочит звериные члены».
— А среди персонажей есть мужчина, который в нее влюблен?
— Есть.
— И это, само собой, ты.
— Не путай роман с автобиографией, Ванесса.
— Было бы что с чем путать… Итак, у нас есть мужской персонаж, который в нее влюблен. И этот персонаж скопирован с тебя. Он хотя бы получает свое?
— Получает что?
— Не корчи из себя придурка.
— В конце он получает по заслугам.
— Ого, так мы имеем историю с моралью!
— Никакой морали здесь нет. Я вообще нигилист — кому, как не тебе, это знать.
— И еще ты муж. И у тебя есть жена.
— Мне это известно, Ви.
— Ты добивался ее руки, а когда добился, пообещал хранить верность.
После слова «верность» она не сказала кому. Ну разве мог я ее не любить?
— Это так. Но персонажи моего романа — это не я. Они ничего не могут добиться. Они только теряют.
— И главный герой теряет сексапильную красотку из зверинца вместе со всем прочим?
— Ну, там все не так однозначно, — сказал я, немного подумав.
— Что и требовалось доказать, — со смехом заявила Ванесса и хлопнула в ладоши, как Архимед, только что решивший теорему. — Стало быть, это роман обо мне.
Quod erat demonstrandum.[62]
Никогда прежде я не видел ее такой веселой, жизнерадостной, красивой и сексапильной. Богиня Майя.
— Измени имена, — посоветовал я, когда Ванесса дала мне прочесть первую страницу своего романа (и, как выяснилось, единственную ею написанную).
Поскольку я отказался назвать мой роман «Ванесса», она дала это название своему. Так звали главную героиню. А главный мерзавец носил имя Гай. Они познакомились в магазине под названием «Вильгельмина». Маму Ванессы звали Поппи. В романе Гай не пытался подкатить яйца к Поппи, но причинами этого несовпадения с реальностью были только выбор времени и неосведомленность автора. В описываемый период я и не пытался, а Ванесса — реальная Ванесса — до сих пор не ведала о моих тайных помыслах и нездоровых фантазиях.
— Если ты думаешь, что смена имен может кого-нибудь обмануть, ты полный кретин, — ответила она.
Она упускала из виду одну важную особенность сочинительства: сколь бы правдиво ты ни описывал свою жизнь, с той минуты, как ты изменял имя героя, ты изменял самого себя. Именно из этого крошечного различия, неустанно твердил я Ванессе, и рождается высшая истина.
— Чушь собачья! — отвечала она. — Что такое высшая истина?
— Это больше чем просто правда.
Впоследствии она отплатит мне той же монетой, когда я изобличу ее во лжи.
Смена имен, как ни крути, необходима романисту. Измени имена — и ты изменишь свой взгляд на события, а изменив взгляд, ты сможешь увидеть не то, что тебе когда-то показалось, а то, что случилось в действительности.
Итак, изменив имена, официально приглашаю вас на одно знаменательное мероприятие, состоявшееся через два года после того, как мать и дочь впервые перешагнули порог «Вильгельмины» (каковую ради высшей истины я переименовал в «Маргариту»).
Автор и Полина Жиродиа
Приглашают Читателя
На свадьбу Валери и Гидеона
Почему «Маргарита»? Почему Валери и Полина? Да просто потому, что звучание этих имен отдавало рафинированным французским порно.
«Сейчас, когда я пишу эти строки, перед моим мысленным взором встают две женщины — единственные, кто возбуждал во мне истинную страсть, — Валери и Полина… После того как Полина приготовила наряд для свадебной церемонии Валери — включая черные шелковые чулки, черные перчатки и черные замшевые туфли на шпильке, — невеста неторопливо разделась перед зеркалом, надушилась и подрумянила свои груди…» И так далее в том же духе.
Что касается фамилии, то ее я позаимствовал у Мориса Жиродиа, основателя издательства «Олимпия-пресс», выпускавшего мою любимую эротическую литературу, которая иначе так бы и осталась неизданной.[63] Правда, от рождения он звался Морисом Каханом, но его отец, Джек Кахан, в Париже тридцатых годов учуявший приближение нацистской угрозы, предусмотрительно переписал сына на девичью фамилию матери: Жиродиа. В мемуарах Морис очень тепло отзывался о своей маме-француженке, энергичной, неунывающей и обворожительной — примерно в тех же словах я мог бы описать и свою маму, будь моя привязанность к ней чуть сильнее или будь я сам чуточку добрее к окружающим.
Его отец, Кахан-старший (кстати, родившийся в Манчестере, неподалеку от моих родных мест), также занимался изданием эротической литературы, в том числе запрещенной в Америке, включая Генри Миллера. То было смутное время для литературы, когда романисты оскорбляли всех и вся, власти боролись с печатным словом и никто не был тем, кем представлялся. Кто такой Фрэнсис Ленгель, написавший «Белые ляжки»? Александр Трокки, кто же еще? А кто скрывается за безобидным именем Генри Джонс? Человек с не менее безобидным именем Джон Коулмен, сочинивший далеко не столь безобидный роман «Гигантская кровать» (с пассажами типа: «Наши губы слились, и в тот же момент ее рука нырнула за пояс моих брюк, обнаружив там мою вновь обретенную мужественность»). Какими важными персонами, должно быть, чувствовали себя эти авторы — при всей их нищете и безвестности, — видя, как паникуют власти каждый раз, когда женская рука бесконтрольно залезает в писательские штаны. А моя теперешняя возня с подменой имен была лишь попыткой приобщиться к давним уловкам и иллюзиям. Можете назвать это ностальгией. Сочинительству никогда уже не быть таким веселым и увлекательным занятием, каким оно было в ту пору.
Если хотите, можете также назвать это чувством единения — сродни тому самому чувству, проявления которого так упорно добивалась от меня Мишна. Я и сейчас еще не был готов к этому, хотя уже мог представить себя на месте отца Мишны, со смертного одра слезно взывающего к Господу. И, случись мне оказаться в больнице, я при первых же признаках врачебной озабоченности мигом вспомню о своем еврействе, начну требовать, чтобы мне позвали раввина и дали поцеловать свиток Торы. Но пока что я мог ощутить единение лишь с отдельно взятыми евреями, которые сочетали любовь к своим матерям с увлечением «непотребной» литературой. Всего наилучшего вам, Джек и Морис Каханы, великие знатоки непристойностей и распутства. Tsu gezunt.[64]
Вымышленный брак Валери и Гидеона, подобно реальному браку Ванессы и Гая, был зарегистрирован в мэрии городка, а для праздничного застолья был выбран модный ресторан «Мерлин» в Олдерли-Эдж.[65]
Реальная свадьба не сопровождалась религиозными церемониями, что не вызвало возражений со стороны Эйблманов. Как я уже отмечал, наша семья была равнодушна к религии, и никто даже не обмолвился о соблюдении еврейских обрядов. Что до Ванессы, то она и думать не думала о таких вещах.
Полина выразила недовольство тем, что ее дочь предпочла свадебный наряд темных тонов, а еще ранее матушка Мелкого Гида выразила возмущение тем, что невеста приобрела наряд не в «Маргарите». Недовольство и возмущение выразил и сам Мелкий Гид, когда услышал от своей будущей жены, что она, наряду с отказом от высоких каблуков и глубокого декольте, намерена отказаться от «почитания и уважения мужа» и от занятия с ним сексом в ночь после свадьбы. Такая возмущенно-недовольная реакция близких вызвала ответный гнев Валери, а в гневе Валери была ужасна. Неудивительно, что Мелкого Гида в день свадьбы била нервная дрожь от кончиков волос до носков лакированных туфель.
Следует заметить, что отказ новобрачной от послесвадебного секса не стал для ее нареченного такой уж неожиданностью. Ванесса — то бишь Валери — принципиально не занималась сексом, когда была чем-то встревожена, или чересчур взволнована, или счастлива, или печальна, или рассержена, а также на полный желудок (а ей не хотелось ни в чем себя ограничивать за свадебным столом) или много выпив (аналогично), будучи слишком одетой (из-за возни с раздеванием) или совершенно раздетой (то есть предполагаемо легкодоступной), равно как и во всех тех случаях, когда занятие сексом казалось уместным и своевременным. В тот вечер, когда Мелкий Гид доставил ее маму из ресторана в целости и сохранности (и когда Полина назвала его «нахальным мартышонком»), Валери, дотоле не обменявшаяся с ним и парой полноценных фраз, не говоря уже о поцелуях, догнала его на улице, увлекла в подворотню за скобяной лавкой и там исполнила мощный минет. И это стало нормой в их отношениях. Она отказывалась совокупляться в постели, на полу, в машине, под кустами и в любом другом месте, где он просил ее об этом. Но зато там, где он не хотел или не ожидал секса, он его получал.
— Только не думай, что тебе будет достаточно чего-то не захотеть, чтобы это получить, — предупредила она. — Меня так просто не проведешь.
— Я хочу и одновременно не хочу секса в первую брачную ночь, — сказал он, надеясь предвосхитить любой поворот событий.
— В таком случае ты его получишь и одновременно не получишь, — сказала Валери; он этого не понял, но принял за отказ.
— Почему ты на ней женишься? — спросила Гида его мама, когда он впервые объявил о своем решении. — У тебя с ней нет ничего общего.
— Зато она хороша собой.
Мама скорчила гримасу, показывая, что ей доводилось видеть и получше.
— Не так хороша, как ее мать, — сказала она.
— Возможно. Но я ведь не могу жениться на ее матери.
Она гримасой показала — мол, почему бы и нет? Мама всегда была чужда условностям в том, что касалось прав и свобод женщин преклонного возраста, и Гиду это в ней нравилось.
А сейчас она настойчиво продолжила расспросы.
— Как думаешь, почему она согласилась выйти за тебя?
Он пожал плечами. И в самом деле, почему?
— Может, ей захотелось надежности и постоянства?
— А ты считаешь себя надежным и постоянным?
— Дело не во мне. Это она так считает.
Маму Гида тревожила перспектива его брака с женщиной, которая настолько плохо разбирается в людях, что сочла Гида надежным и постоянным человеком. Однако вслух она эту тревогу не высказала и в конечном счете приветствовала свадьбу, которая позволяла заполучить в клиенты многих из числа гостей (хотя невеста и отказалась одеваться в «Маргарите»), а главное, это был повод как следует принарядиться и самой.
— Еще есть время, но думай быстрее, — сказала она сыну утром, за несколько часов до свадьбы.
Она уже сделала макияж и была наполовину одета, расхаживая по комнате в короткой комбинации и берете со стальной антенной. По такому случаю она приобрела новый мундштук слоновой кости, из которого уже торчала, попыхивая, электронная сигарета.
Отец Гида ходил следом с остальной ее одеждой, переброшенной через руку.
— Есть время для чего, ма?
— Чтобы дать задний ход, если ты не уверен, что будешь с ней счастлив.
Именно для таких моментов мне хотелось сделать Гида писателем, чтобы он мог с полным на то основанием повторить мои слова, сказанные маме в сходной ситуации:
— Счастлив? Романисты не бывают счастливыми. Я ввязался в это только затем, чтобы собрать материал для будущей книги. А счастье — ну его к черту!
Мелкий Гид получил удовольствие от свадебной церемонии, даже не будучи писателем. За пять минут до намеченного выступления Гида перед гостями Валери схватила его за руку и увлекла в женскую уборную, где предалась с ним любовным утехам. Не только оральному сексу, а утехам по полной программе.
Вместе с благодарностью пришло удивление. Неужели она спланировала это задолго до свадьбы? И не потому ли она отказалась надевать белое платье? Что она за штучка, эта женщина, на которой он только что женился?
И что за штучка эта его теща, небрежно чмокнувшая Мелкого Гида в обе щеки по завершении обряда?
— Итак, — сказала теща, улыбаясь.
Выглядела она шикарно, а перья в огненной прическе придавали ей сходство с большой хищной птицей из амазонских джунглей.
— Итак, — молвил Гид в свою очередь.
— Итак, я не столько потеряла дочь…
Он ждал продолжения: «…сколько получила — что?» Ну же, скажи это, Полина. Что ты получила?
Любовника? Эротические перспективы? Приглашение в ад? Не забывайте, что в тот момент он был пьян.
Он раскрыл глаза так широко, как это только было возможно для человека, недавно совершившего свой первый официально-супружеский половой акт в кабинке женского туалета. Ну же, Полина, скажи ему, что ты получила взамен?
Теща снова чмокнула его в горячую щеку.
— Нахального мартышонка, — сказала она.
17. БЫЛЫЕ ГОДЫ
Его горячая щека!
Довольно! Отвали, Малыш Гиддинг! Пора тебе жить своей жизнью.
Очень трудно выдерживать повествование в третьем лице, когда у тебя голова идет кругом от воспоминаний. Очень трудно быть таким альтруистом. Писатель вроде меня, как правило, начинает испытывать дискомфорт от затянувшегося расставания с первым лицом уже после пары параграфов, написанных им от третьего.
Он, ему, его… К чему нужны эти местоимения, если есть я, мне, мое?
Ванессе (в данном случае моей Ванессе) в начальный период нашего супружества (нашего супружества) нравилось дразнить и третировать меня сексуально. И ее мама, Поппи, наверняка была к этому причастна, в чем-то ей подыгрывая и что-то от меня утаивая (думаю, все же больше утаивая, чем подыгрывая).
Возможно, помогая дочери надо мной издеваться, Поппи таким образом мстила дипломату невысокого ранга, который развелся с ней из-за репетиций Брамса со скрипачом, фотографировавшим ее обнаженной в обнимку с виолончелью. И потом, это мог быть своего рода примирительный жест в адрес Ванессы, которую она против ее воли затащила в Вашингтон и для которой она не смогла найти достойного отчима. Так что я был удобным мальчиком для битья, совместное избиение которого сплачивает бьющих. Мать и дочь развлекались эпатажными прогулками под ручку по улицам тихого провинциального городка, эффектно покачивая и порой со смехом стукаясь бедрами, слыша позади себя восхищенный мужской свист и забавляясь мыслями о том, каково их мужу и зятю быть свидетелем всего этого.
Изменяла ли мне Ванесса? А если да, поощряла ли эти измены Поппи, при этом сама готовясь изменить мне еще до того, как я изменю с ней Ванессе? Целое нагромождение измен — такое под силу вытерпеть лишь писателю или извращенцу. Мелкий Гид, успешный торговец и незадачливый комедиант, этого не пережил бы. Ну а я — я собирал материал.
Преподаватели «ыглышкой лытры» — прононс Филиппы здесь как нельзя более к месту — уничижают романистов, приписывая им сентиментальные склонности. Так случилось, что после полутора десятилетий брака с Ванессой именно этот вопрос я обсуждал с Филиппой в австралийском винограднике сразу после нашего литературного секса.
— Вы, писатели, рассказываете историю людских сердец, — примерно так (если убрать жуткий акцент) рассуждала Филиппа. — Вы видите то, чего не видят другие.