Калейдоскоп. Расходные материалы Кузнецов Сергей
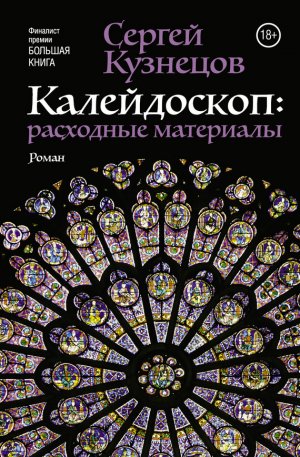
– Ну хорошо, – Томек вздохнул, – тогда давайте я расскажу. Представьте себе – равнина, туман, окопы и в них солдаты…
Томек умел рассказывать. Дождь барабанил по крыше сторожки, холодный мартовский ветер раскачивал голые ветви яблонь за окном, где-то вдалеке прошумел мотор автомашины – а восемь детей слушали, затаив дыхание.
Точно так же они сидели прошлым летом, почти год назад. Было жарко, Томек предложил играть в Африку – и вот уже Бжезинка превратилась в городок в Бельгийском Конго или в Камеруне, в самом, как сказал Томек, сердце тьмы, кругом расстилались джунгли, а неподалеку рабовладельцы разбили огромный лагерь…
Это была, наверное, самая грандиозная Томекова игра. Юрек украл у отца карту, старую, еще с русскими надписями – и поверх букв, которые Злата не могла прочитать, Томек вписал новые названия.
– Вот здесь главные ворота, – объяснял он, – вот тут – хижины, где живут рабы. Вот здесь – офицеры, а тут по периметру натянута колючая проволока…
– Что такое «периметр»? – спросил Витек, и Томек, вздохнув, объяснил.
Злата надеялась, что ее снова похитят – на этот раз отобьют у рабовладельцев, – но потом сообразила, что со своими рыжими косичками и веснушками совсем не похожа на негритянку-рабыню, и огорчилась.
– Не горюй, – сказал Томек, – в этом лагере не только негры, там самые разные люди. И не только люди, но даже звери!
Томек сочинял на ходу. Он вытаскивал персонажей из недавно прочитанных книжек, из американских и немецких фильмов, давал им новые имена, сталкивал друг с другом, переплетал, трансформировал. Так алхимики пытаются получить золото, трансмутируя неблагородные металлы, а кинологи выводят новые породы. Так доктор Моро на своем острове превращал животных в людей.
– Они на самом деле не рабовладельцы, – продолжал Томек, – они вивисекторы.
– Кто? – спросили хором Витек и Збышек. Это был отработанный прием: они всегда так делали, когда Томек начинал сыпать неизвестными словами.
К концу июня стало ясно, что игра будет долгой и до освобождения рабов еще далеко. Неделю Томек размечал карту: окрестные поля превратились в джунгли, деревня оказалась центром поселения, здание Польской табачной монополии стало штабом рабовладельцев, а старые австро-венгерские казармы – хижинами рабов. Потом Томек велел перенести границы лагеря на местность: посреди окрестных полей они прорывали мелкие, почти незаметные канавки: за ними начинались джунгли. Оттуда должны были прийти отважные путешественники, чтобы спасти узников, томящихся в рабстве.
Все это казалось Мачеку только подготовкой к самой игре: сейчас все разметим, думал он, а потом наконец-то начнем. Он представлял, как летним вечером они прокрадываются к трехэтажным кирпичным казармам, возможно, даже воруют оружие у солдат, уносят и прячут в сторожке… но Томек никак не мог остановиться. Он рисовал схемы лагеря, часами рассказывал, как устроена жизнь рабов. Он придумал безумного ученого, доктора Йозефа Курца, ставившего эксперименты на близнецах и карликах, мечтавшего добыть лекарство вечной молодости, скрестив негров с обезьянами.
Одним июльским вечером Томек даже показал Мачеку и Збышеку страницу из медицинской энциклопедии, где был изображен человек изнутри. Переходя с польского на латынь, Томек объяснил, откуда нужно брать специальное секретное вещество, дающее молодость.
– И зачем все это? – спросил тогда Мачек. – А нельзя, чтобы это был просто лагерь рабовладельцев?
– Так будет неинтересно, – отрезал Томек, – будет детская игра. А должно быть по-настоящему страшно.
Мачеку не было страшно – но масштаб игры захватил даже его. Это была их тайна: только Томек и его друзья знали, что на самом деле Бжезинка – это лагерь злодеев-работорговцев, затерянный в африканских джунглях. Пан Ежи, владелец небольшой лавки, официантка Кристина из солдатской столовой, полицейский пан Анджей, даже их родители – все оказались включены в игру, сами того не зная. Они были связаны с работорговцами, они могли выдать отважных путешественников, замысливших освободить несчастных, день за днем умирающих в бараках.
– А что дальше? – спросил Збышек.
Тусклые мартовские сумерки опустились на деревню, струи дождя растворились в темноте.
Мачек нащупал в кармане спичечный коробок и подумал, что где-то был огарок.
– И тут они понимают, что сражаются вовсе не с немцами, – продолжал Томек, – что против них выступают вампиры. Специальный отряд трансильванских вампиров, под командованием самого графа Дракулы.
– Кого? – хором спросили Витек и Збышек.
Злате становится страшно. Про вампиров она почти ничего не знает, но слишком хорошо рассказывает Томек: она словно видит окопы, заполненные жидкой грязью, голодных изможденных солдат, белесый туман, стелящийся над промерзшей землей, и всадника на белом коне, с огромным ружьем на плече. Томек говорит замогильным голосом: «Я поработал на Восточном фронте, настало время перемен и на Западном!»
Зачем он пугает нас? – думает Злата. – Как было хорошо раньше, мы играли в индейцев и пиратов! Меня брали в плен и привязывали к дереву, а потом, чтобы я не плакала, рассказывали чудесные истории, совсем нестрашные, очень интересные. А теперь все изменилось. Наверное, Томек читает слишком много взрослых книг, да и вообще – скоро закончит гимназию. Мама сказала, он наверняка будет поступать в лицей, и значит – уедет из Бжезинки.
Злата думает: а вдруг я его никогда не увижу? Он станет взрослым, вернется летом – и не узнает меня? Или нет, я ведь тоже вырасту, буду красивая молодая барышня, и, может быть, Томек в меня влюбится, а я скажу ему: «Нет!» – и уйду, сдерживая слезы.
Стало совсем темно, и Мачек зажег спичку: мгновение их тени колышутся на стенах, словно призраки, словно поднявшиеся из могил Великой войны трансильванские вампиры. Вздрогнув, Збышек задевает стакан – звон стекла, Бруно шипит: «Шлимазл!» – точь-в-точь как его мама, когда он сам что-нибудь разобьет.
– Пся крев, – говорит Мачек, и спичка гаснет.
Становится еще страшней. Злата вспоминает, как Томек первый раз по-настоящему ее напугал, – да, прошлым августом, когда они играли в Африку.
В тот день Томека подстригли: голова его казалась еще круглее, чем обычно, стекла очков блестели на солнце. Злата встретила его на улице – он шел, глядя в землю, словно преследуя свою тень, шаг за шагом наступая ей на ноги. Они сели под яблоню, и Томек сказал:
– Сегодня я понял, почему в этом лагере не только негры. Йозеф Курц выяснил: если скрестить людей с овцами, можно получать нежнейшее руно.
– Что такое руно? – спросила Злата.
– Шерсть. Как с барана. Ты же знаешь, аргонавты, золотое руно… в гимназии вы должны были проходить.
Злата кивнула, хотя помнила смутно. В самом деле, что-то такое было… золотой баран и его шкура.
– И вот доктор Курц заселяет бараки этими овцелюдьми. Шерсть у них отрастает быстрее, чем у обычных овец, и надсмотрщики стригут их каждый день. А Курц использует белых людей, чтобы получать не только черную, но и светлую шерсть. Например, рыжую.
Томек протянул руку и взял Злату за косичку. Он разминал ее волосы пальцами, словно пробуя – хороши ли они, годятся ли на золотое руно. Злата дернулась, но Томек держал крепко. Она хотела сказать «Отстань!», но, глянув Томеку в лицо, осеклась: пустые глаза, будто он не видел ни ее, ни пыльной деревенской улицы с косо лежащими вечерними тенями, а смотрел куда-то вдаль – может быть, туда, где за много тысяч миль простирались африканские джунгли.
– Овцелюдей стригут, а людям-слонам вырывают зубы, добывают слоновую кость, – продолжал Томек. – Ее складывают в штабеля, а шерсть пакуют в огромные тюки, в такие кучи, и каждый день эти кучи растут… И овцелюди сидят в своих стойлах, они уже не могут говорить, только жалобно блеют…
Пальцы его разжались, Злата выдернула косу, крикнула: «Дурак!» – и припустила по дороге. Она бежала и думала, что ни в коем случае нельзя рассказывать маме, как она напугалась, – тогда уж ей точно снова запретят играть с Томеком.
Она постаралась забыть эту встречу – потому что больше рассказа про людей-слонов ее напугал пустой взгляд Томека, обращенный не то вглубь себя, не то к самому сердцу темной Африки.
И только спустя много лет, уже в Лондоне, увидев в Life знакомые с детства названия, Злата вспомнит этот разговор и внезапно догадается, куда на самом деле заглядывал Томек, откуда явились к нему фантасмагорические призраки бессловесных людей, почти превратившихся в животных.
С третьей спички Мачек зажигает огарок.
– Что дальше-то? – спрашивает Збышек. Он надеется, все уже забыли про разбитый стакан.
– А дальше появляется знаменитый охотник на вампиров, армейский доктор, голландец по фамилии ван Хельсинг, – продолжает Томек. – Он приезжает… на мотоцикле. И вместе с выжившими солдатами они дают последний бой вампирам – и побеждают.
– А вампира можно взять в плен? – спрашивает Беата.
Мачек смеется, но потом вспоминает, как прошлым августом они взяли в плен нескольких мальчишек из соседнего Райска. Мачек придумал, что они – помощники рабовладельцев и надо расстрелять их в овраге за деревней, но Томек сказал, что даже если они и враги, все равно их надо сначала судить. Збышеку досталось быть адвокатом, Бруно стал прокурором. Поначалу было смешно: ребята из Райска ничего не знали про игру и потому отрицали все обвинения, как и положено настоящим преступникам. Збышек уговаривал их признать свою вину, Бруно, увлекшись, требовал революционного правосудия. Мачек уже готовился вынести приговор, как вдруг Томек прервал игру.
– Надоело, – сказал он. – Отпустите их, пускай идут. Противно.
– Ты что? – возмутился тогда Мачек. – Давай их расстреляем, а потом уже отпустим. В следующий раз мы им попадемся – и они нас расстреляют.
– Вот я и говорю: надоело, – сказал Томек. – Пусть идут.
Тогда-то и стало ясно, что африканская игра зашла в тупик: хотя Бжезинка и окрестные деревни давно превратились на карте в лагерь и джунгли, Томек каждый день вносил новые уточнения. Все уже устали, и Мачек понял, что пора готовить спасательную операцию. Бруно предложил назвать ее «Спартак» – сказал, что в честь героя книжки про римских рабов, но Мачеку по секрету признался, что на самом деле – в честь организации немецких коммунистов, основанной Розой Люксембург. Мачек не знал, кто такая Роза Люксембург, и Бруно, задыхаясь от волнения, рассказал, как во время немецкой революции полицейские по приказу капиталистов убили Розу и ее мужа Карла Либкнехта.
Томек почти не принимал участия в подготовке «Спартака». Похоже, сочинив свою страшную историю, он потерял интерес к игре. Возможно, поэтому операция так и не состоялась: в конце августа зачастили дожди, и никому не хотелось ползти в грязи к армейским баракам, рискуя столкнуться с самыми настоящими, а не выдуманными часовыми. Мачек немного обиделся на Томека, но вскоре начались занятия в гимназии, пришел новый учитель пан Тадеуш, надо было решать бесконечные задачи по геометрии, и стало не до обид.
Вечером небывалый ветер налетел на Бжезинку. Он стучал деревянными языками ставен, трещал ветвями деревьев в саду, грохотал жестяной кровлей, сторожевым псом завывал в трубах. Огонь шумел, отвечая ветру, лоскуты пламени трепетали, обхватывая почерневшие сыроватые поленья. В комнате висел тонкий креп дыма, пахнущий живицей.
На деревню спускалась ночь, Злата слышала ее звуки. В темноте кровать превращалась в лодку, скользящую по реке. Светлые пятна кукольных платьев – как отсветы лунного света на воде, а может – как призраки, привидения.
В своей лодке Злата совсем одна. Не слышен густой сердитый голос отца, тихий, бархатный мамин голос, даже истошный, хриплый лай Ганса не слышен. Злата закрывает глаза и думает, что скоро опять придет лето, Томек придумает какую-нибудь новую игру, еще интересней – а может, они все-таки доиграют прошлогоднюю, соберутся и освободят бедных овцелюдей.
Что происходит с ними зимой? – думает Злата, засыпая. – Наверно, так и стоят в своих стойлах, больные, голодные, ничего не понимают. Все забыли о них, никто не спешит на помощь, никто не шлет тайную весточку «держитесь!», не разрабатывает план спасения. Несчастные овцы, бедные овечки, они уже ничего не ждут, остались в своем хлеву, застряли на бесконечно долгую осень, зиму и весну…
Но на самом деле, думает Злата, на самом деле мы не забыли вас. Скоро опять лето – и мы вернемся, чтобы спасти, вернемся, чтобы принести вам свободу.
Вибрирующая рама вагона, стыки рельс, грохот колес. Тата, та-та, та-та. Заглушает плач младенцев, придает ритм старческим стонам – возможно, предсмертным; врывается в непрочные, не приносящие успокоения сны.
Колеса по рельсам – как метроном. Чтобы не сбиться. Тата, та-та, та-та.
Кислый, ржавый запах железнодорожных перегонов; душный, гнилой душок распадающейся плоти; резкая аммиачная вонь стариковской немощи, женской бесприютности.
Тусклый свинцовый свет сквозь щели вагона… не различить – вечер или утро, не различить лиц соседей, наших соседей, не различить – сколько нас здесь. Стук по рельсам. Едет поезд, поезд полон.
Бесчестье, бессилие, безнадега. Лишенные имущества, дома, имен. Вповалку, без различия. Эвакуация, депортация, транспортировка. Беженцы, заключенные, перемещенные лица, перемешанные в буром сумраке, в гнилостной вони, затерянные среди булькающего кашля, надрывного, с повизгиванием, плача, среди стариковских – да, теперь уже точно предсмертных – стонов, среди грохота колес, метронома, отсчитывающего стыки рельс, километры или мили, отделяющие нас от покинутого, уже несуществующего дома, среди грохота, ведущего счет оставшимся дням жизни, словно механическая кукушка сошедших с ума стенных часов, беспрестанно повторяющая свое та-та, та-та, та-та…
12
1937 год
Ночь над Европой
(Петр Колпаков)
Я помню, как началась эта ночь. На бульваре Клиши ко мне сел высокий темноволосый мужчина в хорошем сером костюме, при галстуке и с тростью. Он велел ехать в отель «Роваро»; его акцент напоминал о юге, о Средиземном море. Я еще по думал, что он был бы уместней где-нибудь на террасе прибрежного кафе или в оливковой роще, чем на ночной парижской улице. Не спросясь, он закурил сигару, откинулся на спинку сиденья и заговорил по-русски:
– Ты, шофер, не знаешь, насколько тебе повезло: жить в Париже. Ваши бабы в любви – самый шик, понимают в этом, как немцы – в машинах. Мне отец еще когда говорил: «Не попробуешь француженку – считай, любви и не знал». Старик-то еще до войны здесь обретался, застал, так сказать, ваш бель эпок. Я думал, он все больше про местных шлюх, а теперь понятно: у вас приличные женщины такое умеют!
Было понятно, что он возвращается от одной из таких приличных женщин. Он сообщал без тени стыда неприличнейшие и подробные обстоятельства проведенной ночи, наслаждаясь моим безмолвием. В истории этого Мидаса, превращавшего все, о чем он говорил, в шаловливую и безвкусную непристойность, мне отводилась роль немого тростника. Очевидно, он был уверен, что я не понимаю ни слова из его монолога, напыщенного до театральности.
– Ее зовут Жозефина. Старше меня, думаю, лет на пять. Я, знаешь ли, люблю молоденьких, свежих, ты понимаешь, да? – Он премерзко хохотнул. – Но в опытной женщине… в опытной женщине свой, как вы говорите, шик. Я сделаю ей подарок, да, царский подарок. Прямо сегодня ночью! Я напишу ей картину – она любит художников, знаешь? – нарисую ей наше армянское солнце, солнце любви! Жаркое, наполненное жизнью! Я ведь тоже художник, хоть молодой, а уже заслуженный! Молодым, как известно, везде у нас дорога – спасибо, так сказать, Советской власти. Все у нас равны – богатые и бедные, русские и армяне, рабочие и колхозники… а талантливых художников все равно мало! – Он снова хохотнул. – Мы, художники, на вес золота. Золотой валютный запас советской страны! Я вот Жозефину спросил: может у вас, в Париже, художник получить квартиру где-нибудь на Шанзелизе? Или, скажем, на Больших бульварах? Да ни в жизнь! А мне Советская власть дала и квартиру, и дачу… и даже, видишь, Париж! Представляю свою страну на Всемирной выставке, вместе, можно сказать, со МХАТом!
Он выбросил сигару в окно. Тлеющий огонек прочертил параболу в боковом зеркальце. Я по-прежнему молчал, придавленный нелепостью происходящего. Внезапно меня охватили презрение и жалость, вечные спутники моих бесконечных ночных часов. Я повернулся и сказал по-французски:
– Не мог бы месье помолчать? Ваша варварская тарабарщина отвлекает меня от дороги.
(Анита Симон-и-Марсель)
В эту субботу мы гостили в загородном доме Жюля Дюрана, коллеги моего мужа. Было жарко, и после обеда мы пошли прогуляться в поля. С нами была собака, фокстерьер, веселый и бестолковый; пес то убегал вперед, то возвращался. Внезапно он залаял и стал рыть землю.
– Кроличья нора, – сказал Жюль.
Муж рассмеялся и стал науськивать пса. Жирные комья земли летели во все стороны, черная клякса упала на подол моего платья. На мгновение мне показалось, что это не земля, а сгустившаяся до черноты кроличья кровь.
Меня вырвало.
Подняв голову, я увидела легкую гримасу брезгливости на лице мужа и бросилась к дому. Мужчины продолжили прогулку – вероятно, чтобы меня не смущать.
Меня раздирали ярость и стыд: я бежала не останавливаясь две мили до станции и первым же поездом вернулась в Париж.
Тряска успокоила меня. Глядя на попутчиков, спешивших вернуться в город до темноты, я думала о вечном повторении, об архетипах, снова и снова находящих пристанище в слабых людских телах. Пьер говорит: мы обречены разыгрывать один и тот же спектакль, бесконечно представлять одни и те же античные мифы – об инцесте, убийстве и жертвоприношении.
С одной стороны, все повторяется, думаю я, а с другой – не повторяется ничего. Никто из нас не существует: мы всего лишь точки в потоке времени, звенья в цепи причин и следствий. Не единый сюжет, а бесконечное развитие одних и тех же мотивов, как в музыке. Мотивы те же, а мелодия разная, аранжировки разные, всё разное.
Вот женщина и двое мужчин. Любой миф расскажет историю соперничества, битвы, гибели… и никогда – историю нежности, страсти, любви. Пантеон мифологических героев слишком беден – у мужчин мало сюжетов, которые они готовы воспринять.
Выйдя из вокзала, я не пошла домой, а, взяв такси, отправилась к «Франсису», где надеялась встретить Даньеля.
Первый же стакан вина отрезвил меня. С отчетливой ясностью я поняла, что двигаюсь по нисходящей, все глубже врастая в землю. Но иногда я еще испытываю великие радости этого мира, радости, подобные радостям любви.
Девочкой я жила на желтом берегу лазоревого моря, под жарким кубинским солнцем. Волны целовали мои босые ноги, а служанки в старом отцовском доме, не стесняясь меня, сговаривались с парнями, что придут к ним ночью.
Возможно, всю жизнь я снова пытаюсь обрести ту утраченную невинность.
(Петр)
Я оставил карикатурного армянина у дверей его отеля. Вряд ли Мережковский представлял грядущего хама таким: восторженный неофит, в чьей голове смешались восхищение мерзостью парижской чувственности, холуйское преклонение перед своим советским хозяином и смутные догадки о бесценности художественного дара. В своей самоуверенности он был нелеп и жалок – и акцент, равно чудовищный в обоих языках, только усиливал это впечатление.
Я вспомнил стоянку в Пасси и разговор с одним из тех русских таксистов, которые находили в себе силы сопротивляться влиянию среды и условий существования; с бескорыстным и, быть может, ненужным героизмом он занимался историческими изысканиями. Я помню морщинистую шею, потертый, лоснящийся пиджак и неумолимый запах нищеты, не отпускавший моего собеседника ни на минуту.
– Господь не послал России заморских колоний, – говорил он, кашляя голодно и прокуренно, – мы колонизировали собственный народ. И потому, сколько бы дворяне ни учили своих детей французскому, русские никогда не были европейцами. Русский бунт – не пролетарская революция, предсказанная Марксом, и не крестьянский мятеж, предвосхищенный Пугачевым. Это – успешное восстание сипаев, освобождение жителей колоний от колонизаторов.
– А как же Азия и Кавказ? – возразил кто-то из молодых.
– Колонизация Азии была нашим спасением, – ответил он. – Только там русский мужик мог почувствовать себя сахибом. Лишь пока энергия русского народа была направлена вовне, могла существовать Российская империя. В 1885 году на Кушке был достигнут предел расширения – и это стало предвестием гибели: энергия направилась внутрь и обернулась мятежом. Сейчас я пишу об этом книгу «Осуществление истории и неизбежный крах коммунизма».
Если мой собеседник был прав, вполне логично, что армянский художник представляет Советскую Россию в Париже, а грузин сидит на царском троне в Кремле. Возможно, мы, беглецы, несем Европе весть о ее грядущей судьбе: о гибели империй и нашествии колонизированных народов. В отличие от России у них будет иной цвет кожи, нежели у свергнутых господ: возможно, это поможет молодым европейцам не обмануться.
На прошлой неделе я узнал, что Володя Туркевич уехал в Испанию, как он говорил – сражаться с фашизмом. Можно его понять: он покинул Россию ребенком, и родина представляется ему потерянным раем. Чтобы обрести этот рай вновь, он заключит союз с кем угодно: с чертом, с анархистами… хоть с коммунистами.
Воспоминания о России не вызывают у меня умиления. Я равнодушен к пошлым картинам былого: звон колоколов Святой Руси, мелодия мазурки, сверкающий паркет дворцовых зал, золоченые кареты у барочных подъездов, мужики в ушанках, треньканье колокольцев, топот копыт, крики ямщика и заснеженные равнины – все это не трогает меня. Тоскую я разве что по серому небу и косому дождю – потому что их хватает здесь, в Париже, где они выглядят фальшивой, приукрашенной копией русской осени.
Что я помню? Сухую крымскую степь, пыль, оседающую на лицах живых пеплом Помпеи, скрипучий рассохшийся вагон на заброшенных путях. Я помню, как умирал Мишель Строгов, в горячечном бреду бормоча названия парижских улиц, выкликая имена товарищей, сгинувших в мясорубке Великой войны.
Красные гнали нас все дальше и дальше, и, вслушиваясь в лихорадочный шепот умирающего, я думал, что никогда не увижу великий «город света», а тоже через день-другой лягу в неглубокую могилу иссушенной степи, в землю, сопротивляющуюся лопате и штыку куда успешней, чем мы – нашим врагам. Я думал, что наши старшие братья еще застали настоящую Европу, где можно было выбирать себе смерть, бросаться в Сену с моста Мирабо, стреляться от несчастной любви или романтично чахнуть от туберкулеза, убивающего не в пример медленней «испанки».
Предчувствие обмануло меня: я добрался до Парижа и несколько лет назад даже встретил одного из тех, чьи имена Мишель повторял в предсмертном бреду. В чайной «Петушок» мне показали отца Сергия, знаменитого русского boulevardier прекрасной эпохи, обретшего Бога в тех самых окопах, где Его потеряло целое поколение молодых европейцев.
Русская чайная с ее вишневыми коврами, запыленными окнами, с ее пошлым, каким-то достоевским отчаянием. В этих декорациях отец Сергий показался мне трагически нелепым, словно туземный царек, напяливший цилиндр и смокинг съеденного миссионера.
(Анита)
Четыре года назад, едва приехав с мужем в Париж, я познакомилась с Мадлен. Высокая, нервная француженка, худая, с пылающими рыжими волосами. Хна хорошо скрывает седину, говорила она, и я верила, что Мадлен далеко за сорок, но потом узнала, что она немногим старше меня. Возможно, хне вовсе нечего было скрывать.
Мы никогда не спали с ней, и однако она соблазнила меня, создала заново, вылепила новую Аниту взамен той, которую знали мои друзья в Бостоне. Она научила ценить избыточность, экзальтацию, безумную трату всех сил, бесплодную попытку достичь невозможного. Показала путь к чистоте, вырастающей из пьянства, нищеты и разврата.
Устав ждать медленной смерти туберкулезницы, Мадлен убила себя вероналом. За месяц до этого она постучалась ко мнев пять утра. Платье ее было разорвано и замарано грязью парижских кабаков. Бурые опилки, еще недавно устилавшие пол, терялись в мятых складках ткани, липли к влажным щекам Мадлен. Она была пьяна и держалась за косяк, чтобы не упасть.
– Попробуй презирать меня, – произнесла она заплетающимся языком. – Этой ночью я наконец-то сбилась со счета. Я даже не знаю, сколько их было у меня сегодня.
Вожделение и страдание искажали ее лицо, и я – уже не впервые – подумала, что так и выглядит мученица ХХ века, только такой и может быть современная святость, святость без Бога.
Через четыре месяца я познакомилась с Даньелем – Мадлен так и не узнала его; а мне бы хотелось вместе с ними пойти в матросские ночлежки, втроем есть омлет в компании карманников, смотреть на шахматистов в кафе, куда старые актеры приходят послушать старых музыкантов, исполнявших классические квартеты.
Даньель бы понравился ей. Мадлен оценила бы его страсть к тому, что лишено внешнего лоска, наведенной красоты: непричесанные, недокрашенные женщины; официанты, не успевшие нацепить бабочку и надеть дежурную услужливую улыбку; усталые проститутки, плетущиеся на рассвете домой.
Мы хоронили Мадлен ветреным осенним днем. Жирные комья влажной земли летели во все стороны, черная клякса упала на подол моего платья сгустившимся пятном вечного траура.
Наверное, всё, что я делаю с тех пор, – жалкая попытка приблизиться к невозможной святости разврата, которой достигла Мадлен в свои последние лихорадочные месяцы.
Душная парижская ночь манит меня. Я бросаю на цинковую стойку несколько монет и выхожу на улицу все еще твердой походкой. Подняв руку, я подзываю такси.
– К «Фреду Пейну», – говорю я бритому таксисту.
Я знаю: там я встречу Даньеля.
(Петр)
Я приучил себя не думать о Советской России. Я не получаю оттуда писем и, разумеется, никогда не пишу. Я мог бы сказать, что не хочу подвергнуть опасности тех, кто остался под красной властью, – и это, конечно, правда, – но важнее, что мысль о судьбе тех, кого я любил, для меня невыносима. Невозможно представить их, когда-то молодых и красивых, в сегодняшней России, обреченной убожеству большевизма. Невыносима мысль, что какой-нибудь напыщенный армянский мазила встречает постаревшую Веру на тех же весенних московских бульварах, которыми мы гуляли двадцать с лишним лет назад.
Новости все-таки иногда вырываются из кумачовой тени, и я знаю: несколько лет назад Вера по-прежнему жила в Москве. Она на три года моложе меня – ей сейчас тридцать пять. Хочется верить, если она начала седеть, седина еще не видна в светлых волосах; а в моей памяти пусть останется только хрупкая фигурка, пронизанная солнцем, белокурый локон, бьющийся на весеннем ветру, детский, счастливый смех…
– Дайте прикурить, – хриплым голосом сказала моя пассажирка.
Молодая брюнетка, одетая со вкусом, который вырабатывается благодаря тому, что счета из магазинов оплачивает богатый муж. Она была, как сказал бы давешний армянин, приличная женщина, но увидев ее, я сразу понял: она из тех приличных женщин, кто ближе к полуночи садится в такси с мужчиной и велит везти «медленно и куда хочешь».
На светофоре я повернулся к девушке и поднес ей огоньку. Она прикурила, внимательно глядя мне прямо в лицо. Большие серые глаза могли бы показаться красивыми, если бы не были затуманены многолетними желаниями и капризами, растлевающими женщин, которые привыкли сводить мужчин с ума.
– Вы парижанин? – спросила она.
Акцент выдавал иностранку, а по моему говору даже местные не всегда распознавали во мне чужака. Я ответил, снова отвернувшись:
– Я из России.
– О, – восхищенно сказала девушка. Я ничего не ответил, продолжая следить, как справа проносятся огни кафе, а слева слепят глаза фары встречных автомобилей. Тогда она добавила: – Достоевский – один из моих любимых писателей. Вы ведь его читали?
Я кивнул и хмыкнул неопределенно, но девушку это не остановило.
– У моей подруги была эпилепсия, как у Достоевского. Именно она научила меня любить его книги. – Помолчала, ожидая ответа, а потом сказала: – Вы согласны с Андре Жидом, что героями Достоевского движет по сути либо гордыня, либо полное самоуничижение?
Я по-прежнему не отвечал, но ей, похоже, не требовался собеседник. Выпустив дым, она продолжала:
– Мне кажется, это очень по-русски: гордыня и самоуничижение. Я вот думаю, что в этом безумном, несчастном городе, вы, русские, самые мизерабельные. Ведь у вас все было, и вы всего лишились. Мне подруга рассказывала, как вы кутили тут до Великой войны…
До войны я был мальчишкой, хотел сказать я. Да и подруга твоя, скорее всего, слышала о русских кутежах от своей мадам.
Разумеется, я промолчал.
– А ты не разговорчив, – сказала девушка. – Это хорошо, в этом есть сдержанная страсть. Может быть, даже ярость.
Может, просто достоинство? В конце концов, я шофер и получаю деньги за то, чтобы довезти пассажиров до места, а не за то, чтобы развлекать их разговорами.
– Скажи, тебе ведь правда иногда хочется, чтобы все это исчезло? – сказала она, и я скорее угадал, чем увидел жест, обнимающий весь мир за окном. – Чтобы все сгинуло, провалилось в тартарары, как твой родной Петербург?
Она вцепилась мне в плечо, я скинул ее руку. Ладонь была холодная, и на мгновение мне передалась дрожь тонких пальцев.
– Мадам, – сказал я, – мы уже приехали.
Она протянула деньги и рассмеялась, хрипло и невесело:
– Иногда все заканчивается слишком рано, не так ли?
(Анита)
У «Фреда Пейна» к нам подсел щуплый светловолосый франт с повадками интеллектуального сутенера, из тех, кто кормится, выводя на панель чужие мысли.
– Старый роман умер, – говорит он. – Бальзак, Золя… даже Флобер… все они верят в существование отдельного героя, в психологическую достоверность личности, в самостоятельность и независимость каждого персонажа.
– А Достоевский?
– Достоевский лучше всех понял ортогональность русской души, – отвечает фат, – но умер вместе со своим Богом.
– Идиот и Настасья самостоятельней и независимей каждого в этом кабаке! – кричит Даньель. – А что до Бога – Достоевский возвестил о Его смерти задолго до Ницше!
Я смеюсь, нагибаясь над стойкой, дрожащей бледной рукой тянусь к стакану – и в глазах Даньеля вижу отражение своего вызывающе-непристойного декольте.
– Марсель Дюшан пишет такую книгу, – говорю я фату. – Когда я была у него, он показал мне сундук и сказал, что вот такие сундуки придут на смену книгам. Сундук был заполнен страничками из записной книжки, обрывками, отрывками, обрезками, мятыми клочками бумаги с незаконченными рисунками… Он сказал: «Не то сейчас время, чтобы создавать завершенные вещи. Сейчас время фрагментов, осколков».
Наш мир распадается на осколки. Сны и явь, пьяный бред и лихорадочный экстаз, провалы и забвения, тоска, не позволяющая телу ни на секунду расслабиться, – все это приносит изумительную легкость. В разорванном, разломанном мире исполнимы любые прихоти – в кабаке, на улице, где заблагорассудится.
– Так и есть, – кивает блондин. – Я работаю сейчас над романом, который как раз состоит из таких фрагментов. Тридцать две истории, начиная с 1785 года по 1913 год, кусочек на каждые четыре года. Вся история Европы в таких вот осколках – начиная с «дела об ожерелье», этого предвестника Великой Революции, и до кануна Великой войны. И все истории – без конца и начала, как если бы Золя вместо каждого своего романа написал всего несколько страниц, понимаете?
Я слушаю жеманного светловолосого красавчика и вижу гигантскую паутину идеологий, сводящих меня с ума. Я – женщина, и мне холодно в разреженном воздухе абсолютных идей.
– Если мы что и поняли после этой войны, – говорит блондин, – так это то, что не существует не только Бога, но и человека.
Слушая его, я думаю о религии, о Боге и католицизме. Когда мне было девять лет, святая Тереза не дала мне умереть от аппендицита. Я думаю о Боге, о бородатом старичке с моих детских картинок, о надписях по-испански и на латыни. Теперь нет ни католицизма, ни мессы, ни исповеди, ни священников. Но Бог, куда делся Бог? Где пыл и страсть моего детства?
Возможно, я лишилась Его, когда родители расстались и мы с матерью переехали в Бостон, холодный, северный город на берегу чужого океана. Вместе с ирландскими девочками я ходила в католическую школу, но Бога там не было.
Мадлен говорила, что Бог оставил ее в тот момент, когда первый оргазм открыл ей сокровенную суть ее бытия. В затопленной соседской квартире она нашла непристойные фотографии, а потом незнакомый мужчина напугал ее, и она, раскрасневшаяся от смущения, бросилась наверх. Воды потопа плескались внизу, заливали знакомые улицы и площади, она бежала по лестнице все быстрее – тут она и кончила первый раз в жизни. Я верю: ее оргазм был широк и безбрежен, как Сена, разлившаяся за окнами дома на Елисейских Полях. На дрожащих ногах маленькая Мадлен влетела в квартиру и бросилась к себе в комнату. Кровь стучала у нее в висках, она с трудом различала голос матери, бранившей мужчину, пришедшего за Мадлен следом. Ей было страшно, и она привычно перевела взгляд на распятие, висевшее на стене…
– Ты можешь не верить мне, Анита, – сказала Мадлен, – но я не увидела там ничего, кроме прибитого гвоздями полуголого человека. Бог исчез, исчез навсегда, изгнанный из мира моим оргазмом.
Я ничего не ответила, но подумала, что мой Бог остался на Кубе – чернокожий седой старик, бредущий вдоль кромки моря, слизывающего следы Его босых ног.
Бог говорит по-испански. Я вспомнила это три года назад, в Барселоне. Даньель сбежал туда от жены, а я приехала к нему, сжигаемая желанием помочь, окружить тем, что казалось мне искренней дружеской заботой. В поезде моей соседкой оказалась молодая анархистка Мари – она говорила о неизбежной революции, в которой собиралась принять участие. Рядом с ней я на мгновение показалась себе ограниченной и пошлой мещанкой.
Он встретил меня на вокзале, который почему-то напомнил мне «Галерею машин», виденную только на картинках. Такси не было – я подумала, что бастуют таксисты, но Даньель объяснил, что утром началась всеобщая забастовка и все ждут коммунистического восстания.
– Люди не решались на свои индивидуальные внутренние революции, поэтому теперь они осуществляют их коллективно, – сказала я, улыбаясь.
Барселона напоминала декорацию к шоу Буффало Билла: террасы кафе убраны, железные занавесы магазинов наполовину опущены. Послышался выстрел, потом переливистый музыкальный звон – какой-то забастовщик стрельнул по стеклам трамвая.
Вскоре ненависть, копившаяся в людях, вырвалась наружу. Меня разбудил сигнал горна, следом – ружейные залпы. Знакомо звякнуло разбитое пулей окно. Я сидела на кровати в одной пижаме, меня колотило от возбуждения и страха. Я подумала, что Даньель наверняка пойдет на улицу, где его убьют. Не одеваясь, я бросилась к нему в номер – и выстрелы на Калья-Фернандо стали аккомпанементом к нашей первой ночи любви.
Утром нас разбудила горничная – услышав испанскую речь, я разрыдалась. Мне показалось, я снова вернулась на Кубу, снова нашла маленькую девочку, любившую ласковый влажный язык океана и обжигающий желтый песок пляжа.
За окном неумолчно громыхали выстрелы – республиканские войска расстреливали каталонских мятежников. Люди умирали так близко, что моя исступленная душа, временно покидавшая тело в момент сладостных судорог, могла встретить их испуганные души, навсегда расставшиеся с изувеченной плотью.
На мгновение я вспомнила Мари – но теперь с легким превосходством. То, что происходило со мной в эти минуты, было важнее, могущественнее и значительнее любой революции.
Там, в Барселоне, я нашла свою страсть – но не вернула Бога.
– Все попытки воскресить Бога сегодня смешны, – говорит мой собеседник, и я вижу, как кривится лицо Даньеля. – Вот Честертон с его католицизмом… будь у меня время, я бы написал рассказ о том, как патер Браун расследует чью-то смерть, а оказывается, что это – смерть Бога.
– И кто же Его убил? – спрашиваю я.
– Не знаю, – отвечает блондин. – Патер Браун умрет, так этого и не поняв.
Я тянусь к стакану с вином. Даньель отворачивается. Смех клокочет во мне: мой Даньель обижается, что я все еще говорю с белокурым придурком.
Мадлен говорила: обиженный мужчина опасен, как раненый хищник в джунглях. По мне, обиженная женщина еще опасней: я вспоминаю молчаливое презрение таксиста и залпом выпиваю дешевое безвкусное вино.
(Петр)
Черноволосая девушка, вошедшая в дешевый кабак, ничего не понимала в людях. Тот, кто один раз пережил крушение, вряд ли мечтает повторить: я никогда не хотел, чтобы Париж провалился в тартарары.
Впрочем, каковы бы ни были мои желания, трудно не заметить, что Европа скользит к катастрофе. На прошлой неделе я проводил Бориса в Испанию. Он добровольцем вступил в «Рекете». То, что Борис, подполковник Нелидов, отправляется воевать рядовым, показалось мне какой-то злой нелепостью.
– Ничего, – сказал он, – второй раз карьеру делать проще: как-никак, опыта у меня побольше, чем у этих наваррцев.
Три года назад мы вместе жили в одной из сорока клетушек «Отеля де Труа Муано», где постояльцы серным дымом перегоняли друг к другу вездесущих клопов. Я платил сорок франков в неделю, а статьи в русской газете с трудом приносили тридцать пять. Когда я сдал в ломбард пальто, Борис сказал, что есть шанс неплохо заработать. Он разузнал, что в Париже действует подпольный большевистский эмиссар, некто Феликс Радзинский. Он обхаживает эмигрантов, сманивая их к большевикам, но, главное, щедро платит за статьи в «Правду».
– Нельзя упустить такой шанс, – сказал Борис, – там светят сотни франков.
Трудно было пренебречь таким соблазнительным шансом. Преуспевавший друг Бориса – официант в одном из ресторанов на Елисейских Полях – повел нас на левый берег, в конспиративную квартиру, спрятавшуюся в подъезде с вывеской «Прачечная».
Оглядевшись, мы вошли, и грузная француженка рукой, по локоть покрытой белоснежной пеной, махнула через двор, на скрипучую ветхую лестницу. Поднявшись на второй этаж, мы столкнулись с молодым человеком, густо заросшим бородой. Он спросил у нас пароль и выбранил, что мы пришли налегке. Борис удивился, и Феликс объяснил:
– Все, кто приходят к нам, идут с бельем, будто бы в прачечную. В следующий раз имейте при себе большой узел. Недопустимо наводить на след полицию.
Потом мы прошли в комнатушку с замазанными мелом окнами и портретом Ленина на стене. Усевшись за стол и раскурив трубку, Феликс сказал, что работа, за которую большевики готовы платить сто пятьдесят франков в неделю, заключается в переводе новостей из парижских газет – конечно, пересказанных соответствующим образом.
– Вы понимаете, жители молодой республики должны знать, как живет старая Европа, – сказал он, усмехаясь.
Впрочем, за вступление в тайное общество надо было заплатить взнос – двадцать франков. У нас было только тринадцать, и Борис, в приступе обычной для него прижимистости, дал пять, пообещав донести остальные, когда придем в следующий раз – «уж точно с узлом белья», добавил он.
На оставшиеся деньги мы купили вина и хлеба, этим своеобразным причастием отпраздновав наше вступление в подпольную коммунистическую организацию.
Я быстро уснул, но посреди ночи Борис разбудил меня.
– Знаешь, – сказал он, – я к ним больше не пойду.
– Сто пятьдесят франков, – сказал я, зевая.
– Все равно, – Борис покачал головой, – не могу.
Он посмотрел на меня – видимо, вид мой был жалок, потому что Борис сразу добавил:
– Но, если хочешь, ты иди. Это нормально, почему нет?
Я пожал плечами и снова опрокинулся на тахту.
– А как же пять франков? – спросил я.
– Ну и черт с ними! – сказал Борис, повеселев.
Засыпая, я думал, что сто пятьдесят франков – в самом деле хорошие деньги, а перевод статей – ну, что же, это всего-навсего перевод статей.
Я так и не пошел в прачечную, а через неделю нашел работу официанта. Через полгода сдал экзамен на знание парижских улиц и управление автомобилем, получил необходимые бумаги и стал таксистом.
Где-то за Сеной небо озарилось вспышкой, потом над головой загрохотало. Приближалась гроза, и канонада грома снова напомнила мне об Испании. Интересно, подумал я, может ли так случиться, что Борис встретит молодого Туркевича?
И кому из них я хотел бы пожелать удачи?
(Анита)
Светловолосый хлыщ вещает о наркотиках. Я смеюсь хрипло:
– О, нет! Мне наркотики не нужны – я все это ношу в себе! Я слышала много рассказов, но я бываю в таком состоянии без гашиша или опиума.
– Главное – знать надежных людей, – говорит блондин. – Париж полон мошенников. Тут в прошлом месяце заходил ко мне какой-то тип, спрашивал, нужен ли мне М или О. Я, разумеется, сказал, что не понимаю, о чем он, и быстро спровадил. Но на следующий день он снова заявился, говорит: «Вот, мы договаривались, я вам принес опиума и морфия. И, знаете, теперь я могу вас сдать полиции!»
Блондин смеется довольным смехом человека, никогда не имевшего дело с полицией. Я сдержанно улыбаюсь в ответ и снова опустошаю стакан.
– А я ему на это: «Это вряд ли, приятель. Потому что я сейчас позвоню – и я называю имя моего знакомого, очень известного человека, с большими связями в правительстве, – и тогда уже с полицией будете иметь дело вы!» Ну, он взмолился, чтобы я не губил его, поклялся, что больше я его никогда не увижу, и тут же смылся. Каков подлец, а?
– А вы знаете, – говорю я, – в прошлом году был случай. Один молодой человек решил покончить с собой, но ему было страшно одному. И вместо того чтобы найти себе такую же подружку, он отловил в кафе какого-то шапочного знакомого и предложил вместе принять кокаина или морфия. Пришли к этому знакомому домой – и к утру оба были уже мертвые. А знакомый этот и понятия не имел, представляете?
Смерть от морфия – трусливая смерть. Настоящая смерть должна быть как солнце, черное солнце небытия: смотреть на него невозможно, но именно эта невозможность делает ее столь гипнотически притягательной.
Мне хотелось бы умереть смеясь, в полном осознании своей смерти – и я стараюсь жить, как научила меня Мадлен: в состоянии экстаза, упоения полнотой жизни. Малые дозы, скромные любовные истории, полутени не трогают меня больше. Я люблю чрезмерность: книги, рвущие изнутри свои обложки, сексуальность, от которой лопаются термометры, и стихи, способные разбить окно, как брошенный булыжник.
Барселона взорвалась во мне чудовищным тропическим цветком. Вернувшись в Париж, я словно сошла с ума. Во мне клокотала обретенная страсть.
Однажды ночью, в маленьком клубе, где танцевали чарльстон и линди-хоп, я отдалась чернокожему музыканту – прямо в гардеробе, за мокрыми пальто, воротники которых пахли дохлыми крысами. Негр целовал меня огромными, будто распухшими губами, а я думала, что в Бостоне было невозможно помыслить о подобном: он бы не осмелился.






