Калейдоскоп. Расходные материалы Кузнецов Сергей
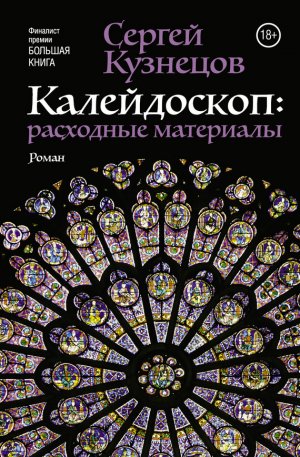
– Нет, что ты, – ответил Генри. – Только с мужчинами, которые ей нравятся.
– А я ей нравлюсь?
– Конечно. Разве ты не видишь?
Альберт пожал плечами:
– Я был уверен, что она… как это сказать? – доступная девушка. Но мы вместе уже две недели, и мне ни разу не удалось…
Боже мой, подумал Генри, все-таки Филис – та еще штучка. Нельзя так изводить мужика, да еще и все время тянуть из него деньги.
– То есть ты уже почти месяц в Шанхае и еще ни разу не пробовал здешней манды?
Альберт покраснел.
– Да, я ни разу не трахался, – отважно сказал он. Глагол дался ему с большим трудом.
– Похоже, – сказал Генри, – если я не возьму дело в свои руки, ты так и уедешь отсюда, не расстегнув ширинки. Но не горюй, парень, сегодня твой день, точнее – твоя ночь. Я отведу тебя в «Дель Монте».
– Это бордель?
– О нет, это кафе, которое держат белые русские. Оно лучше любого борделя, поверь мне.
– А не поздно? – спросил Альберт.
– Там все только начинается.
– Тогда мне нужно еще выпить.
Надо было уговорить его взять рикшу, думал Генри, вышагивая рядом с Альбертом к западной окраине французского квартала. Что значит «мне надо прогуляться»? Если есть деньги – нужно ехать, а не идти ногами. Все-таки верно говорят – богатые совсем другие люди.
– Ты понимаешь по-китайски, Генри? – спросил Альберт.
– Немного. Выучился в первые два года, завел себе «спящий словарь». Если хочешь здесь задержаться – тоже советую.
– Что это?
– Любовница-китаянка. Только должна быть настоящая китаянка, без всяких этих модных европейских штучек, как твоя красавица в казино.
– В Оксфорде рассказывали, что китайские гейши владеют секретным искусством любви.
– Гейши – это в Японии, – назидательно сказал Генри. – Здесь они называются шуюй, но мы зовем их sing-song girls. Они ходят на банкеты или званые вечера и поют всякую китайскую тягомотину. До того, как китайцам привезли кино и научили их танцевать чарльстон, здесь было довольно плохо с развлечениями – девушки шли нарасхват. Само собой, давали они не каждому, да и вообще – это довольно хлопотное дело, обхаживать такую девицу. А были еще чансань, что-то вроде куртизанок. Там вообще сплошные китайские церемонии. Ни по жопе похлопать, ни пообжиматься. Ходишь в ее цветочный домик неделю за неделей и носишь подарки. Охренеть можно. Неудивительно, что теперь все китайцы как с цепи сорвались – ну, когда здесь стало все как у людей.
– А эти чансань – они еще остались? – спросил Альберт.
– Одно название. Теперь плати деньги – и вперед. Можешь сходить на Фучжоу-роуд и проверить, если будет охота. Но если ты хочешь настоящей дорогой азиатской манды, надо брать японок. Японки – почти что белые. Я знал даже пару англичан, которые женились на японках. Тут все по ранжиру: японки, потом кореянки и малазийки, а потом уже – китаянки.
А если уж иметь дело с китаянками, подумал Генри, надо выбирать дешевых шлюх. Уличные «фазанихи», расфуфыренные, как птицы, и гуляющие туда-сюда по рю Монтиньи, шустрые динпен, «маникюрщицы», прозванные так, потому что секс с ними быстр, как полировка ногтей, на худой конец – труженицы «кровавого переулка», рю Чжу Бао-сан, злачного района в Хункоу, за один юань – кусок соленой свинины, за пять – девушка и комнатка, где едва умещается одноместная кровать.
Генри любил именно таких. Как правило, они были украдены еще в детстве или проданы в бордели собственной семьей. Их отчаяние было абсолютным, им не было спасения – как и ему, как и всем. В своем дешевом разврате они были безупречно честны. Во всяком случае, честнее всех белых женщин, которых он знавал, – может быть, за исключением русских.
– Я не знаю, зачем я с тобой иду, – говорил Альберт. – Я же не люблю шлюх, мне с ними скучно и противно. Но я вообще не знаю, зачем я приехал в Шанхай. Зачем я хожу по этим танц залам, бегам и казино? У меня много денег, ты знаешь? По-настоящему много. Три поколения моей семьи выжимали эти деньги из Индии, Африки и Китая – а я не понимаю, что мне делать с этим богатством.
– Я думаю, тебе надо взять семейный бизнес в свои руки, – сказал Генри. – Продолжить дело отцов.
Пьяный пенящийся хохот распирал его, Генри говорил, едва открывая рот.
– Я не могу, мы все не можем, – ответил Альберт. – Все мы – потерянное поколение, не только я. Даже Джеймс, мой брат, и тот не смог.
Потерянное поколение, вашу мать, подумал Генри, лорды хреновы, вырожденцы европейские. Шлюхи ему не нравятся. Яйца бы лучше себе пришил!
– А что с твоим братом? – спросил он, почти не в силах сдержать смех.
– Он был на Великой войне и видел то, что не следует видеть человеку.
То, что не следует видеть человеку, можно увидеть в любом городе, подумал Генри. Надо только уметь смотреть.
– Нет, не просто кровь и смерть, – продолжал Альберт. – К этому он был готов. Мы же имперская нация, мы привыкли воевать. Но там было что-то… такое, о чем он даже не хотел говорить. Однажды я застал его пьяным, совсем пьяным, не как мы сейчас, по-настоящему пьяным, и он пытался рассказать… что-то про белесый туман, невидимое оружие… я убедил себя, что он бредит… но я-то знаю, все это – правда. Джеймс действительно увидел на фронте что-то нечеловеческое… какой-то древний ужас.
– Белесый туман. Невидимое оружие, – сказал Генри. – Конечно. Немецкие газы. Мерзость, но ничего древнего. Очень современная вещь.
Ему расхотелось смеяться. Война, вспомнил он прочитанную где-то фразу, послужила развитию пластической хирургии.
Бляди.
– Он застрелился через два года после демобилизации, – сказал Альберт. – Мой старший брат. Я всегда считал, что он умнее меня, сильнее, смелее. Круче, как сказали бы вы, американцы. А он выстрелил себе в висок. Весь стол в отцовском кабинете был в его мозгах. Все бумаги, которые он должен был подписать.
Несколько шагов они прошли молча.
– Я не могу об этом забыть, – сказал Альберт.
– Ебать! – вдруг взорвался Генри. – Ебать всё это! Не смей забывать! Какого хрена ты должен забыть своего брата? Помни о нем! Возьми лучшую девку в «Дель Монте», трахни ее, засади ей до самой матки – сделай это в память о своем брате, сделай за себя, за него, за весь этот гребаный мир! Просри свои деньги, просади их впустую, на шлюх, казино и собачьи бега. Посмотри на меня: ни работы, ни сбережений, ни надежд. И я – счастливейший человек в мире. Ты знаешь, раньше я думал, что я писатель и мне надо написать Великий Роман. А теперь у меня ничего не осталось, и я понял – ничего не надо делать. Я и так писатель. Каждый день я пишу книгу своей жизни, пинок под зад Богу, Человеку, Судьбе, Времени, Красоте и Любви. Каждый день моей жизни – новая страница моего романа, новый куплет в песне, которую я выхаркиваю миру в лицо. И ты тоже – живи так, чтобы каждый день был памятником твоему никчемному брату, напоминанием о том, что его убило. Каждая капля твоей крови, каждая капля спермы…
Тут Генри теряет равновесие, Альберт ловит его почти у самой земли.
– Черт, мои очки! – говорит Генри. – Помоги мне найти, я без них ни хрена не вижу.
Альберта и Генри встретили громкими криками радости, да и без того в «Дель Монте» стоял гам неудержимого веселья. Саксофон надрывался, публика галдела по-французски, по-английски, по-русски, по-голландски и еще на паре азиатских языков, которые трудно было разобрать. Генри захотелось сорвать с себя одежду и пуститься в дикий пляс. Они подошли к стойке бара, женщины потянулись к ним, словно мухи. Еще бы! По Альберту сразу видно – богач, так что и Генри в своем старом костюме сойдет сегодня за богатого англичанина, играющего в Гарун-аль-Рашида.
Три девки, вываливая груди из глубокого декольте, взяли их в оборот, требуя «шампанского» – на самом деле, дешевого игристого вина, если вообще не сидра, превращавшегося в шампанское только в счете.
Им было лет семнадцать, от силы – девятнадцать. Похоже, все три русские.
– Русские девки обрушили рынок шанхайской проституции, – проорал Генри в ухо Альберту. – Десять лет назад белые женщины были здесь на вес золота. А эти поначалу брали едва ли не меньше китаянок – пока русских не стали нанимать охранниками, это был единственный способ хоть как-то не сдохнуть с голоду.
За соседним столиком светловолосая девица с трудом освободилась от тесного платья и, тряся грудями, залезла на стул. Пышные подвязки жухлыми цветами алели на рыхлых бедрах.
– Аукцион! – закричала она. – Делайте ваши ставки! Я дам тому, кто предложит лучшую цену!
– Не покупай, – прошептал Генри Альберту, – переплатишь. Возьми любую другую, ты англичанин, может, они с тобой и забесплатно пойдут. У русских нет паспортов, они, чтобы отсюда выбраться, на все готовы.
В глубине зала несколько китаянок танцевали с русскими шлюхами. Статные и высокие русские были за мужчин. Генри знал: так китаянки учатся танцевать европейские танцы. Билетики дешевле любого учителя.
Девушка, просившая шампанского, уселась Альберту на колени.
– Не хочешь выпить – пойдем потанцуем. Всего три билетика за танец, а я хорошо танцую.
– Я не хочу танцевать, – сказал Альберт.
– Не стесняйся, парень, – сказал Генри. – Три билетика не деньги, потанцуй, потискай, может, решишься на что.
Девушка скривила пухлые, почти детские губы:
– Тискаться в бардак идите, я танцевать хочу.
Теперь, когда она не шептала, а говорила громко, Генри услышал, какой у нее звонкий, сильный голос. Ей бы в кабаре петь.
– Как тебя зовут? – спросил Генри.
– Таня, – ответила девушка.
– Традиционное русское имя, – он толкнул Альберта в бок. – Сходи, потанцуй, что ты, в самом деле?
– Только тише, у меня там внизу больная мать, – сказала девушка.
У половины русских шлюх, которых знал Генри, была больная мать, каждая третья из старинного княжеского рода, каждая четвертая рассказывала про свой первый бал в царском дворце.
Впрочем, сегодняшняя была слишком молода для дворцовых танцев. Большевики убили царя, когда ей было лет семь, если не пять, – Генри плохо помнил русскую историю, достаточно и того, что в Шанхае он научился не путаться в русских именах, в этих бесконечных Таньях, Соньях, Машах и Наташах.
Худощавую брюнетку, возившуюся с застежками платья, звали Олга. У нее были маленькие груди и узкие бедра.
– Не гаси свет, – сказал он. – Я люблю смотреть.
– Хорошо, – сказала Олга, – только не шуми, ради Бога.
– Конечно, – сказал Генри и завалил ее на спину. Пружины кровати жалобно скрипнули, Генри почувствовал, как напряглось худенькое тело. Раздвинув девушке ноги, он уставился на ее щель. Он не торопился: за уплаченные деньги хотелось растянуть удовольствие.
– Расскажи что-нибудь о себе, – сказал он.
– У всех русских одна и та же история, – сказала Олга, – тут не о чем рассказывать. Давай, не тяни, ты мне не за разговоры платишь.
Генри ничего не ответил. Как всегда, вид разверстого женского лона зачаровал его. Дикий смех, который рвался из глубин его существа на авеню Фош, снова поднимается к губам – и Олгина расселина начинает смеяться в ответ, хохот рвется сквозь пушистые бакенбарды лобковых волос, морщит складками поверхность бедер. Генри смотрит в этот кратер, в этот потерянный и бесследно исчезнувший мир, слышит звон колоколов Святой Руси, мелодию мазурки, тихий шепот на незнакомом языке, видит сверкающий паркет дворцовых зал, танцующие пары в бальных платьях, золоченые кареты у барочных подъездов, поводящих мордами гнедых коней, легкий пар дыхания, мужика в смешной шапке, милое, простое крестьянское лицо; слышит звон колокольцев, топот копыт, крики ямщика; видит заснеженные равнины, санный след, мчащихся всадников, летящие с неба белые хлопья, а потом – вой волков, женский визг, истошные крики, выстрелы, выстрелы – и над всем этим смех, неудержимый, рвущийся наружу красный дикий смех.
Он вошел в нее со всей страстью изголодавшегося мужчины, вжимая худенькое тело в продавленный матрас, стараясь ни о чем не думать, ничего не представлять, ничего не знать об этой девушке, быть просто мужчиной в головокружительный миг совокупления. Пальцы вцепились Генри в плечи, Олга содрогнулась с такой силой, что плотину прорвало, в ушах зазвенело, все было кончено.
– Я же просила тебя – тише, – сказала она и разрыдалась.
Лето давно кончилось. Над Бундом повисла вуаль дождя, и едва различались высотные отели, утлые лодки на волнах Хуанпу, бегущие рикши, снующие туда-сюда кули. В один из таких промозглых предрождественских дней Генри и Филис ехали в дребезжащей коляске в сторону Садового моста.
– Это совсем не смешно, дорогуша, – говорила Филис, – там были все мои деньги. Я считаю, раз Альберт дал ему мой адрес, он должен мне помочь. Все очень серьезно, поверь мне, правда.
Генри поправил запотевшие очки.
– В такую погоду все выглядит серьезным, – сказал он.
Рикша высадил их у «Астор-хауса», старейшего из новых шанхайских отелей. Альберт уже полгода занимал в нем огромный номер.
– Скотч? – спросил он и, не дожидаясь ответа, протянул Филис стакан.
– Альберт, милый, будь ангелом, выслушай меня, – сказала Филис, залпом выпив виски. – Я расскажу с самого начала, хорошо? Вчера после обеда ко мне в пансион пришел один человек. Сначала я не хотела говорить с ним, но он сказал, что знает тебя и все такое, – и я его впустила. Представился Раковским, Федором Раковским. Мол, он – парижский импресарио, здесь для того, чтобы подготовить гастроли великого русского певца… ну, ты знаешь его имя, милый, он сказал, его знает вся Европа… что-то очень русское, не то на Ч, не то на Щ… я, конечно, впервые слышала, но решила, что удивляться тут нечему. Наоборот, так даже правдоподобней, ведь чтобы наврать, любой жулик выбрал бы знаменитостей, о которых каждый день читаешь в газетах. И вот он услышал, как я пою, и решил, что хочет организовать мои гастроли в Париже.
– Где он слышал, как ты поешь, милая? – спросил Альберт.
– Это бестактный вопрос! – возмутился Генри, с трудом сдерживая смех.
– Наверно, в каком-нибудь кабаре, – пожала плечами Филис.
– Но ты сказала мне, что уже два месяца как потеряла контракт.
– Милый, будь ангелом, дай мне досказать. Он мог услышать, как я пою в баре, просто подпеваю оркестру… и вообще, иногда я пою сама для себя, он мог идти по улице и услышать мой голос… все это неважно, и вообще, обещай, что ты не будешь смеяться, а то я не смогу рассказывать дальше. Обещаешь? Ну вот, вдруг, ты не поверишь, вдруг, без всякого повода с моей стороны, он набросился на меня, и мы начали заниматься любовью. Да, я понимаю, ты не можешь в это поверить, я ведь водила тебя за нос целый месяц, но просто, Альберт, не все мужчины такие терпеливые, как ты. Нет, конечно, я сначала разозлилась, что за манера – смешивать дело с удовольствием, но потом сдалась, он был очень привлекательный, такой, в русском стиле… короче, мы так устали, что заснули, а когда я проснулась, не было ни Раковского, ни пятисот долларов, которые я отложила на черный день. Как он только нашел их, я ведь их спрятала в ящике с моим бельем. Никогда бы не подумала, что такой молодой человек будет шарить по ящикам. Как ты думаешь, Генри, может, он извращенец? Он хотел украсть мои чулки, а потом увидел деньги и не смог удержаться?
– Пятьсот долларов! – воскликнул Альберт. – Боже мой, откуда у тебя такие деньги?
– Милый, это нормальные деньги для Шанхая, – сказала Филис. – Посуди сам, во что обходится здесь жизнь для честной девушки: нормальная квартира стоит 150 долларов, да еще платья, вечеринки, автомобиль…
– У тебя разве есть автомобиль?
– Нет, конечно, у меня нет автомобиля. Откуда? У меня нет ни цента!
Альберт налил еще виски и выпил, разбавив содовой из сифона.
– Больше всего меня удивило, что он назвал твою фамилию, – сказала Филис.
– Филис, дорогая, – сказал Альберт, – не знаю, простишь ли ты меня, но я встретил этого Раковского три дня назад в баре. Он сказал, что он журналист и пишет статью про молодых американских актрис и певиц, который спасаются в Азии от Великой депрессии. Я дал ему твой адрес.
– Альберт, – взвизгнула Филис, – ты бессовестная свинья! Как ты мог так поступить со мной?
– Я думал, он в самом деле журналист, – пожал плечами Альберт, – хотя меня удивил его акцент. Но ничего страшного, я дам тебе пятьсот долларов, только съезжу в банк – и дам.
– Пятьсот долларов! – воскликнула Филис. – А мое честное имя?
– Ну, кто же тебя просил быть такой податливой, – не удержался Генри.
– Генри, дорогуша, помолчи, пожалуйста, это дело между мной и Альбертом. Я считаю, он должен поймать этого человека, поймать и примерно наказать.
– Как я его поймаю? – Альберт снова пожал плечами. – Ты ведь не хочешь идти в полицию?
– Какая полиция, милый? От полиции никакого толку! Надо обратиться к Зеленой банде.
– А при чем тут я?
– Их наверняка знает твоя китайская подружка, с которой ты то и дело встречаешься в казино «Фушен».
– Су Линь? Откуда? Она не знает никаких бандитов.
– Милый, ты такой глупый! Здесь все китайцы знают Зеленую банду. Ду Юэшэн – лучший друг Чан Кайши, помог ему избавиться от красных!
Альберт знал эту историю: дядя рассказывал, как четыре года назад Чан Кайши порвал с Коминтерном и люди Ду за несколько дней разделались с красными в Шанхае. Правда, в дядином пересказе этот эпизод приобрел какой-то невероятный масштаб: послушать его, так за несколько дней Зеленая банда перерезала пять тысяч коммунистов.
– В принципе, Филис права, – сказал Генри. – Гангстеры заправляют в Шанхае всем. Ты слышал, что Хуан Цзиньжун недавно купил развлекательный центр «Грейт Уорлд»?
– Конечно. Но мне говорили, что Цзиньжун – бывший глава полиции французского квартала.
– Вот в этом-то и разница между китайскими гангстерами и американскими, – сказал Генри. – Китайские гангстеры могут одновременно возглавлять банду и работать в полиции. Они даже отдыхают вместе, бандиты и полицейские. Крепят дружбу. Что ты хочешь? Это Азия.
– В любом случае, – сказал Альберт, – я не буду говорить об этом с Су Линь. Она не имеет никакого отношения ко всяким бандам!
– Милый, ты такой наивный! Откуда же тогда у нее столько денег? Ее отец наверняка большая шишка в Зеленой банде. Может быть, даже сам Ду Юэшэн! Помнишь «Дочь дракона»? Там как раз китайская принцесса оказалась дочкой Фу Манчу!
– Ты слишком много смотришь кино, Филис, – сказал Альберт. – Я не буду говорить с Су Линь. Это, в конце концов, просто невежливо. Мы едва знакомы.
– Милый, не ври мне! – сморщила носик Филис. – Вы видитесь каждую неделю!
– Я встречал ее всего несколько раз, – ответил Альберт, – да и вообще, почему я должен перед тобой оправдываться? К тебе в постель залезает первый попавшийся проходимец…
– Ну вот, – губы Филис задрожали, – я так и знала, что ты будешь меня этим попрекать!
– Ладно, хватит, – прервал ее Генри. – Давайте спустимся и потанцуем, как раз время «чайного танца».
«Астор-хаус» был один из первых шанхайских отелей, введших в моду танцы днем. И если по вечерам мужчины, как правило, танцевали с хостесс и такси-дансерз, то на «чайные танцы» приходили со своими подругами.
– Да, – сказал Альберт, – пойдемте вниз.
Нежно-голубые стены зала «Астор-хауса» были расписаны порхающими сильфидами, а круглый задник на сцене, где играл оркестр, изображал расписанный пятью цветами хвост павлина.
– Ты представляешь, дорогуша, – сказала Филис, подбегая к Генри, – Альберт предложил нам поехать вместе с ним! Он собирается в Макао, потом в Гонконг, потом в Ханой – я всегда мечтала там побывать! Мы будем путешествовать втроем, разве не здорово?
– Ты шутишь? – спросил Генри.
– Ничуть, – сказал Альберт. – Потом переплывем океан, отправимся в Южную Америку, пройдем Панамским каналом, доберемся до Египта, посетим Афины и повидаем старушку-Европу.
Кажется, он в самом деле не шутит, подумал Генри. В конце концов, может себе позволить такое путешествие. Разве Альберт не говорил, что у него денег куры не клюют? Одним мановением руки он изменит всю нашу жизнь.
– У вас много вещей? – спросил Альберт. – Успеете собраться до завтра?
– Да, конечно, – потерянно ответил Генри.
– Отлично. Я закажу билеты, и мы завтра вечером отплываем в Макао, – сказал Альберт.
– Милый, ты просто ангел! – сказала Филис. – Пойдем танцевать!
Оркестр заиграл вальс, пары закружились под сенью мраморных колонн, увенчанных кариатидами.
Что станет с нами? – думал Генри. – Мы не сможем остановиться, будем путешествовать втроем, с континента на континент, из одного порта в другой. Альберт женится на Филис, а я буду чем-то вроде мажордома… вроде аны у китайских уличных проституток… что-то вроде личного секретаря у Альберта.
Внезапно Генри увидел себя через десять лет: постаревший, с оплывшим подбородком, во фланелевом костюме и черно-белых туфлях, он разливает виски в гостиной отеля где-нибудь в Северной Африке.
Танцоры кружились. Музыка играла. Сжав губы, Генри глядел, как рука Альберта обнимает Филис. Другие фигуры то и дело скрывали их, пара то появлялась, то исчезала, словно в каком-то кукольном представлении.
Через несколько дней, думал Генри, мы утратим связь со всем миром простых людей, озабоченных хлебом насущным. Мы понесемся по волнам, как пьяный корабль Артюра Рембо, будем «победно проходить среди знамен и грома и проплывать вблизи ужасных глаз мостов».
Голова кружилась. Вероятно, так чувствовали себя в Средние века те, кто рискнул продать душу дьяволу. Он будто вновь заглянул в бездну – и на сей раз бездна сама позвала его, пригласила в свои глубины.
Ну вот, подумал Генри, дело сделано. Теперь я пропал.
Конечно, наши души никому не нужны: дьявол пожалеет за них даже ломаного гроша. Назавтра в полдень портье «Астор-хауса» отдаст Генри и Филис конверт, оставленный Альбертом, который покинул Шанхай утренним рейсом на Макао. Внутри были 600 долларов и записка:
Дорогие Генри и Филис!
Я не могу больше оставаться в этом проклятом городе, уезжаю немедленно. Надеюсь когда-нибудь встретиться с вами. Напишу из Макао, как устроюсь. Мне будет вас не хватать. Удачи.
Ваш Альберт Девис
– Хреновые из нас с тобой вымогатели, дорогуша! – скажет Филис, а Генри рассмеется хриплым лающим смехом.
Амой, 15 января 1932 года
Дорогие Генри и Филис,
При первой возможности шлю вам открытку. На фото – вид на гавань порта Амой, первого нормального города на пути в Макао. После морской качки с удовольствием чувствую под собой твердую почву, так что недельное ожидание парохода до Гонконга кажется не досадной помехой, а подарком судьбы.
Амой – миленький городок, уменьшенная копия нашего Шанхая: крошечный международный сеттльмент, маленькая британская концессия, даже сикхи на перекрестках кажутся ниже ростом. О местных джазовых клубах и говорить не хочется, по вечерам остается напиваться в баре с британскими чиновниками и торговцами, в равной степени страдающими от малярии.
Все это так старомодно, что даже трогательно. Вероятно, пару десятилетий назад та же жизнь была в Шанхае, да и во всех колониях. Мой дядя, наверное, до сих пор грезит о старых днях, когда британский офицер чувствовал себя как дома в любом порту Индии или Китая: те же исполнительные слуги, тот же скотч в стаканах, тот же вкус хинина. И главное – неизменное чувство превосходства. Вы не поверите, но здешние британцы до сих пор ощущают себя посланцами великой Империи, в таком киплинговском стиле. Америка для них – отрезанный ломоть, глухая провинция. Да, они слышали про Сан-Франциско – это городок, куда удирают из Амоя прощелыги-китайцы. Джаз, кино, современные танцы – все это для них новомодные глупости, недостойные настоящих мужчин.
Вчера вечером, когда жара чуть спала, я забрел на местное кладбище. Надписи на старых надгробьях показались мне исполненными печали и какой-то романтики. Люди, которые легли в эту землю десятилетия назад, жили в совсем ином мире. Уплывая из дома, они не чаяли вернуться: Империя призвала их, и они откликнулись на призыв. Старые надгробья теряются в буйной растительности, но все еще можно разобрать воинские звания, и кажется, будто «майор» или «бригадир» – это все, что они хотели рассказать о себе Богу.
Мои предки были такими же. Здесь, в старом городе, которого не коснулись суета и разврат современного мира, я вдруг испытал чувство родства – куда большее, чем на семейных обедах в Лондоне или в Оксфорде. Хотя, может быть, всему виной виски: сейчас я смутно вспоминаю, что я пытался петь «Правь, Британия!». Боюсь, местные британцы решили, что я над ними издеваюсь, но я был вполне искренен, хотя и пьян.
Милая Филис, жаль, что тебя нет со мной. Здешние англичанки страшны, как… не подберу сравнения… страшны, как англичанки, а китаянки с трудом могут связать пару слов на пиджин-инглиш. Впрочем, о чем это я? Даже будь здесь сама Марлен Дитрих, я бы все равно скучал по тебе.
Дорогой Генри, знал бы ты, как мне не хватает наших задушевных разговоров. Выпей за мое здоровье в «Дель Монте», а если будет время – черкни пару строк: в Гонконге я остановлюсь в «Глостере». Впрочем, почта такая медленная, что пиши сразу в Макао, в отель «Боа Виста» – думаю, я доберусь туда числа 27 или 28.
Остаюсь искренне ваш,
Альберт Девис
10
1928 год
Жатва гнева
Я закурил и посмотрел в окно. Поезд ехал по уродливой впадине меж двух уродливых гор, десятилетиями впитывавших в себя угольную пыль. Над всем этим расстилалось перепачканное небо, словно выползшее из заводских труб.
Мы приближались к Гоневиллу.
Много лет назад в болотистом окопе европейской войны Сэмми Треф назвал свой родной город «Говновиллом», и я подумал, что это шутка: Сэмми и доберманов называл доброманами.
Потом-то я разобрался, что к чему.
– Первый раз в этих краях? – спросил я свою соседку.
Глаза у нее были голубые, рот алый, зубы белые, локоны, видневшиеся из-под шляпки, – светло-каштановые; и был у нее носик. Словом, если не вдаваться в детали, она была миленькая. Независимо от того, начинали ли вы ее рассматривать с лица или с фигуры, результаты осмотра оказывались удовлетворительными. Даже старомодная синяя шляпка нисколько ей не вредила. Ответом мне была белозубая голубоглазая улыбка… тоже, скажем так, милая.
– Да, впервые, – ответила девушка. – Я еду к Филис. Это моя сестра, она в Гоневилле уже два года. У нее там дружок, Витторио Компито. Мама за нее очень волнуется, и, мне кажется, я должна за ней присмотреть.
Голос у нее – я знаю другие слова, но уж будем держаться этого – звучал мило. В нем был мускус, в нем был тембр. Даже среднезападный говор его не портил.
Ее звали Салли, и она ничего не знала о Говновилле. Чтобы скоротать дорогу, я рассказал ей краткую историю этого поганого места – не слишком отличающуюся от десятка других подобных историй.
Городком сорок лет подряд правила Горнодобывающая корпорация Гоневилла, точнее – старый Абрахам Джей Лертон, ее президент и главный акционер, владелец Первого национального банка и половины почти всех здешних предприятий. Говорили, что еще ему принадлежал один сенатор Соединенных Штатов, парочка членов Палаты представителей, губернатор, мэр и большинство законодателей штата.
Абрахам Джей – это и был, в сущности, Гоневилл, а может быть даже – и сам штат.
Во всяком случае, так было до войны, когда «Индустриальные рабочие мира» воспользовались моментом и выдвинули кое-какие требования. Старик пошел на уступки, но в двадцать первом отыграл назад. Ответом была восьмимесячная стачка, в которой обе стороны потеряли много крови – в фигуральном, а уоббли – и в буквальном смысле. Как известно, следом за свободой всегда приходят наемные бандиты – когда был проломлен последний череп и хрустнуло последнее ребро, в рабочей организации Гоневилла осталось столько же пороха, сколько в отгоревшей хлопушке.
Но Абрахам Джей тоже слегка просчитался. Нанятые головорезы выиграли для старика бой, а город оставили себе в уплату за труды: забрать его назад у Абрахама уже не хватило силенок. Да к тому же бандюгам было что о старике порассказать.
– И вот теперь, – закончил я, – город делят три банды. О’Лири заведует бухлом, итальянцы держат подпольные казино, а Лу Старетт дает деньги в рост и скупает в ломбардах весь левый товар, какой найдется в городе.
Витторио Компито был главой итальянского клана, но об этом я Салли говорить не стал.
– А полиция? – спросила она. – Куда смотрит полиция?
– Полиция? – Я усмехнулся. – Шеф полиции Билл Тизл – ближайший кореш Старетта. Его, если угодно, левая рука – если правой считать головореза по прозвищу Ник-Турок. Или наоборот.
Голубые глаза девушки блеснули задорным гневом.
– Неужели никто не может… – она задохнулась от возмущения, – не может очистить город от этой мрази?
Чуть повернув голову, я заметил как двое парней в видавших виды холщовых куртках направились в тамбур.
– Очистить город можно, – ответил я, – но стоит ли игра свеч? Вдруг станет только хуже?
– Люди будут сами решать свою судьбу! – сказала Салли.
Я посмотрел в ее голубые глаза. Да, она была миленькая.
– Хотите, – сказал я, улыбаясь, – я очищу этот город? Для вас.
Смех у нее тоже был милый.
– Вы шутите! – сказала она.
– Ничуть, – ответил я.
На крутом подъеме поезд чуть притормозил. Две фигуры скатились по насыпи, а потом поднялись, отряхиваясь.
– Видите этих людей, Салли? – сказал я. – Когда встретите вашу сестру, скажите ее дружку, что двое ирландцев, приехавших из самого Бостона, сошли с поезда, не дожидаясь вокзала. Только не говорите, что я вас попросил, хорошо? Скажите как бы между делом.
– Скажу, – пообещала она, – а вы мне объясните потом – зачем?
– Потом вы сами поймете, – ответил я и поднялся.
Поезд прибыл в Гоневилл.
Город изысканностью не отличался. Строителей, может, и тянуло к украшательству, но вскоре кирпичные трубы сталеплавильных заводов, торчавшие на фоне угрюмой горы, прокоптили все вокруг желтым дымом до полного унылого единообразия.
Впрочем, ничего другого я и не ожидал увидеть.
От вокзала я пешком дошел до Юнион-стрит. Первому встреченному полицейскому не мешало бы побриться. У второго на потрепанном мундире не хватало пары пуговиц. Третий, не выпуская сигары изо рта, управлял движением на перекрестке с Бродвеем.
Я сел на трамвай и уже через пятнадцать минут поднимался по скрипящей лестнице на верхний этаж почерневшего кирпичного дома. Сверяясь с бумажкой, я нашел нужную дверь. На лестничной площадке я принюхался: слабый кислый запах показался мне знакомым. Хотя я мог и ошибиться.
Дверь открылась прежде, чем я постучал.
На пороге стоял седой мужчина в свитере грубой вязки и засаленных штанах. Черный пистолет тридцать восьмого калибра удобно лежал в его руке и почти упирался мне в живот. Круглые очки не смягчали мрачного взгляда. Я ответил тем взглядом, который у меня был на данный момент.
Так прошло где-то с полминуты – довольно много, если стоять с пистолетом, направленным вам в живот. Не верите – засеките время. В конце концов я очень медленно достал из кармана красную книжицу ИРМ. Мужчина сунул пистолет в карман и протянул руку.
На следующий день я сидел на втором этаже ресторана «Полное затмение». Вдоль длинной стены тянулась стойка, на стеклянной матовой двери рядом было написано «Туалет». Тихо играло радио.
– Я хочу бифштекс с грибами и овощами, – сказал я официанту, – если только овощи свежие, а не из банок. Потом зеленый салат и кофе.
Я подмигнул, и в стакан с имбирным ситро мне плеснули виски. Хотя этикетку бутылки явно делали резиновым штампом, пойло было неплохим.
Я выпил и стал ждать.
Я знал, как это будет: может, я и не услышу звука, но почувствую толчок. Вот это мне больше всего не нравилось на войне – когда земля начинала трястись. Я сразу вспоминал 1906 год в Сан-Франциско, день, когда я стал бездомным сиротой: мать завалило обломками нашего дома, а отца расстреляли солдаты спешно введенного в город 22-го батальона. Он был неграмотный, мой старик, и не читал прокламацию мэра Шмитца, по которой федеральные войска, полиция и спецпод разделения были уполномочены расстреливать на месте за мародерство и другие преступления. А даже если бы читал, не сообразил бы, что в апреле 1906 года мародером может быть признан человек, пытающийся вынести из-под обломков собственного дома подушку и одеяло.
Старик был затюканный жизнью плотник, и мои уличные замашки никогда ему не нравились.
Мир его праху.
Говорят, некоторые полицейские неплохо поживились тогда. Может, с тех пор я и недолюбливаю копов.
Сегодня тряхануло ровно в три. Когда дело касалось взрывчатых механизмов, Леон Бернштейн был точен как часы.
Дверь туалета только слабо звякнула. Ни одна бутылка не разбилась.
Посетители «Затмения» высыпали на улицу. Бежали взволнованные люди без шляп. Машина, набитая полицейскими, обогнала меня на предельной скорости, какая была ей доступна. Проехала «скорая», звеня колоколом, забирая по тротуару там, где движение было гуще. Керни-стрит я пересек рысью. Темный проулок, уходивший в сторону Бродвея, был – пекло в праздник.






