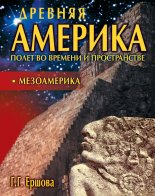Местечковый романс Канович Григорий

Хенка кивнула.
— Понимаю. Потому и сбежала. Теперь ищу другую работу. Ищу, ищу, но не могу найти.
— В няньки пойдёшь? — вдруг, без всяких предисловий, выпалила Роха, ошеломив Хенку. — Работа чистая, не тяжёлая, будешь весь день цацкаться с мальчиком из благородной семьи, сидеть с ним где-нибудь под деревом в тенёчке, птичек слушать или прогуливаться по парку. Мальчик хорошенький, не капризный, и мама у него красивая, грамотная, по-французски говорит так, как мы с тобой на идише, но не очень хочет с карапузом возиться.
— А чей мальчик? — воспряла духом Хенка. Она не ожидала, что Роха-самурай, эта злюка, эта воительница со всеми заранее неугодными ей невестками, проявит о ней такую заботу. Хенка корила себя за то, что не сдержалась и посмела спросить, чей это мальчик. Надо было дождаться, пока Роха сама назовёт имя его родителей.
— Это богатые люди, очень богатые. — Она отдышалась, глубоко вздохнула и продолжала: — Когда-то, в далёкую пору — в это я сама уже почти не верю — я, старая ведьма, выглядела не так, как сейчас, а была, как говорили, зазывная молодица, довольно хороша собой, мужчины на меня заглядывались, и слюнки у них текли… Это теперь я морщинистая старуха с потухшими, как угли в печи, глазами. Только, пожалуйста, не возражай! У меня нет времени слушать твои неискренние утешения. Так вот тогда — порой мне кажется, что всё это происходило не при сапожнике Довиде, а при царе Давиде — за мной ухаживал молодой реб Исайя, родной брат Ешуа Кремницера, деда этого мальчика. Через десять лет после нашего знакомства он неслыханно разбогател на торговле лесом, сплавлял его по Неману и по морю из Литвы в Россию и внезапно умер от какой-то загадочной, нездешней болезни. Теперь лесом торгует его оборотистый племянник Арон, отец ребёнка. Запутала я тебя своими россказнями… Ты хоть что-то поняла из моих слов?
— Так этот мальчик — внук реб Ешуа, владельца москательно-скобяной лавки, что недалеко от синагоги и полицейского участка?
— Да, он самый. От своей покойной жены Голды он, конечно, не раз слышал про наши шуры-муры с его братцем. Так что я вполне могла стать не сапожничихой Рохой Канович, а богачкой Рохой Кремницер. Попробую замолвить за тебя словечко.
— Спасибо.
— Не надо меня благодарить. Я это делаю не столько ради тебя, сколько ради Шлеймке, своего сына, который собирается на тебе жениться. А ты сама, Хенка, как думаешь — женится или не женится? Да или нет? Отвечай прямо, без увёрток.
— Думаю, что женится, — не отводя от Рохи чёрных, сверкающих отвагой глаз, прямодушно ответила та и, вдруг спохватившись, твёрдо добавила: — Если женится, то вы уж не пожалеете…
— Дай-то Бог, — уклончиво сказала Роха. — Мне твои честность и прямодушие нравятся. Ненавижу криводушных.
Из соседней комнаты доносились размеренные удары сапожничьего молотка о колодку, и их монотонный стук успокаивал Хенку.
— Если я устроюсь к реб Кремницеру, на первую же получку куплю два билета — вам, Роха, и себе. И мы вместе на автобусе поедем в Алитус к вашему сыну. Я уже там все дорожки знаю. Вы обязательно поедете со мной.
— Я? — растерялась Роха. — Я всю свою жизнь никуда не ездила. Никуда. Как родилась в Йонаве, так здесь и умру. Вот если бы женщин в молодости призывали в армию, я могла бы увидеть другие города — Алитус… Укмерге… Зарасай. Даже, может, Каунас. Во всех городах, наверное, есть солдатские казармы. Но Вседержителю было угодно, чтобы я отпущенные мне годы провела в другой казарме — на Рыбацкой улице, в этом доме с дырявой крышей, голодными мышами и кучей детей, которых нужно было поставить на ноги.
— Шлеймке очень обрадуется, когда увидит вас.
— А если его не отпустят и мы с тобой зря туда потащимся? — усомнилась Роха.
— Говорят, что перед матерями всюду должны открываться все двери и ворота.
— Может, только врата рая. Главное, чтобы Шлеймке был здоров. Литовцы нашего брата не шибко любят.
— Но они не звери. К тому же к Шлеймке хорошо относится сам начальник над всеми тамошними солдатами и лошадьми, — сказала Хенка и засмеялась.
— Посмотрим. Сначала тебе надо жалованье получить, — резонно заметила бабушка Роха. — Топать обратно от Алитуса до Йонавы пешим ходом — это уже, деточка, не для меня. А Кремницеру-деду я скажу, что к нему в лавку на днях зайдёт одна такая барышня по имени Хенка.
— Да я прямо завтра и схожу к нему! Вдруг повезёт… — Хенка поклонилась и под победный стук молотка Довида, как под торжественную музыку, вышла.
Реб Ешуа Кремницер, дед того мальчика, для которого подыскивали няньку, — большеголовый, крупного телосложения набожный старик в больших роговых очках и бархатной ермолке — стоял за прилавком, как изваяние из какого-то благородного камня, и раскачивался из стороны в сторону — то ли для того, чтобы в такую рань не уснуть, то ли для того, чтобы Господь Бог развеял томившую его скуку и послал побольше покупателей, чем вчера.
Увидев первую посетительницу, Кремницер обрадовался её раннему приходу, истолковав его как желанный отклик небес на его молитвы.
— Чем, барышня, могу служить?
Хенка смешалась и не сразу нашлась, что ответить.
— Разве Роха, жена сапожника Довида, с вами обо мне не говорила? — спросила она с огорчением.
— Нет, не говорила. Роху я знаю уйму лет. Она вообще любительница почесать языком. На прошлой неделе пришла и, как всегда, в пух и прах разнесла наш отвратительный, недоделанный Божий мир, при этом не преминув напомнить, как мой брат Исайя вовсю приударял за ней в молодости, купила дверной замок, и поминай как звали…
— Видно, она не успела или просто забыла вам сказать кое-что обо мне, — объяснила обескураженная Хенка. — Тогда извините, пожалуйста. Я лучше приду после того, как Роха с вами поговорит. — Она попятилась к двери.
— Постойте! Куда вы так спешите? Сами скажите, чего Роха от меня хотела? — остановил её скучающий реб Кремницер и вытер шёлковым платком свой большой морщинистый лоб. — Ведь порой разговор с хорошим человеком тоже приносит его собеседнику не меньшую прибыль, чем проданный товар. О чём, позвольте спросить, всё-таки намеревалась со мной поговорить моя старая знакомая — многоуважаемая Роха?
— Обо мне. И о вашем внуке. Простите, не знаю, как его зовут.
— Рафаэль.
— Очень красивое имя, — сказала Хенка.
— Чем же вас заинтересовал мой двухлетний внук? — Реб Кремницер был олицетворением вежливости и внимательности, свойственных каждому удачливому торговцу. От удивления он спустил на мясистую переносицу массивные очки и уставился близорукими глазами на раннюю посетительницу.
— Роха сказала мне, что ваша семья вроде бы ищет для маленького внука няньку…
— Да. Это правда. Я даже повесил на дверях лавки объявление, но пока никто не отозвался. Негоже останавливать на улице каждую молодую женщину и предлагать ей что-то в этом роде, — сказал реб Ешуа и обвёл Хенку с ног до головы внимательным взглядом. — Как я понимаю, вы предлагаете нам свою кандидатуру. Не так ли?
— Мы с Рохой подумали — может, я сгожусь в няньки вашему Рафаэлю… — Хенка поёжилась от собственной смелости и прикусила язык.
— Так-так. У вас есть опыт такой работы? Вы когда-нибудь этим занимались?
— Так вышло, что я вынянчила всех своих младших сестёр. Мама моя всё время тяжело болела, подолгу лежала в постели, а я возилась с малышками, кормила их, мыла, водила гулять, укладывала спать и убаюкивала, рассказывала им сказки, которые сама же и придумывала.
— Что я могу вам сказать? Честь и хвала такой дочери и сестре! А этих сестёр у вас, милая, много?
— Три. И ещё два брата. Я в семье самая старшая. Мама родила шесть дочерей и четырех сыновей, но выжили не все. Кроме меня остались три девочки — Песя, Хася и Фейга и Мотл со Шмуликом.
— Что же, видно, вы прирождённая нянька. Я переговорю с Ароном и Этель, моим сыном и невесткой. Зайдите через день-два, и я сообщу вам, что мои дети решили.
Хенка две ночи не смыкала глаз, всё смотрела с топчана в оконце и торопила рассвет.
5
На третий день она встала раньше всех в доме, причесала чёрные вьющиеся волосы, надела своё лучшее ситцевое платье и бегом припустилась к закрытой на амбарный замок москательно-скобяной лавке. Реб Ешуа Кремницера она узнала ещё издали — он степенно шёл из синагоги, держа под мышкой молитвенные принадлежности, упрятанные в бархатный чехол с вышитой на нём шестиконечной звездой — магендавидом. Казалось, богобоязненный лавочник ещё продолжал молиться и ему доставляло ничем не замутнённую радость беседовать без лишних свидетелей с Господом Богом о чём-то сокровенном.
Чем ближе он подходил, тем сильнее сжималось Хенкино сердце в комок, который, как брошенный ломоть хлеба, клевали налетевшие со всех сторон птицы.
— Вы что, тут на крыльце и ночевали? — шутливо упрекнул её реб Кремницер.
— Доброе утро, — сказала Хенка. То, что реб Ешуа так тепло поздоровался, её обнадёжило.
— Сейчас открою лавку, и мы обо всём потолкуем. Как видите, на старости лет я торгую всякой мелочью — защёлками, задвижками, замками, гвоздями, а эту рухлядь — он ткнул в покрытый ржавчиной собственный дверной замок — никак не соберусь заменить. Забываю. Ничего не поделаешь. От старости пока ещё никому живым не удалось убежать, хотя скоро я от неё, треклятой, всё-таки сбегу. А куда от старости убегают, вы, наверное, знаете. К праотцам. Заходите!
Выслушав не очень ободряющие нравоучения о старости, Хенка вошла следом за ним в лавку.
— Вчера за клеем для своего мужа Довида заходила, так сказать, не состоявшаяся жена моего брата Исайи — сапожничиха Роха. Она за вас головой ручается: мол, вы и честная, и опрятная, и добрая, и на все руки мастерица…
— Спасибо, — выдохнула Хенка, хотя такое начало скорее напугало её, чем обрадовало.
— Как я вам и обещал, я поговорил со своими детьми Ароном и Этель. Они пожелали с вами познакомиться. Вы знаете, где мы живём?
— В самом центре, где памятник. В двухэтажном доме напротив почты.
— Если вы понравитесь им так же, как понравились мне, старику, они заключат с вами на три месяца договор, чтобы убедиться в вашей пригодности, а потом уж, может быть, на следующий, более длительный срок. По пятницам, субботам и во все наши еврейские праздники вы будете свободны. Понятно?
— Да.
— Еда бесплатная, жалованье хорошее. Условия, по-моему, неплохие.
— Отличные! А скажите, вы тоже там… — она вдруг захлебнулась словами, — тоже там будете, когда я приду?
— Где?
— Дома.
— Зачем вам при этих переговорах нужна такая развалина, как я? Я ведь только дед. Моё слово не решающее. У меня лишь совещательный голос.
— Мне почему-то хочется, чтобы и вы там были, — сказала Хенка с какой-то щемящей искренностью. — Пожалуйста…
— Постараюсь.
— А когда лучше всего прийти?
— Если хотите, чтобы и я был при вашем разговоре, приходите в субботу. После утреннего богослужения. Мой брат Исайя, да святится его имя в небесах, говорил, что утром на мир нисходит благодать. Пока вездесущее зло протирает залепленные сном глаза, из предрассветной мглы восходит, подобно солнцу, и добро. Оно, мол, заглядывает, и к нам, в Богом забытую Йонаву.
Как и советовал реб Ешуа, в субботу, когда солнце поднялось над черепичными крышами местечка, Хенка подошла к двухэтажному особняку напротив почты, огороженному железной решетчатой оградой. У закрытой калитки она несколько раз, словно боясь обжечься, осторожно позвонила в колокольчик. Вскоре из дома навстречу ей вышла высокая, статная женщина в домашних туфлях и лёгком цветастом халатике. Над её густыми русыми волосами, видно, колдовал не самозваный брадобрей и не местечковый маг — парикмахер Наум Ковальский, а какой-нибудь волшебник в Каунасе. Волосы были уложены с завидным изяществом, и от них шел запах духов, наверняка дорогих.
— Вы Хенка?
— Да.
— Проходите, пожалуйста. — Хозяйка была заученно приветлива и доброжелательна.
Хенка прошла через палисадник с ухоженными карликовыми деревцами в прихожую, сняла туфли, сунула ноги в тапочки и скользнула в гостиную.
То, что предстало перед её глазами, ослепило девушку. Ни в одном доме в Йонаве она никогда не видела такой роскоши. Пол был устлан дорогими персидскими коврами, на стенах висели написанные маслом картины — длиннобородый благообразный старик в ермолке — прадед Рафаэля реб Дов-Бер, чуть не женившийся в Италии на какой-то богатой флорентийской еврейке испанского происхождения, Масличная гора и Стена Плача в Иерусалиме с приникшими к ней богомольцами, коровы-пеструхи и кукольный пастушок на лугу. Гостиная была обставлена мебелью из красного дерева — стол, шкафы, этажерки.
— Садитесь, милочка. Меня зовут Этель, — хозяйка холёной рукой с кольцами показала на мягкое кресло. — Мой муж скоро закончит бриться и сразу придёт сюда. К нам присоединится и мой свёкор, ваш рекомендатель. А пока я принесу вам что-нибудь из напитков. Что вы пьёте, милочка?
— Воду.
— Воду все пьют. А ещё?
— Иногда морковный сок, а на Пасху сладкое вино, медовуху, — зардевшись, ответила Хенка.
— До Пасхи далеко. Будет вам морковный сок. Хорошо? — Этель улыбнулась и удалилась.
Хенка осталась наедине с длиннобородым старцем Дов-Бером на картине, неистовыми богомольцами, припавшими к священной и спасительной Стене Плача, коровами и беззаботным пастушком на огромном холсте в массивной раме. Она вдруг почувствовала себя одинокой и ничтожной, и ей до спазма в горле захотелось как можно скорее распрощаться с хозяйкой, исчезнуть отсюда, вернуться в свой дом, к сёстрам и братьям, безотказному и неслышному, как тень, отцу и любящей их всех маме…
Тут в гостиной появился элегантный, одетый с иголочки Арон, похожий на манекен из магазина «Летняя и зимняя одежда для всех», а вслед за ним вошли душистая, как цветущая сирень, Этель с морковным соком в бокале на серебряном подносе и её свёкор — почтенный реб Ешуа.
— Вот вам сок! Пейте, не стесняйтесь. Чувствуйте себя как дома.
Хенка скорее из вежливости чуть-чуть отпила из высокого бокала.
— А теперь к делу, — начал Кремницер-младший. — Мы наслышаны о ваших достоинствах и не сомневаемся, что вы справитесь со своими обязанностями и со временем полюбите нашего Рафаэля.
— Я надеюсь, — сказала Хенка.
— Замечательно. Что касается условий, вам о них, кажется, уже сообщили. Будете за свой труд получать восемьдесят пять литов в месяц плюс бесплатная еда. Вас такая сумма устраивает?
— Да.
О таких деньгах она и не мечтала.
— Значит, по главному пункту мы с вами вроде бы договорились. — Арон крепким рукопожатием словно поздравил её с вступлением в должность. — С едой, по-моему, тоже ясно. То, чем будем питаться мы, будете есть и вы за общим столом без всяких ограничений. После полугода службы — двухнедельный оплачиваемый отпуск. Во все еврейские праздники вы свободны. Не исключаются и другие льготы и поощрения. Когда вы можете приступить?
— Хоть сейчас, — пролепетала Хенка. От слов Арона Кремницера у неё слегка закружилась голова. Казалось, всё, что она слышит, ей только снится, через мгновение этот прекрасный сон закончится, и сказанные фразы разлетятся, как напуганные ястребом голуби.
— Сейчас так сейчас. Проснётся Рафаэль, и мы вас познакомим. Он у нас славный малый, но соня. А пока я расскажу вам о его игрушках, которые станут вашими верными помощниками. Я всегда ему что-нибудь привожу. Игрушек у нас в доме накопилось столько, что хватило бы на легион его сверстников. Когда Рафаэль подрастёт, мы вас попросим, чтобы вы их раздали детишкам из нуждающихся семей. Таких семей в Йонаве немало. Вы нам поможете?
— Конечно. Мне ещё самой нравятся игрушки, — сказала Хенка и впервые робко улыбнулась в этом доме, испытывая к нему и зависть, и смешанное с испугом восхищение.
— Кстати, всех медведей, клоунов, гномиков, все машинки, шарманки, свистульки, пастушеские рожки вместе со стадами плюшевых овечек и козочек я привёз ему из Европы. Вы сами скоро увидите весь этот зверинец, этот музыкальный и автосалон Рафаэля, а пока часик-другой погуляете с ним по здешнему парку.
— Хорошо.
— Сейчас мы пойдём к Рафаэлю, Хенка, — сказал Арон, впервые обратившись к ней по имени.
Кстати, громкий титул «парк» местные жители скорее в насмешку, чем всерьёз, присвоили заброшенному, заросшему густым репейником и чертополохом пустырю за кирпичным зданием почты. По обе его стороны росли в два ряда хилые, с обломанными ветками клёны — они, как шутили в местечке, дарили свою тень ещё войску Наполеона, которому хоть и удалось спалить Москву, победой это не обернулось. Кое-где под клёнами стояли сколоченные наспех некрашеные скамейки, но на них чаще, чем жители Йонавы, стайками садились съёжившиеся от собственной малости и бесприютности вечно голодные воробьи.
Не успела Хенка порадоваться нежданному успеху, как её стали одолевать сомнения. Долго ли она прослужит у Кремницеров, не уволят ли её раньше срока? Одно дело — нянчить своих простых и непритязательных, как она сама, сестёр, а другое — избалованного Рафаэля. Его, конечно, с детства учат не идишу, а французскому языку, ведь Арон Кремницер получил образование в Париже. И Этель не овец в деревне пасла и не кухарила в «ресторане» у Ицика Бердичевского. Что им стоило выписать няньку из Парижа или на худой конец из Каунаса? Единственное, что Хенка может предложить им вместо учёности, — это её любовь к мальчику. Безмолвный язык любви понимают все, даже кошки и собаки.
Утешив себя мыслью, что сразу от её услуг всё-таки не откажутся, что до увольнения она сможет получить огромное жалованье хотя бы за три трудовых месяца, Хенка вслед за Кремницером отправилась к Рафаэлю.
Мальчик ей очень понравился. Как и его папа, Рафаэль был элегантно одет — короткие вельветовые штанишки на лямках, голубая, в едва заметную полоску, шелковая рубашечка с галстуком в горошек, на ногах — лёгкие кожаные ботиночки с застёжками. Малыша причесали на прямой пробор, и его чёрные кудрявые волосы блестели так, словно ему только что вымыли голову.
— Знакомься, Рафаэль, — словно к взрослому, обратился к сыну сановный Арон. — Будь джентльменом — протяни тёте ручку.
Мальчик не пошевелился. Он смотрел на Хенку, как на большую говорящую куклу, с которой ему не совладать.
— Ну чего ты боишься? Тётя будет каждый день петь тебе песенки, рассказывать сказки, водить в парк. Вы с ней станете птичек кормить, — уговаривал Арон сына.
Рафаэль спрятался за отцовскую спину, но продолжал поглядывать оттуда на незнакомку с испуганным любопытством.
— Ручаюсь, он скоро к вам привяжется, — успокоила Хенку Этель. — На первых порах мы будем его нянчить все вместе. Не волнуйтесь, пожалуйста, всё наладится. От любви ни дети, ни взрослые не шарахаются.
Всё на самом деле наладилось. Опасения Хенки, что её вскоре уволят, оказались напрасными, и заслуга в этом принадлежала Этель. Диковатая Хенка не только прижилась у Кремницеров, но и подружилась с хозяйкой, которая была не намного старше новоявленной няньки и к тому же не могла похвастаться большим числом знакомых сверстниц в Йонаве. Все они жили либо в Каунасе, либо за границей. Этель, правда, иногда встречалась со своими подругами, когда сопровождала Арона во время его недолгих поездок в Каунас или в Германию, где она и родилась в семье потомственных коммивояжеров. Йонаву Этель считала вынужденной ссылкой. Арон Кремницер, удачливый лесоторговец, давно хотел перевести дело в какой-нибудь портовый город — Марсель или Киль, но его отец реб Ешуа наотрез отказался расстаться со своими замками, гвоздями и защёлками. Могилы родителей, как он всех уверял, добровольно, да ещё ради мамоны, не оставляют.
Рафаэль привык к няньке. Вначале, только завидев её, он, бывало, бросался наутёк, по-детски бесхитростно прятался там, где найти его не составляло никакого труда, а когда Этель и Арон уходили и Хенка оставалась со своим подопечным наедине, капризничал, куксился и даже горько плакал. Но однажды, на исходе второй недели её службы, в их отношениях произошёл неожиданный переворот. Рафаэль притащил из детской куклу — длинноносого ушастого клоуна с обвислыми усами в смешном картузе с нарисованными на козырьке якорями и, спешно вручив свою игрушку ей, громко возгласил:
— Енька! Енька! Пи-пи!..
Мальчик пальцем ткнул в низ живота, в свой краник.
Хенка взяла его за ручку, отвела в туалет и посадила на горшок. Когда через минуту струйка иссякла и малыш снова закричал «Енька!», она поняла, что с этого исторического «пи-пи» начинается их настоящая дружба.
Она возилась с Рафаэлем целыми днями, придумывая всякие игры и развлечения. Чтобы рассмешить его, Хенка принималась изображать то мекающую в огороде козочку, то квакающую в болоте лягушку, то кукарекающего в соседнем дворе петуха, то чирикающего в палисаднике голодного воробушка. Рафаэль слушал и заливался счастливым смехом.
После дневного сна Хенка водила его на прогулку — в запущенный парк, где мальчик отчаянно гонялся за нищенствующими воробьями либо красавицами бабочками, или в осиротевший, давно не плодоносящий яблоневый сад возле местечкового костёла со стреловидным куполом, вонзённым — не в память ли о распятом Христе? — в синее небо. Иногда они забредали на Ковенскую улицу. Там Хенка непременно останавливалась и, не смея войти с мальчиком внутрь, издали показывала ему родной скособочившийся дом, из которого доносился стук неутомимого молотка.
— Тут, Рафаэль, живут мои родители, — говорила она малышу.
Рафаэль таращил глазёнки на небольшие оконца и, вцепившись в руку няньки, тянул её назад — в двухэтажный особняк, к своей маме.
По пути Хенка обычно заглядывала с карапузом к его деду и своему благодетелю реб Ешуа Кремницеру в пустую лавку — царство замков и задвижек. Рафаэль во время этого краткого визита получал без счёта ласк и поцелуев.
Прогуливаясь за ручку с мальчиком по местечку, Хенка в один прекрасный день столкнулась с Рохой-самураем. Та торопилась к резнику с белым гусем, беспечно прикорнувшим перед скорой и беспощадной казнью в большой корзине.
— Писем нет? — спросила Хенка, поздоровавшись.
— Что-то наш кавалерист давно нам не пишет, — пожаловалась Роха, кивнув в ответ. — Может, он тебе пишет?
— Нет. Если бы написал, я бы от вас не скрыла. Тут же прибежала бы и рассказала. Может быть, Шлеймке на манёврах?
Рафаэль приблизился к корзине, собираясь, видно, разбудить гуся, продолжавшего перед смертью безмятежно дремать в плетёнке, как в колыбели.
— Рафаэль! Не смей его трогать! — воскликнула Хенка. — Он ущипнёт тебя своим клювом. Потом пальчики будут долго болеть.
— А что это за штука — манёвры? — напуганная непривычным словом, обеспокоилась Роха.
— Военные учения. Солдаты учатся быстро вскакивать в седло, срубать шашками на скаку голову у чучела, изображающего врага, точно стрелять в цель из винтовки.
— Седло, шашки, стрельба… — вздохнула Роха. — Всё это, по-моему, не еврейский гешефт. — Она потрепала Рафаэля по чёрным кудряшкам, снова вздохнула и сказала: — Какой славный мальчишечка! И надо же — уже он наследник москательно-скобяной и второй лавки Кремницера — бакалейной, а главное — огромных угодий соснового леса где-то в Жемайтии за Расейняй! А что, спрашиваю я частенько Господа Бога, достанется в наследство моему внуку? Только молоток, шило, шпильки[12], сапожный клей, колодка и все наши беды.
— Я думаю, что никто, даже Господь Бог, не знает, что, кому и когда достанется.
Обречённый на казнь у резника гусь проснулся и одним своим глазом высокомерно уставился на Рафаэля, который от страха прижался к тёплому боку своей няньки.
— Через полторы недели я получу первое жалованье. Тогда мы с вами, Роха, сядем в автобус и поедем к Шлеймке в Алитус, — сказала Хенка своей будущей свекрови.
— На манёвры поедем? — съязвила Роха.
— Да, — засмеялась Хенка.
Рафаэль заскучал, и нянька повела его домой, извинившись перед сгорбившейся Рохой и даже заносчивым, не догадывающимся о своей печальной участи гусём.
6
В доме Дудаков на Ковенской был объявлен праздник — Хенка принесла первую получку. Восемьдесят пять литов! Подумать только — восемьдесят пять литов! Почти девяносто! Бывает, что сапожник Шимон столько не зарабатывал и за три месяца! Хенка получила в три раза больше, чем отец! Песя, Хася, Фейгеле, берите с сестры пример!
Хенка испекла свой любимый пирог с изюмом, сделала тейглех — медовые пряники, натушила картошки с греческим черносливом, купленным в бакалее, тоже принадлежавшей её благодетелю реб Ешуа Кремницеру, в которой царствовал приказчик — лысый, как коленка, Рувим Биргер, и устроила пир горой.
Когда радость домочадцев чуть улеглась, счастливица сообщила им, что завтра уезжает на весь день с Рохой-самураем в Алитус, чтобы встретиться со Шлеймке, от которого давно не было никаких вестей.
— С этой бабой-ягой?! — ополчился на Хенку отец. — Не спешишь ли ты, доченька, тратить на ведьму свои денежки? Ты пока ещё не стала её невесткой.
— Роха помогла мне устроиться нянькой в дом Кремницеров. И потом, она не ведьма и не баба-яга, а просто уставшая от забот женщина. Весь дом на её плечах. Роха, как та ослица, которую однажды впрягли в перегруженную повозку и забыли выпрячь. Ни кто-то другой, а именно ты, отец, сам мне сказал, что её главные помощники Айзик и Лея вроде бы собираются поднять крылышки и вообще навсегда уехать из Литвы.
— Ну и что? — не сдавался Шимон. — У них ещё есть твой Шлеймке и Мотл. И Хава. Может, Лея и Айзик действительно уедут. Кто их знает? Что им тут в нашем местечке делать — латать, латать и ещё раз латать, лудить и ещё раз лудить, брить бороды, стричь волосы, стоять на крылечке, глядеть весь день до отупения на прохожих и ждать клиентов? А там, в этой Америке, говорят, только выйдешь на улицу, а на мостовой доллары валяются. Нагибайся и собирай!
И вдруг Хенка выпалила:
— Если и Шлеймке надумает отсюда уехать, я поеду за ним. Куда угодно.
— Ещё вопрос, возьмёт ли он тебя с собой!
— Возьмёт, возьмёт.
— Ты сначала с нашим раввином и со Шлеймке под хупой постой, а потом уж ручайся за него.
Хенка не стала портить праздник. Всё равно отца не переспоришь. Для него хупа — самая надёжная крыша на свете.
Однако труднее всего было уговорить Роху. Она не хотела ехать к сыну в Алитус на чужие деньги и для отвода глаз придумывала разные причины.
— Увижусь, поговорю с ним пять минут… Только расстроюсь, что уже пора обратно ехать… Когда долго не встречаешься с тем, с кем разлучен, любишь его ещё крепче.
— Вы уж, Роха, меня извините, но это глупости. Долгая разлука пожирает любовь, как моль висящее в шкафу ни разу не надёванное платье. Вам ведь ничего не надо делать, только сесть в автобус! Я всё уже собрала. Пирог и тейглех[13] готовы, немецкий шоколад и пара шерстяных носков на зиму в чемоданчике. Носки я сама связала. Словом, жду вас завтра в восемь утра на автобусной станции. Только не опоздайте!
— А если Шлеймке ещё на этих манёврах? Приедем, а его нет, — упиралась бережливая Роха, которой всегда было жалко на что-нибудь тратить собственные деньги и стыдно расходовать чужие.
— Ладно. Я приду за вами на Рыбацкую улицу. Так будет вернее.
Автобус, как всегда, опаздывал. Хенка боялась, что Роха его не дождётся и сбежит.
Когда он подрулил к остановке, будущая невестка помогла своей грузной спутнице подняться в полупустой салон и усадила её в первом ряду возле окна, чтобы Роха могла увидеть то, чего никогда не видела, а именно деревенскую Литву — зелёные поля и холмы, речки и лесочки, придорожные распятия и вросшие, как деревья, в суглинок крестьянские домишки.
Всю дорогу старуха не отрывала взгляд от окна, за которым проплывала незнакомая и непостижимая для неё, невольной домоседки, бедная страна.
— Земля красивая, ничего не скажешь, — тихо, словно делясь с Хенкой каким-то секретом, прошептала Роха. — Только люди такие же, как мы, бедняки.
— Да уж, небогатые, — согласилась Хенка.
— А почему литовцы, если они такие же бедные, как мы, нас не любят? Что им евреи плохого сделали? Обшиваем их, тачаем им сапоги, бреем, стрижём, часы чиним…
Автобус трясся и подпрыгивал на ухабистой дороге. Роху подбрасывало на рытвинах, она горестно вздыхала, ойкала и обеими руками хваталась за Хенку.
Ответа на вопрос Рохи девушка не нашла. Она сама не раз задумывалась, откуда эта извечная взаимная неприязнь.
— Может, оттого, что евреи всюду чужие, а чужого птенца даже голубка заклёвывает. Раз чужой, значит, нехороший… — сказала Хенка. — И вообще от бедности никто не добреет. Видно, так уж на свете заведено и всегда будет так, как было.
Роха насупилась и ни о чём больше Хенку не спрашивала. Мысль о том, что после совместной поездки в Алитус быстроглазая дочь Шимона рассчитывает дождаться согласия на брак с её царем Соломоном, вдруг затмила всё мелькающее за окном. Но не слишком ли рано Хенка радуется?
До Алитуса они доехали молча.
— Вы после этой сумасшедшей тряски ещё живы? — спросила наконец Хенка.
— Как видишь, жива, хотя все косточки растрясла. От станции до казармы далеко?
— Недалеко, но и не близко. Мы пойдём медленно, с остановками. Где-нибудь по пути отдохнём.
Роха никогда ещё не была в таком большом городе, и всё вокруг привлекало её внимание — и трех-четырехэтажные дома, и широкие, выложенные плиткой тротуары, и броские вывески, и нарядные жители.
— Мы не заблудимся? — спросила она Хенку.
— Не заблудимся.
— Я бы не хотела тут жить.
— Почему?
— У нас в Йонаве я знаю каждого — и литовца, и поляка, и еврея, — задумчиво сказала Роха. — Знаю, кто женится и кто разводится, у кого дома кошка и у кого во дворе на цепи злая собака. И меня все знают. А тут? Нет, я ни за что не хотела бы тут жить.
Так, рассуждая о преимуществах родной Йонавы перед чужим Алитусом, они добрались до желанной цели.
Хенка слушала Роху и всматривалась издали в фигуру часового. Ни выправкой, ни ростом он не был похож на того коренастого солдата, который охранял вход на территорию прошлый раз. Путая падежи и коверкая глаголы, Хенка стала объяснять долговязому неприветливому охраннику, что их сюда привело:
— Mes is Jonava[14].
Страж пренебрежительно оглядел их с головы до пят — он без всяких объяснений, только по лицам, не характерным для большинства его сородичей, и по уродливому акценту догадался, к кому эти женщины прибыли.
— Jus pas eilini Saliamona?[15]
Хенка и Роха, как по команде, закивали.
— Atspejau. Jis cia pas mus vienintelis zydas[16].
Из всей его речи Хенка и Роха поняли только слово «жидас», знакомое обеим чуть ли не с колыбели.
— Tuojau surasime[17], — сказал солдат и скрылся за забором.
Через некоторое время вышел и сам рядовой Салямонас.
— Шлеймке! — закричала Роха, как будто сыну грозила смертельная опасность, и бросилась к нему.
Хенка стояла в сторонке и с удовольствием наблюдала, как та своими жилистыми руками мяла и комкала сына, словно тесто.
— Ей-богу, встреться ты мне на улице, я тебя, сынок, ни за что не узнала бы! Весь какой-то не такой! В военной форме ты и на еврея-то не похож, — не то нахваливала, не то подначивала Шлеймке истосковавшаяся по нему Роха. — А я ещё, дура, ехать не хотела! Спасибо Хенке, что вытащила.
Рядовой Салямонас гладил мать по седой взлохмаченной голове и морщинистому лицу, как будто старался стереть врезавшиеся в него глубокие борозды, благодарил тёплым взглядом Хенку, прижавшую к груди, как младенца, парусиновый чемоданчик.
Догадливый охранник, которому до призыва в армию в родной деревне под Рокишкисом или Купишкисом ни разу не доводилось видеть трёх евреев сразу, таращился на них с изумлением.
— Давайте спустимся к Неману. Мы в прошлый раз так хорошо провели там время, — предложила Хенка. — Что мы стоим, как вкопанные?
— К великому сожалению, я не могу с вами пойти, — сказал Шлеймке. — Я сегодня дневальный.
Роха и Хенка растерянно переглянулись.
— Я сегодня отвечаю за чистоту и порядок в казарме и через пять, самое большее через десять минут обязан туда вернуться. Иначе я рискую попасть на гауптвахту. То есть в солдатскую каталажку.
— В тюрьму? Господи! — простонала Роха. — Я сюда свои кости еле доволокла, чтобы хоть часок побыть с тобой, а выходит, нам надо сразу отправляться обратно. Знали бы — не поехали бы! Письма не пишешь, не предупреждаешь! Сиди и думай, жив ты или нет…
— Виноват… — опустил голову Шлеймке. — Но вы же всё равно не можете мне ответить.
— Да, мы, безграмотные, писать не умеем, но наказывать нас за это молчанием не надо, — с укором сказала Роха. — Вернёшься домой — может, ты и нас, дурёх, научишь… Ладно… Увиделись с тобой, и слава Богу, — промолвила она и обратилась к Хенке, великодушно уступая ей первенство во всём — в любви и в жалобах. — А ну-ка, быстренько выгружай все свои дары!
— Шлеймке, возьми всё, что мы привезли, вместе с чемоданчиком. Мы с мамой ещё к тебе приедем, тогда его и заберём, — сказала Хенка, пытаясь как-то сгладить свою вину перед сникшей Рохой за то, что так неосмотрительно уговорила её пуститься в далёкий путь.
Автобуса в Йонаву пришлось ждать долго, и неудачницы не знали, как убить время. Они бесцельно бродили по незнакомому городу, смотрели на витрины и вывески лавок и магазинов, заглядывали через открытые двери в парикмахерские, откуда пахло дешёвым одеколоном и где лихо орудовали ножницами и бритвами мастера-евреи, одетые в сверкающие белизной халаты. Забрели они и на городской рынок, уставленный крестьянскими телегами, и там глазами выискивали среди покупателей собратьев-единоверцев, которые в Алитусе попадались реже, чем в Йонаве.
Хенка вдруг вспомнила Гилеля Лейзеровского, его больную жену и кучу детей…
— В прошлый раз хороший человек помог мне найти Шлеймкин полк. Пусть Господь Бог за доброе дело одарит его таким же добром, да ещё с добавкой.
— Он, может, только на небесах одаряет, но не на земле. На земле хозяин не Господь Бог, хотя Он её и создал, а всякие господа и господинчики, — сказала Роха-самурай.
Хенка порывалась остановить какого-нибудь еврея, расспросить, где находится улица Кудиркос, и навестить Гилеля, но не решилась. Грешно было ещё больше утомлять Роху — опечаленная старуха и так еле держалась на распухших ногах.
На автостанции они присели на скамейку и стали ждать рейса в Йонаву. Никогда ещё обе не чувствовали такую близость друг к другу, как на этом пропахшем бензином и машинным маслом, захламленном окурками, обрывками бумаги и битым стеклом островке. Их объединяло даже молчание, ибо думали они об одном и том же — о любви, которая всё равно куда сильнее обиды на судьбу, не всегда благоволящую к тем, кто любит. Кто мог знать, что Шлеймке в этот день будет так занят на службе?
— Спасибо, Роха! — вдруг сказала притихшая Хенка.
— За что? — глухо отозвалась нахохлившаяся старуха.
— За реб Ешуа Кремницера. Если бы не вы, что бы я сейчас в местечке делала? Улицы бы подметала, полы мыла у мельника Менделя Вассермана или сидела бы дома и под стук отцовского молотка до дыр протирала своё платье? Спасибо вам и за то, что отважились отправиться со мной сюда. Несмотря ни на что, я считаю, что мы с вами приехали не зря. Шлеймке будет легче служить.
— Это я тебя должна благодарить. Сказать по правде, я о тебе раньше была не очень-то хорошего мнения. Не стану кривить душой, я не собираюсь бить себя в грудь кулаком и просить у тебя прощения. На то я мать. Ты понимаешь, о чём говорю?
— Понимаю, — с каким-то несвойственным ей надрывом ответила Хенка. — Если когда-нибудь рожу и выращу такого сына, как ваш, я тоже буду желать ему в жёны не дурнушку и нищенку, а красавицу и богачку. Мне тоже будет больно, если чужая женщина заберёт его у меня навсегда.
И тут подошёл автобус, не дав им договорить.
7
Путь домой показался обеим намного короче. Погружённые в свои раздумья, они и не заметили, как очутились в Йонаве.
До синагоги женщины шли вместе.
— Ты, конечно, к нему ещё поедешь, но я больше трястись туда и обратно не в силах, — сказала Роха, обернувшись к Хенке перед тем, как расстаться с ней на перекрёстке.
— Да, поеду.