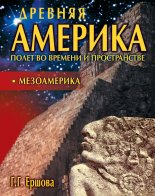Местечковый романс Канович Григорий

— Так. Рвётся. Топает ножками…
— Что ж! Так и должно быть. У человечка срок заключения кончается, а его, видишь ли, на свободу не выпускают.
— Почти кончается.
— Так вот, — подытожила Мина, — если судить по твоему животу, арестантик твой весьма внушительных размеров, а таз у тебя, повторяю, уж ты прости меня за прямоту, подкачал.
— Подкачал? Таз?
— Да, таз. Узковатый. Мог бы, душечка, и пошире быть. Чем шире ворота, тем доверху нагруженному возу легче из этих ворот выкатиться. Боюсь, что в помощницы я тебе не гожусь. Ведь я, душечка, даже не акушерка, действую по старинке — тут нажму, там нажму, пуповину перережу, перевяжу. А ты, голубушка, подумай — если тебе, не приведи Господь, понадобится при родах другая помощь, что мы тогда с тобой делать-то будем?
— Другая? Какая?
— Помощь доктора, а не повивальной бабки. Где ты в нашем местечке таких докторов найдёшь? Не прокатиться ли тебе с твоим бунтарём-богатырём в Каунас, в Еврейскую больницу? И у меня будет спокойнее на душе, и у тебя, хорошая моя, страхов поубавится.
— Я подумаю, Мина.
— Ты подумай, а я, моё золотко, наверное, брать грех на душу не стану. Рисковать при родах неразумно. Это из прыщика гной можно без риска выдавить, а такого здоровяка, как твой первенец, не выдавишь. Чует моё сердце — нелегко тебе достанется его приход.
— Спасибо, — гостья понурила голову.
Напуганная Хенка решила ничего не скрывать от мужа.
— Мина языком зря молоть не станет, — сказал Шлеймке, когда Хенка поделилась с ним своими страхами. — У неё опыт о-го-го! К её словам стоит прислушаться. На месте рожать, конечно, дешевле, но в Каунасе надёжнее. Не волнуйся, с Файвушем Городецким я уже договорился. Он не подведёт. А ты сиди дома, никуда не ходи. Я предупрежу Этель.
— К ней я сама схожу.
— Смотри у меня! — пригрозил ей муж с наигранной строгостью. — Не вздумай только там полы мыть…
Этель и Рафаэль встретили её с прежним радушием, но в их поведении уже сквозила легко уловимая отстранённость. И мать, и сын были похожи на утомлённых пассажиров, которые сидят на вокзале и нетерпеливо ждут опаздывающего поезда.
— Я не прощаться пришла. Надеюсь, мы ещё увидимся до вашего отъезда в Париж. По-моему, мне удастся справиться быстрее, чем господин Арон за вами приедет, хотя вы оба его очень ждёте.
— Он приедет в апреле, — сообщила Этель. — К счастью, всё уже продано. И лавки, и дом. Надо только запаковать вещи и перевезти их. Кроме мебели. С мебелью все не так просто.
— Главное, что вы наконец-то перестанете жить на два дома и будете вместе с господином Ароном.
— Не вместе, а рядом. Под одной крышей, — невесело усмехнулась Этель. — Это будет, пожалуй, точнее.
Хенка машинально кивнула. Она слушала рассеянно — думала о Еврейской больнице в Каунасе, приближающемся небывалом испытании в её жизни… Зацепившись взглядом за пустое плюшевое кресло, в котором обычно сиживал угасающий Ешуа Кремницер, Хенка вдруг встрепенулась:
— А как там наш реб Ешуа?
— Ничего хорошего. Ни жив, ни мёртв. Арон нанял для него круглосуточную сиделку. Она его одевает, раздевает, кормит с ложки, укладывает спать, иногда вывозит в коляске под сень каштанов на бульвар. — Этель перевела дух и, как бы давясь словами, выдохнула: — Все люди боятся смерти, а ведь для кого-то она — последняя великая Божия милость. Но не будем о грустном.
— Не будем, — поддержала Этель Хенка, хотя и не представляла, о чём дальше с ней говорить.
— Я уверена, мы ещё встретимся. Жизнь — циркачка, неизвестно, какой кульбит может завтра выкинуть. Кстати, я решила выплатить тебе жалованье за два месяца вперёд, — сказала Этель. — Только, пожалуйста, не возражай. Деньги всегда пригодятся. Игрушки Рафаэля и его вещи я сложила. Если мы всё-таки разминёмся, всё оставлю у Антанины, которая помогала по хозяйству покойному Абраму Кисину. Когда-то она служила и в нашем доме. Ах, если бы все её соплеменники были такими же славными, как она!..
— Что до соплеменников, они у всех разные. Наши братья-евреи не исключение. Не всех можно похвалить, — сказала Хенка и добавила: — И напоследок, простите, если я за время своей работы у вас что-то не так сделала… или сказала…
— Ну что ты! Лучшей подруги у меня тут не было. Я тебя никогда не забуду, — Этель подошла к Хенке и обняла её. — Рафаэль, ну-ка поцелуй Еньку!
Рафаэль мгновенно бросился к своей няньке и, когда та нагнулась, неумело чмокнул её в щеку.
У Хенки предательски заблестели глаза.
— Не робей! Страшно рожать только первый раз. Всё будет хорошо, — сказала Этель. — Всё будет хорошо, — повторила она. — Я стану за тебя молиться.
Хенка поклонилась и шагнула к выходу.
— Подожди! А деньги?
— Но я ведь их не заработала…
— Заработала, заработала, — засмеялась Этель. — Возьми! В Еврейской больнице никто бесплатно не рожает. — Она насилу сунула в карман пальто Хенки конверт. — С Богом!
Возле входа в синагогу Хенка столкнулась с вездесущим, как сам Господь Бог, Авигдором Перельманом. Увидев издали молодую женщину, он приосанился, причесал шершавой ладонью седые, вздыбившиеся кудри и, когда та подошла поближе, картинно поклонился.
Хенка вежливо ответила, не пускаясь в долгие разговоры, достала монету и протянула нищему.
— Премного благодарен, — прогудел Авигдор. — У беременных лёгкая рука. Кроме того, получаешь как бы от двоих сразу. — Он ухмыльнулся беззубым ртом. — Не буду задерживать. Тебя, должно быть, ждёт Шлеймке. У меня к тебе только одна маленькая просьба — роди, пожалуйста, доброго, щедрого человека. Нищих и богатых, злых и жадных на свете полным-полно, а добрых…
— Постараюсь.
У Шмулика подобных просьб не было. Забыв об угнетателях всех мастей, он, как мог, старался перед родами ободрить сестру и привёл ей в пример их самоотверженную маму.
— Хочу тебе, Хенка, напомнить, что наша мама родила десять детей, — объявил он таким торжественным тоном, как будто сама она об этом не знала.
— Ну и что из этого, по-твоему, следует? — спросила Хенка.
— Из этого следует вот что: только так можно укрепить наши рабочие ряды. Если мы, пролетарии, на одного барского сыночка или дочечку произведём на свет по девять своих здоровяков, всем угнетателям и шкуродёрам уж точно не поздоровится.
— Вот ты сам, Шмулик, со своей будущей жёнушкой эти рабочие ряды и укрепляй силачами и здоровяками.
— Ты, что, сестрица, шуток не понимаешь? Я от тебя десяти вовсе не требую.
— Понимаю, понимаю. Но если бы это тебе надо было не сегодня-завтра рожать, ты не стал бы со мной такие шутки шутить.
Ночью у неё начались схватки.
Шлеймке бросился будить своего друга Файвуша Городецкого, который одним из первых в Йонаве пересел с телеги на подержанный американский «форд». К счастью, Файвуш не спал, и оба тут же направились к машине.
По пути к роженице они заехали на Рыбацкую улицу. Роха вызвалась сопровождать Хенку до самой больницы, но мужчины уговорили её остаться — вдруг, мол, какой-нибудь заказчик постучится в дверь опустевшей мастерской и спросит, где же мастер, который велел ему прийти на примерку.
Пока притихшая Хенка сидела и корчилась от боли, Шлеймке торопливо собирал нужные документы, Файвуш заводил страдающий астмой мотор, мешая Эфраиму Каплеру уснуть по его неотменяемому расписанию, а Роха подбирала для невестки тёплую одежду, чтобы не простудилась в дороге.
Ночи в конце марта были ещё холодными, кое-где в оврагах и низинах белели островки снега.
До Каунаса ехали долго. Файвуш вёл по мощённой булыжником мостовой свой видавший виды «форд» осторожно, боясь растрясти доверенный ему драгоценный груз, и молча вглядывался в тускло освещённую фарами темноту. Молчал и Шлеймке.
— Вы чего это замолкли, как на кладбище? — вдруг послышалось с заднего сиденья.
— Мы думали, ты спишь, — отозвался Шлеймке. — Не хотели беспокоить.
— Да, с таким спутником, как мой бунтовщик, поспишь… — вздохнула Хенка. — Дай Бог нам до больницы благополучно добраться. Далеко ещё до Каунаса?
— Больше половины пути мы уже отмахали, — сказал неразговорчивый Файвуш. — Через четверть часа подъедем к городской черте.
— Потерпи немножечко, — попросил Хенку Шлеймке.
Машина и впрямь вскоре въехала в погрузившийся в глубокий сон сумрачный пригород Каунаса, без всякого порядка застроенный дряхлыми деревянными домишками. Петляя по улицам и переулкам, «форд» медленно приближался к цели — знаменитой на всю Европу больнице. Иногда из какой-нибудь подворотни выскакивала, словно ошпаренная, бездомная собака, и Городецкий резко нажимал на тормоза, а Хенка вскрикивала от испуга.
Наконец из густого, враждебного сумрака выплыла и ярко высветилась многочисленными окнами приютившаяся в старом городе Еврейская больница.
Файвуш высадил пассажиров, пожелал Хенке удачи, развернул машину и, подкрепив добрые пожелания протяжными автомобильными сигналами, покатил обратно.
Первое, что поразило Хенку и Шлеймке, было не внушительное здание больницы, а приёмный покой, где и сёстры, и доктора, и уборщицы говорили на идише, как в каком-нибудь йонавском дворе.
— Добрый день, — сказал коренастый, чисто выбритый мужчина в белом халате и круглой белой шапочке. Он принял у Шлеймке документы и, тщательно изучив их, пробасил: — Будем знакомы. Я доктор Бенцион Липский, заведующий гинекологическим отделением. Прошу вас подняться со мной на второй этаж для первоначального осмотра, — обратился он к роженице. — А вас, к сожалению, я буду вынужден разлучить с женой до её выписки. Посторонним лицам находиться в нашей больнице строго запрещено. В Каунасе есть место, где вы могли бы переночевать?
— Есть. У меня тут брат.
— Вот и хорошо. Приходите утром. Спросите внизу доктора Липского, я выйду к вам и всё подробно расскажу. А теперь поцелуйте свою вторую половину, и до свидания, до завтра.
Ошарашенный муж так и сделал — нескладно обнял Хенку, поцеловал и пожелал удачи.
Доктор кивнул ему и вместе с Хенкой исчез в длинном пропахшем лекарствами коридоре.
Ночевать к брату Мотлу Шлеймке не пошёл. Город он знал плохо и побоялся заблудиться в предрассветном сумраке. Шлеймке решил дождаться наступления утра под светящимися окнами больницы. Всё равно он сейчас нигде не смог бы уснуть.
Никогда Шлеймке не чувствовал себя таким одиноким и беспомощным, как в ту ночь. Он кружил вокруг трехэтажного здания, стараясь угадать, за каким залитым жёлтым светом окном корчится от боли Хенка. Небо было затянуто плотной рогожей облаков, только иногда они, как овцы, разбредались в разные стороны, и в образовавшейся полынье то тут, то там вспыхивали затерявшиеся звёзды, с которыми Шлеймке переглядывался и даже первый раз в жизни принялся беззвучно переговариваться. Он вдруг вспомнил слова матери, что звёзды — это глаза рано умерших невинных младенцев, и его охватила какая-то неодолимая оторопь. Шлеймке отвёл от небосвода взор, но звёзды, как будто преследуя его, по-прежнему сияли перед ним во всей своей яркости и блеске.
Когда утром к нему выйдет с доброй вестью доктор, Шлеймке отправится к брату, вымоется, побреется, купит в цветочном магазине самый большой букет роз и помчится в Еврейскую больницу к Хенке и новорождённому сыну. Ему очень хотелось, чтобы родился мальчик, он даже имя ему уже придумал — Борух. Благословенный. Мысли о сыне вытеснили из головы все тревоги и страхи, посеянные повитухой Миной.
Занималась заря. В окнах больницы стал постепенно гаснуть припорошенный болезненной желтизной свет. Только из операционной в тающий сумрак продолжало изливаться ослепительное свечение низко свисающих с потолка ламп. Судьбоносная ночь подходила к концу, и наступал, как сказано в Писании, день первый.
Озабоченный Шлеймке несколько раз справлялся в приёмном покое у миловидной барышни о докторе Бенционе Липском и всё время получал от неё вежливый, но неопределённый ответ:
— Доктор Липский сейчас либо на обходе, либо на операции. Зайдите, пожалуйста, чуть позже.
На вопросы, когда он примерно освободится, учтивая барышня только недоумённо пожимала плечиками и кокетливо строила посетителю глазки.
Голодный, измученный дурными предчувствиями, Шлеймке неотрывно следил за каждым выходящим в приёмный покой человеком в белом халате и такой же белой шапочке, но доктор Липский как сквозь землю провалился.
Только часа через два Шлеймке увидел, как тот медленно спускается по лестнице, и в нарушение всех больничных запретов бросился навстречу доктору.
— Похоже, вы всю ночь простояли под окнами, к брату не пошли.
— Не пошёл.
— От стояния под окнами больным легче не становится. И давно вы меня тут ждёте? — спросил Липский ровным бесцветным голосом, которым привык сообщать и плохие, и хорошие новости.
— Давно.
— Наверное, от долгого ожидания вы изрядно изнервничались.
— Да.
— Нам надо с вами серьёзно поговорить.
По хмурому непроницаемому лицу доктора Шлеймке понял — случилось что-то очень скверное.
Они прошли в холл, сели за небольшой журнальный столик друг против друга, и Шлеймке, не дожидаясь, пока Липский заговорит, вдруг выпалил:
— Скажите, доктор, моя жена жива?
— Ваша жена жива, — подчеркнуто спокойно ответил Бенцион Липский.
— Это главное, — выдохнул Шлеймке.
— Роды были тяжёлые. Не обошлось, увы, без крайнего средства — кесарева сечения, то есть операции на брюшной полости.
Наступившая пауза длилась недолго, но в холле вдруг стало нестерпимо душно.
— Во всех клиниках мира такая операция, — продолжил Липский, — до сих пор сопряжена с большим риском и опасностями для матери и ребёнка, но в исключительных случаях врачам не остаётся другого выхода — приходится браться за скальпель. — Доктор пустился в рассуждения об ограниченных возможностях медицины, чтобы хоть ненадолго оттянуть печальное известие. — Жизнь вашей жены мы, слава Богу, сохранили, а вот ребёнка, несмотря на все наши усилия, спасти не удалось.
— Это был мальчик? — задушенным от горя голосом нашёл в себе мужество спросить Шлеймке.
— Да. Поверьте, мы сделали всё, что от нас зависело. Но доктора не боги.
Шлеймке угрюмо слушал и всё больше мрачнел.
— Сочувствую вам всем сердцем, — скорбно произнёс Бенцион Липский. — Как ни горька правда, врачи не могут по требованию больного или его ближайших родственников отменять либо замалчивать её.
— Когда я смогу навестить жену? — замороженными губами прошептал Шлеймке.
— Думаю, завтра-послезавтра.
— А когда их можно будет… забрать отсюда и увезти домой… в Йонаву?
Наступившая тишина была вязкой, болотной. Казалось, слышно, как у недавнего солдата Шлеймке под холщовой рубашкой ухает сердце.
— Когда? — Простой вопрос застал Бенциона Липского, закалённого чужими несчастьями, врасплох. Он не знал, что ответить. — Спрошу у профессора Ривлина. Жену, может быть, через неделю, а может, чуть раньше. В зависимости от того, как будет проходить заживление. — Доктор помолчал, избегая самой больной темы — мертворождённого ребёнка. — А вы, господин Канович, поезжайте-ка домой! В беде нельзя долго оставаться одному.
— Нет, — отрезал Шлеймке. — Нет.
— Вы здесь только ещё больше измучаетесь. Как бы вам самому не понадобилась помощь медиков. Тем, что будете круглосуточно кружить вокруг больницы, вы ей не поможете. Ну так и быть… В порядке исключения я разрешу вам навестить жену. Но с одним условием. Пять минут. И ни одной минуты больше! Я засеку время. Иначе меня за самоуправство выгонят из больницы. Идёмте.
Хенка лежала в просторной палате на высоких белых подушках. Её густые волосы как будто растрепало ветром, они упрямо наползали на прикрытые глаза, но она их не откидывала, как чёрную, траурную вуаль.
— Ты? — Хенка безошибочно узнала мужа по медвежьей походке и дыханию.
— Я… — Он наклонился к постели и осторожно прикоснулся небритой щетиной к щеке Хенки, которая вдруг безудержно зарыдала.
— Не плачь. Будь умницей, не плачь… Я тебя очень, очень… ну ты сама понимаешь… — как в бреду, повторял он, готовый и сам навзрыд заплакать от горя и злости на судьбу. — Чего-чего, а этого никто и никогда у нас не отнимет. Ты меня слышишь? Никто. И никогда. До самой смерти будем друг друга… — Он не договорил, захлебнувшись от собственного беспомощного признания в любви…
— Как, Шлеймке, дальше жить? Как? — простонала Хенка, и её слова снова потонули в судорожных рыданиях.
— Будем жить. Горе — это ведь, Хенка, не преступление, беда — это ведь не позор.
Он услышал скрип двери и заторопился.
— Я скоро приеду… скоро…
Неумолимый доктор Липский сжалился над ним и добавил ещё минуту на прощальный поцелуй. Шлеймке прильнул к жене, и две крупные слезы скатились на белое, как саван, одеяло.
Слух о несчастливых родах облетел всё местечко. Как говорила Роха, несчастья у евреев всегда обгоняют черепаху-радость, которая общей бывает редко.
Сразу по приезде в Йонаву Шлеймке отправился к рабби Элиэзеру. В знак великой скорби тот долго молчал, сдержанно, по-пастырски охал, вздыхал, теребил свою бороду с проседью… Потом он печально изрёк:
— Да укрепит Господь твой дух, майн кинд.
— Я пришел к вам, ребе, за советом. Как быть, когда я его привезу сюда?
— Вопрос твой понятен, сын мой. — Рабби Элиэзер снова подоил бороду и сказал: — Мертворождённых младенцев мужеского пола не велено обрезать и нарекать каким-нибудь именем. Запрещено сидеть шиву[24] и ставить им на могиле надгробный памятник. И хоронить их должно без кадиша.
— То есть просто закопать?
— Да. Родителям и родственникам, правда, при этом не запрещается посещать место захоронения и ухаживать за ним с подобающим прилежанием. Свяжись с Хацкелем, главой похоронного братства, он тебе всё объяснит и всё сделает, как положено.
— Этот немец ничего не знает. Никто не может нам запретить сидеть шиву, — возмутилась Роха. — Что с того, что рабби Элиэзер не запишет его имя в Книгу судеб?.. Обойдёмся и без его записи. Памяти безымянной не бывает.
— Может, всё-таки дождёмся Хенку, — предложил Довид. — Без неё как-то неудобно.
— Не стоит растравлять её и без того истерзанную душу. Подумайте сами — сначала похороны, а потом шива. Хенка может не выдержать, — промолвила Роха. — Всем миром такую страшную боль не лечат.
Вняли её голосу, а не Довида и не «этого немца» — рабби Элиэзера из Тильзита. Обе семьи в течение семи траурных дней сидели дома и никуда не выходили.
Даже богохульник Шмулик вопреки своей твёрдой уверенности, что Бога придумали эксплуататоры, чтобы дурить трудящиеся массы, скорбел вместе со всеми.
— В горе надо проявлять пролетарскую солидарность, — сказал он, усаживаясь рядом с зятем. — Сегодня мне сестра дороже всякой справедливости.
На прощальный ритуал пришёл и домовладелец Эфраим Каплер — в бархатной ермолке, с чёрной ленточкой в петлице, забежал подвыпивший маляр Евель с ведёрком краски и неразлучной кистью, посетили дом на Рыбацкой улице доктор Блюменфельд и повитуха Мина.
Не преминул отметиться и выразить своё искреннее бескорыстное сочувствие скорбящим и Авигдор Перельман.
— Никто не может понять, как тебе тяжело, — сказал он, сев напротив Шлеймке за поминальный стол. — Мне так тяжело никогда в жизни не было. Было голодно, холодно, одиноко. Не раз хотел сказать всем «адью» и наложить на себя руки, да воли у меня, слабака, не хватило. Но с такой бедой я всё-таки не сталкивался. Ты только, солдат, не раскисай, не сдавайся. У тебя ещё всё впереди. Не то что у меня, никчёмного человека. Я ведь уже прожил все возможные времена — прошлое, настоящее и даже будущее. И, слава Богу, что четвёртого времени нет.
— Спасибо, Авигдор, спасибо, — ответил Шлеймке, не уверенный в том, что тот поставит точку.
Он угадал.
— Если можно, скажу ещё пару слов.
— Можно.
Шлеймке не мог отказать, хотя его, как и всех в местечке, раздражала чрезмерная склонность Авигдора к мудрствованиям и суесловию, к которым он пристрастился в Тельшяйской ешиве.
— Лучше, конечно, было бы, если бы твой сынок родился живым и здоровым. Но ты на меня, ничтожного червя, не сердись за мои слова. Я всегда говорю то, что думаю, потому что уже никого и ничего не боюсь.
— Знаем, знаем, — подтвердил Шлеймке, пытаясь остановить его излияния.
— Может быть, твой мальчик в последнюю минуту передумал — не пожелал выходить в этот паршивый, трижды проклятый мир и остался в чреве матери. Там ему было тепло и сытно. Ты только на меня, Шлеймке, повторяю, не сердись. Если наш безжалостный Бог наказывает таких добрых людей, как ты и твоя Хенка, зачем, скажи, нам вообще нужен такой начальник, как Он? Мог же Всевышний отдать все мои семьдесят четыре года кому-нибудь другому… Глядишь, этот человек прожил бы более достойную жизнь, чем я.
Авигдор посидел ещё немного, съел булочку с маком, запил сельтерской, подремал на стуле, встал и стал собираться.
— Пора возвращаться на своё рабочее место — на тротуар, — сказал он и, сгорбившись, ушёл.
— Я думал, он свихнувшийся, а у него светлая голова и вполне развитое классовое сознание, — удостоил Перельмана мелкой монетой похвалы Шмулик.
— С его умом он мог бы стать раввином, — сказал Шлеймке. — Но Авигдору не повезло. Его Хаечка сбежала с каким-то приказчиком, а он вместо того, чтобы найти себе другую жену, увязался за какой-то заезжей бабой, и всё полетело в тартарары. А потом, когда от него удрала и та блудница, жизнь Авигдора галопом понеслась вниз: началось с браги и закончилось нищенством.
Вскоре после ухода Перельмана стали понемногу расходиться и остальные.
Последней дом Рохи-самурая, выстуженный печалью и невозвратной утратой, покинула повитуха Мина.
— Береги Хенку, — сказала она Шлеймке. — Теперь ей самой надо заново родиться.
За день до окончания семидневного траура Шлеймке отправился в Каунас. От автобусной остановки до Еврейской больницы он шёл быстрым солдатским шагом.
В приёмном покое Шлеймке обратился к уже знакомой ему миловидной, кокетливой барышне с просьбой связать его с Бенционом Липским. Та молча сняла трубку и позвонила в родильное отделение.
— С вами, доктор, желает срочно встретиться один посетитель. Говорит, что вы его знаете и что он уже раз приходил сюда к жене.
— Кто такой? Откуда? — поинтересовался Липский на другом конце провода.
— Минутку!
Барышня переадресовала вопросы доктора Шлеймке.
— Канович. Из Йонавы, — сказал Шлеймке.
— Спасибо, — барышня повернула к гостю свою изящную, словно вылепленную, головку и чётко передала по телефону всё сказанное. Дождавшись ответа, она заморгала глазками-вишенками и сообщила Шлеймке: — Господин Липский будет к вашим услугам через четверть часа. Доктор очень сожалеет, что никак не может встретиться с вами раньше.
Своё слово Липский сдержал. Он пришёл ровно через четверть часа, поздоровался, предложил Шлеймке выйти с ним во двор и без помех, с глазу на глаз, потолковать на свежем воздухе. Когда оба примостились на деревянной скамейке, Липский спросил:
— Вы не курите?
— Нет.
— А я до сих пор, представьте, не могу отвыкнуть. Бросал несколько раз и через день-два снова начинал коптить небеса. Не возражаете, если я немного подымлю у вас под носом?
— Не возражаю.
— А теперь о деле… Возле костёла находится стоянка извозчиков. Выберите повозку и подъезжайте к больнице. На первых порах вашей супруге даже при умеренной ходьбе надо избегать лишних нагрузок, чтобы, не приведи Господь, не разошлись швы. — Доктор полез в карман, достал портсигар с монограммой, вытащил папиросу и закурил. — Как вы сами понимаете, с той чудовищной ношей, которую вам выдадут по расписке в больничном морге, ходить по городу невозможно. У нас в таких прискорбных случаях с согласия родителей иногда хоронят на каком-нибудь ближайшем еврейском кладбище, — Бенцион Липский глубоко затянулся и, пустив в небо голубое колечко, продолжил: — Надеюсь, вы не считаете меня извергом или мясником. Я тоже отец и прекрасно понимаю, какую цену вы всеми своими нервными клетками платите за то, что произошло. И я, поверьте, тоже расплачиваюсь. Моя плата, конечно, несравнимо меньше, чем ваша. Но, поверьте, и я плачу! Тем не менее я врач, и мой долг при надобности вовремя включать сирену, возвещающую об опасности.
— Я, конечно, возьму извозчика. И сам думал это сделать, — сказал Шлеймке.
— Вы, по-моему, человек стойкий, не хлюпик и не размазня.
— Да. Мужчине не к лицу раскисать, но всему есть предел, — произнёс Шлеймке. — С вашего позволения я, пожалуй, пойду за извозчиком.
— Да, да, идите, голубчик! Это совсем недалеко, костёл отсюда хорошо виден. Но я как врач должен ещё кое-что вам сказать.
— Слушаю.
— Вашей жене, к сожалению, лучше больше не беременеть. Следующая беременность может обернуться для неё катастрофой. Это не только моё мнение, это мнение консилиума.
— Консилиума?
— Совета врачей. Только вы, ради Бога, как можно дольше ей об этом не говорите. Надеюсь, вам не надо объяснять, что среди всех живых существ на свете более самоотверженных, чем любящие женщины, нет. В своей любви они не останавливаются ни перед чем. Вплоть до безумия и самоубийства. Они абсолютно не считаются ни с какими врачебными советами и запретами.
— До сих пор у меня не было никаких тайн от жены.
— И тем не менее… Словом, будьте осторожны. Осторожность ещё никому не повредила.
— Благодарю за предупреждение.
Шлеймке встал и направился в сторону костёла.
На площади в ожидании седоков скучали возницы. Шлеймке остановил свой взгляд на первом же попавшем в поле его зрения — приземистом, нахохлившемся от безделья и скуки носатом мужичке, похожем не то на цыгана, не то на соплеменника-еврея.
— Свободен?
— Йе, — ответил возница на идише. — Залезай!
— Я не один. Надо подъехать к Еврейской больнице. Там возьму жену и — на автобусную станцию.
— За деньги я могу подъехать куда угодно. Хоть на край света. Хоть в Палестину. Почему бы нет? Ха-ха-ха! — заржал он. — Залезай, залезай! Евреям я делаю скидку. Десять процентов! А на большие расстояния скидываю даже пятнадцать-двадцать.
Подкатили к входным дверям Еврейской больницы. Шлеймке в сопровождении доктора Липского поднялся на второй этаж и вывел из палаты под руку еле живую, словно окаменевшую, Хенку.
Внизу по распоряжению Липского их уже ждал рослый санитар с завёрнутым в простыню тельцем моего мертворождённого брата.
Шлеймке попрощался с доктором и помог Хенке забраться в бричку.
Был март 1928 года. Литва только что торжественно отпраздновала десятилетний юбилей своей независимости, и по всему городу на всех еврейских и литовских домах ещё победно развевались на ветру чуть примятые трёхцветные флаги.
— Вьё-о-о, Песеле! — крикнул извозчик. — Она у меня знает каждый адрес в Каунасе. Скажешь ей: Песеле, к ресторану «Метрополь», к офицерскому собранию или к резиденции президента Сметоны, с которым наши богатые еврейчики режутся по вечерам в карты, моя лошадь без всякого понукания сама вас довезёт. Мы с ней не первый год утюжим эти улицы, катаемся туда-сюда. Надо же — четвероногое животное, а голова у неё прямо-таки еврейская.
— Нельзя ли попросить вашу умную Песю, чтобы бежала не очень резво, не то она из нас всю душу вытрясет. Жена после тяжёлой операции, а на автобус мы не опаздываем.
— Понял! Моя Песеле чаще всего трясёт наших недругов. Она, скажу вам, чует антисемитов на расстоянии. Но стоит ей только услышать от седока маме-лошн, как она тут же переходит с рыси на лёгкий шаг, — продолжал балагурить возница. — Моя лошадка большая любительница идиша. Только говорить не умеет. А жаль…
Хенка сидела неподвижно, отрешившись от всего, что её окружало. Казалось, кроме тупой ноющей боли, для неё ничего не существует. Она не замечала ни мужа, ни разговорчивого возницу, не обратила никакого внимания и на Бог весть откуда взявшийся сверток, белевший на коленях онемевшего Шлеймке.
Шлеймке не решался заговорить с женой, отвлечь от горестных мыслей. Он и сам был совершенно подавлен и прятал свои отчаяние и растерянность в глубокий погреб за железной дверью молчания.
Цокала копытами послушная Песя, бормотал себе под её цокот какой-то пошлый мотив извозчик, и город, словно в дурном сне, проплывал мимо них, как груда надгробных камней.
— Приехали! — сказал балагур и вежливо попросил Песю остановиться.
Шлеймке расплатился с ним остатками Хенкиного жалованья, и вскоре они сели на рейсовый автобус.
Пассажиров можно было пересчитать по пальцам. Водитель, плечистый, немногословный литовец, в отличие от Песи, никого не щадил. Он не объезжал на дороге ни рытвины, ни выбоины. Машина трещала и подпрыгивала, как громадная лягушка. Хенка придерживала ладонью норовившее вырваться из-под платья разбушевавшееся сердце, а Шлеймке, обхватив руками свёрток, то и дело прижимал его к груди, чтобы тот, не приведи Господь, не упал от неожиданных толчков и от удара об пол не раскрылся бы на виду у немногочисленных пассажиров.
Шлеймке попросил, чтобы на станции их никто не встречал. Встретят и начнут допытываться: что, да как, да почему? Господь Бог не создал евреев, лишённых любопытства. Видно, поэтому они в любое время и по любому поводу донимают бесконечными вопросами не только друг друга, но и Его самого на небесах.
Как говорит Шмулик, каждый нормальный еврей состоит не из плоти и крови, а из сплошных вопросительных знаков.
В маленькой съёмной квартире собрались родственники с обеих сторон. Пригласила Роха и доктора Блюменфельда — мало ли что может произойти с Хенкой, которая ещё не оправилась от несчастья.
— Как хорошо, что ты уже с нами, — сказала моя бабушка своей невестке. — Храни тебя Господь. Всегда и всюду.
— Омейн, — прогудел мой дед Довид.
Его тут же поддержали родители моей мамы, которые дружно повторили за сватами:
— Омейн.
— Все мы желаем вам скорейшего выздоровления, — сказал доктор Блюменфельд, но не мог удержаться от наставления: — Дорогая Хенка, теперь надо забыть всё, что было, и думать о том, что будет. Пожалуйста, не настраивайтесь на то, что солнце навсегда закатилось. Наступит утро, и оно взойдёт.
Хенка в ответ не проронила ни слова. Она смотрела на всех отсутствующим взглядом и улыбалась так, что родные ёжились от её обречённой улыбки.
— Неразумно, дорогая, тушить огонь, подбрасывая в него сухие поленья, — почти шёпотом сказал Ицхак Блюменфельд, а перед тем как попрощаться, добавил: — Оставляю вам этот пакетик с пилюлями. Там снотворное, абсолютно безвредное. Принимайте по одной пилюле на ночь и утречком будете вставать бодрой.
Снотворное Хенка пить не стала и уснула только под утро.
— Шлеймке ушёл. Скоро вернётся, — объяснил ей Шмулик, когда сестра проснулась.
— Куда?
— Не знаю.
Обычно очень разговорчивый, сегодня Шмулик был скуп на слова, хотя знал, что Шлеймке ушёл договариваться с главой похоронного братства Хацкелем Берманом о дне погребения мертворождённого сына.
На обратном пути Шлеймке завернул на Рыбацкую к матери.