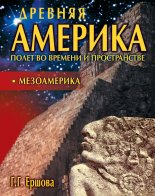Местечковый романс Канович Григорий

— Когда в следующий раз вернёшься оттуда, придёшь к нам и всё без утайки доложишь. Пусть вся моя орава посмотрит на тебя вблизи и послушает, как служится среди литовцев их братцу-кавалеристу.
Хенка долго глядела в согбенную спину удаляющейся Рохи и до самой Ковенской улицы перекатывала в памяти её слова о смотринах, сказанные ещё не надёжной сторонницей, но уже и не непримиримой противницей.
На работу Хенка вернулась в приподнятом настроении. Приглашение Рохи как бы заглушило чувство горечи от неудавшейся поездки в Алитус. Этель с Рафаэлем встретили её тепло.
— Енька! — закричал карапуз, побежал к ней и обвил пухленькими ручками колени.
— Как там ваш солдат? — спросила Этель, которой Хенка доверяла свои сердечные тайны.
— Хорошо. Годик ему ещё остался.
— Год быстро пролетит, — сказала Этель и пристыдила сына: — Рафаэль, перестань тянуть Хенку за подол. Настоящие мужчины себя при дамах так не ведут. Мама закончит разговор, и Хенка будет в твоём полном распоряжении.
— Соскучился малыш, — защитила своего питомца Хенка. — Да и я по нему соскучилась. Мы с тобой, Рафик, сейчас поиграем в кошки-мышки. Ты будешь котик, а я мышка. Я стану от тебя убегать и прятаться, а ты будешь за мной гоняться и, когда я куда-нибудь схоронюсь, искать меня по всем углам.
— Как бы мышка ни пряталась, от зоркого Рафаэля она никуда не скроется, — подыграла ей Этель и спросила у Хенки: — А у твоего кавалериста уже есть какая-нибудь гражданская профессия?
— Да. Он портной.
— Так это же, милочка, великолепно. Без портных и короли, и нищие ходили бы голышом либо в шкурах, как звери. В Париже портные зарабатывают бешеные деньги. Мсье Жак Левит, у которого я там шью, кстати, он родом из Литвы, в прошлом году за пошив платья и жакета не постеснялся взять с меня, жены своего земляка, очень даже приличную сумму. Может, и вы когда-нибудь скажете Йонаве «адью» и переберётесь жить во Францию.
— Да, но Шлеймке не знает ни одного слова по-французски.
— Иголка научит.
— И я никакого другого языка не знаю, — засмеялась Хенка. — Куда уж нам, неучам, в Париж! Дай Бог тут, в местечке, как-нибудь по-человечески устроиться.
Ей стыдно было признаться, что она и на идише пишет с ошибками, без точек и без запятых, потому что начальную школу так и не закончила — надо было помогать измотанной постоянными родами матери ставить на ноги младших сестёр и братьев. Разве может понять, подумала Хенка, эта добрая обеспеченная женщина, которая шьёт себе платья и жакеты не у старика Гедалье Банквечера в Йонаве, а у мсье Жака Левита в Париже, что такое тюрьма бедности? Что это за неволя, из которой так трудно, а порой и до самой смерти невозможно вырваться на свободу?
Этель не стала с ней спорить о тяготах жизни и грамотности, но огорошила неожиданным заманчивым предложением:
— Это не беда, что ты недоучилась. Было бы только желание что-то узнать. У меня масса свободного времени. Не знаю, куда его девать. Читать любовные романы надоело. Я берусь тебя кое-чему научить. Учу же я каждый день своего капризного Рафаэля. Будет у меня не один ученик, а двое…
— Ну что вы, что вы! Спасибо. Вы только со мной намучаетесь. У меня такая тупая голова! В ней всё время сквозняки гуляют, сразу всё выдувают. А потом, простите, с кем я тут буду разговаривать по-французски, если вы с господином Ароном и вашим свёкром отсюда уедете? С балагулой Пейсахом Шварцманом, дамским парикмахером Рувимом Герцманом или с жестянщиком Лейзером Фердсманом, которые и на идише-то говорят с ошибками?
После такого потешного, в рифму, перечисления потенциальных знатоков французского языка в Йонаве Этель разразилась громким смехом и долго не могла остановиться.
— Ну и насмешила же ты меня! Давно так не веселилась.
— Енька, Енька, — нетерпеливо пропищал Рафаэль и снова вцепился в подол няньки, которая оставалась для него большой, приводящей сама себя в движение куклой.
И кукла приступила к своим обязанностям. Пока мальчика не уложили спать, она успешно выполняла роль преследуемой мышки, а он — грозного охотника-котика. Назавтра Хенка перевоплощалась в хитрую лису или пугливого зайца. И так она изо дня в день изображала какого-нибудь обитателя зверинца, о котором слышала, но в котором никогда не бывала.
Тем не менее вышло, что дом Кремницеров стал для Хенки не только местом службы, но и школой.
Деловитая Этель не терпела пустословия и, по возможности, стремилась как-то разнообразить свою бесцветную и монотонную жизнь невольной затворницы. Она с удивительным прилежанием и самоотверженностью взялась за обучение Хенки письму и счету на обоих языках. Этель выписала из Каунаса учебные пособия, купила карандаши и тетради, составила порядок проведения уроков: два часа в день только с Хенкой и ещё полтора часа после обеда — французский язык вместе с проснувшимся Рафаэлем. Так в живом и непосредственном общении и во взаимных разговорах, как учительница надеялась, они смогут усвоить гораздо больше незнакомых слов. Этель подтрунивала над собой — она неожиданно, к своему немалому удовольствию, превратилась из бездельницы в учительницу.
— Как ты не на идише, а по-французски скажешь своему кавалеру «Здравствуй, мой милый», когда снова встретишься с ним в Алитусе? — бывало, спрашивала Хенку Этель.
— Бонжур, мон шер ами!
— Браво! У тебя отличный слух и произношение. С этими словами во Франции ты уже не пропадешь.
Похвалы Хенку радовали, но что за прок в восхвалениях, если чужой язык не понадобится ни ей, ни Шлеймке! К тому же в Париж, по бродившим в местечке слухам, порывается уехать не Шлеймке, а его брат Айзик. Но Хенка не хотела обижать Этель и лишать её развлечения. Богатые тоже нуждаются в жалости и сострадании. Все люди по-разному одиноки. Муж Этель, неугомонный Арон, постоянно отсутствовал — ездил в портовые города, то в Мемель, то в Осло, то в Копенгаген, то в Марсель, то в Киль, а свёкор, набожный реб Ешуа, который был обижен на невестку за её вольнодумство и отказ посещать вместе с Рафаэлем синагогу, каждый день возвращался из неприбыльной москательно-скобяной лавки уставший и уединялся в своей комнате. По вечерам реб Кремницер менял обычные очки в роговой оправе на окуляры с увеличительными стеклами, доставал из старомодного, как и он сам, шкафа, подарочное издание Танаха в тиснённом золотом переплёте и перед тем, как отойти ко сну, переселялся до полуночи из семейного двухэтажного особняка на священные страницы Книги книг. До рассвета он как бы выходил из литовского подданства и перебирался в Иудейское царство, праотечество всех мёртвых и живых евреев.
— Сколько осталось твоему солдату служить? — поинтересовалась как-то после урока Этель.
— Чуть меньше года.
— Уже немного.
— Для кого, прошу прощения, немного, а для кого много, — не согласилась Хенка.
— Прости, что я тебя допрашиваю, но меня очень интересует, что вы будете делать, когда он вернется.
— Жить. Если Шлеймке не передумает, мы поженимся. Он будет шить, а что стану делать я, и сама не знаю. Рафаэль подрастёт, и вы сможете обходиться без меня. — Хенка вскинула голову, поправила волосы, глаза её расширились, как будто она пыталась разглядеть будущее: — Буду нянькой своего мужа, его верной служанкой, его кухаркой…
— Всю жизнь?
— Может быть, и всю. По-моему… — Хенка вдруг осеклась. — До сих пор не знаю, как я должна к вам обращаться…
— Зови меня Этель. Этя. Этка. Как тебе удобнее. Я не барыня.
— По-моему, — продолжала Хенка, — не так важно то, что человек делает и на каком языке он говорит.
— А что важно?
— Может, я сейчас глупость скажу. Но я так думаю.
— Скажи! Я тоже нередко говорю глупости. От глупости никто не застрахован.
— По-моему, самое главное, чтобы тебя любили. И чтобы ты кого-нибудь любил. На свете есть много чего — и народов, и языков, и богатства, и красот всяких, а вот любви меньше всего.
— Вот это да! — выдохнула Этель.
Она не могла взять в толк, откуда у малограмотной дочери местечкового сапожника в её двадцать лет такие мысли, такая выстраданная убеждённость? Что она видела в своей жизни? Париж, Лондон, Берлин? Что читала? Шекспира, Шиллера, Сервантеса? Кто равнодушием или злобой успел ранить её сердце? Этель слушала Хенку и проникалась к ней ещё большим уважением, сравнивала её взгляды со своими несбывшимися мечтами и надеждами. Уже в первые дни Господнего творения на земле меньше всего было любви, а больше — вражды и ненависти, зависти и лицемерия. Любви не хватает на белом свете и доселе, недостает её и в этом тихом и с виду благополучном местечке, где Этель вроде бы катается, как сыр в масле. Побольше бы любви, обыкновенной любви, безгласно повторяла она неподвижными, плотно сомкнутыми губами.
Когда Хенка собиралась, как обычно вечером, уходить домой, Этель попросила её задержаться:
— Останься! Может, сегодня ты не откажешься, и мы вместе поужинаем. Ты ведь до сих пор не могла как следует оценить мои кулинарные способности.
— Ещё как могла!
— Посидим, потолкуем.
Хенка смутилась, ведь ужинать она привыкла не у Кремницеров, а дома, но настойчивое приглашение не отклонила. Да и как его отклонишь, если тебе оказывают такую честь, хотя, по договору, Хенка имела право кушать то, что едят сами хозяева, и обедала у них.
— Сейчас я накрою стол на три персоны, позову свёкра, и мы устроим пир. Мой свёкор очень интересный собеседник и широкой, щедрой души человек.
Стол был застелен вышитой полевыми цветами скатертью. Этель аккуратно расставила тарелки с золотыми ободками и положила приборы — вилки и ножи с костяными ручками. Такие до службы у Кремницеров Хенка и в глаза не видела.
Этель осторожно постучалась в комнату свёкра, но вскоре вернулась оттуда одна.
— Реб Ешуа в последнее время неважно себя чувствует, — сказала она. — У него грудная жаба и больная печень. Но он всё-таки обещал ненадолго выйти. Сейчас я принесу первое блюдо. Ты ведь, кажется, ещё ни разу не пробовала мои вечерние яства…
— Я знаю, что вы прекрасно готовите, Этель.
— Арон говорит, что я лучшая кулинарка во всём Каунасском уезде.
— Это правда, — польстила ей Хенка.
Пока Этель возилась на кухне с первым блюдом — салатом оливье, из своей комнаты вышел ссутулившийся реб Ешуа Кремницер в длинном атласном халате, перепоясанном широким поясом.
— Что-то мне, детка, не можется. Видно, без доктора тут уже не обойтись. Давит грудь, колики в правом боку, — пожаловался он Хенке. — Если я слягу, кто будет вместо меня торговать? Ведь только в субботу со спокойным сердцем можно закрыть лавку, только в святую субботу, на еврейские праздники и в семидневный траур по хозяину-покойнику. Но пока я, слава тебе Господи, не покойник, ещё копчу небо.
— Что вы, реб Ешуа, говорите! Живите до ста двадцати лет!
— Сойдемся с тобой на девяноста. У меня нет возражений.
— И я согласна, — подхватила Хенка.
— Торговец приучен всегда делать скидку. Я, деточка, не жадный. Надо не скаредничать и оставлять другим хотя бы пару лишних годочков сверх того, что им выделил наш милосердный Господь Бог. — Реб Кремницер ел мало, охал, кряхтел, ёрзал на стуле и наконец встал из-за стола.
— Спасибо, Этель. Было очень вкусно, но переедать на ночь вредно.
— Вы же ничего не ели, — упрекнула свёкра Этель. — Как вы будете здоровы?
— Ел, ел. Ты готовишь прекрасно. — Реб Ешуа перевёл дух и, исподлобья глядя то на примолкшую за трапезой Хенку, то на озабоченную его здоровьем невестку, промолвил: — А что, если я попрошу нашу милую нянечку, чтобы она мне, своему рекомендателю и заступнику, оказала услугу и на недельку заменила меня?
— Как заменила? Где заменила? — не сразу сообразила Этель.
— Постояла бы за меня за прилавком. Бог свидетель, я не забочусь о прибыли и не боюсь убытков. Просто мне кажется, что я скорее выздоровлю, если моя лавка останется открытой и кто-нибудь по-прежнему будет в ней торговать и торговаться. К больным продавцам покупатели не ходят. Кому охота вместе с амбарными замками и дверными защёлками приобрести впридачу ещё какую-нибудь неизвестную болезнь…
— Может быть, завтра вам станет лучше… — сочувственно предположила невестка.
— Может быть. Но я, Этель, на это «завтра» никогда в жизни не надеялся. Будущее — самый ненадёжный еврейский банк. Евреи вкладывают в него все свои надежды, а потом оказываются полными банкротами…
— Справишься с ролью продавщицы? — спросила Этель у Хенки. — С моей стороны никаких возражений.
— Не знаю. Я никогда ничего не продавала. Если не справлюсь, уволите меня.
— Научишься! — обнадёжил её реб Ешуа. — Ты же не земельные участки будешь продавать, не дома, не корабельный лес, а мелочь: замки, защёлки, краску, клей. Я давно сбыл бы кому-нибудь свою лавку за бесценок, но хочу общаться с людьми. Хочу, чтобы они ко мне приходили, называли меня по имени, чтобы я им отвечал, потому что, пока глаза видят в зеркале не только самого себя и уши слышат не только свои собственные стоны, ты ещё жив и, может быть, кому-то нужен. Ты, Хенка, не бойся, я уверен, у тебя всё получится.
— Я не боюсь. Бояться надо тогда, когда рожаешь, а не тогда, когда что-то продаёшь.
— Это, во-первых. А во-вторых, ты там не навсегда. Реб Ешуа поправится, и ты вернёшься к нам с Рафаэлем, — ободрила няньку Этель.
Хенка, как и Этель, надеялась, что старик победит свои недуги и снова встанет за прилавок, но её не оставлял страх — вдруг, не приведи Господь, реб Ешуа возьмёт и преставится. Тогда всё рухнет. Арон похоронит отца на местечковом кладбище, поставит ему мраморный памятник, продаст кому-нибудь, тому же домовладельцу Каплеру, москательно-скобяную лавку, бакалею и особняк, сложит чемоданы и уедет с Этель и Рафаэлем в свой ослепительный Париж. А она, Хенка, как говорит её боевитый младший брат Шмулик, останется на бобах, ибо нрав богатых не изменить — они никогда не думают о бедных.
— К тому, что ты получаешь за Рафаэля, я буду доплачивать ещё двадцать литов в неделю, ну а уж если совсем расхвораюсь и не смогу вернуться в лавку… — реб Ешуа не договорил.
— Соглашайся! А мы с Рафаэлем будем тебя ждать, — сказала деликатная Этель, и Хенка сдалась.
Каждый вечер она приходила к своему благодетелю Кремницеру, приносила из лавки мизерную дневную выручку и ещё час-другой играла с Рафаэлем, водила его на прогулку, качала в просторном дворе гимназии на качелях. Если Этель в гостиной зачитывалась новым французским романом о несчастной любви, Хенка укладывала мальчика спать и рассказывала ему сказки собственного сочинения или пела на идише печальные колыбельные песни. Может, он всё-таки вырастет не французом, а евреем.
Реб Ешуа не мог нарадоваться на Хенку и щедро осыпал её комплиментами:
— Из тебя получится замечательная продавщица. Сможешь работать в любом крупном магазине, приносящем доход. Хоть бы и в здешнем филиале столичного «Розмарина» Исера Шнейдермана.
Сеть магазинов колбас и сосисок Шнейдермана была самой большой в Литве.
Восторги реб Ешуа не столько радовали, сколько смущали Хенку. Она, конечно, обязана ему жалованьем няньки, благодарна за доплату, но ей хотелось как можно скорее оставить лавку и вернуться к своему кудрявому барашку — Рафаэлю.
Возвращение реб Ешуа в лавку затягивалось… Болезнь оказалась серьёзной. Доктора Блюменфельда, который одновременно лечил и людей, и — за неимением в местечке ветеринара — животных, все евреи и христиане считали святым человеком, спустившимся в Йонаву с небес по велению Господа. Сорок лет он безвыездно и почти безвозмездно хлопотал тут над больными и увечными. Закоренелый холостяк, второй после местечкового ксендза Вайткуса не вкусивший супружеских радостей, он никогда не брал с бедняков денег за визит и даже частенько покупал им лекарства, которые сам и выписывал. Со своим потёртым чемоданчиком Блюменфельд приходил к больному по вызову в любое время суток. Он-то и посоветовал Этель отвезти свёкра в столицу и показать какому-нибудь профессору в Еврейской больнице. Этель телеграммой вызвала из Копенгагена Арона, и они повезли старика в Каунас. Реб Ешуа госпитализировали, и доктора справились с болезнью — острым воспалением поджелудочной железы — только через два месяца. Здоровье благодетеля Хенки стало медленно улучшаться, но за прилавок он уже не встал. Арон предложил продать лавку. Отец решительно отверг это предложение. Когда умру, сказал, тогда и продадите.
Не потому ли решение больного реб Ешуа доверить ключи от лавки Хенке, которая уже больше двух месяцев работала в его доме нянькой, не стало для земляков неожиданностью? Старик вместо себя за прилавок ни вора, ни растратчика не поставит.
Одной из первых в лавку к сменщице-продавщице нагрянула Роха-самурай. Верная своей привычке резать правду-матку в глаза, она чуть ли не с порога выпалила:
— Продавать замки да уздечки, конечно, лучше, чем вытирать попу чужому ребёнку, но с торговлей шутки плохи! Ты что, с ума сошла? Деньги надо уметь считать! Особенно чужие. Хочешь в холодную попасть? Тогда уж моего сыночка точно не дождёшься.
— Дождусь, — отрезала Хенка. — Может, я в рай не попаду, но уж в тюрьму точно никогда. Если хотите знать, меня госпожа Кремницер научила счёту и письму. Я не такая дурочка, как некоторые думают.
Об уроках французского Хенка благоразумно промолчала.
— С тех пор, как стала хозяйкой в лавке, ты очень задрала нос, ни разу не удосужилась к нам зайти, ни о чём не догадалась спросить, надеялась, что тебе какой-нибудь воробей принесёт в клювике новости и прочирикает их над твоим малюсеньким ушком. Ты даже не знаешь, что в Алитус уже больше ездить не надо, — не то с сожалением, не то со злорадством сказала Роха.
— Что, Алитус, как и Вильнюс, заграбастали эти захватчики — поляки?
— Ты у Кремницеров больно учёной стала! Сначала спроси, почему туда ездить не надо, а потом уж бросайся словечками про поляков-захватчиков.
— Почему? — уступила её напору Хенка, чувствуя свою вину — она и впрямь давно не заходила на Рыбацкую улицу, не спрашивала — просто не хотела мозолить глаза, она ведь ещё не невестка…
— Полк Шлеймке перебросили поближе к нам, к Йонаве, — сказала Роха, — в Жежмаряй — небольшой городок под самым Каунасом. Так он написал. Почему перебросили, понятия не имею. Пока, пишет, это секрет… по-ихнему, военная тайна. Если встретите Хенку, пишет, передайте ей мой привет и благодарность за шерстяные носки, они, пишет, греют, как печка, очень тёплые.
— Хорошо, что связала не узкие, — сказала виноватая Хенка.
— Ты, похоже, ещё до свадьбы все его размеры изучила… — поддела её Роха.
— Вы, Роха, порой такое скажете, что и у глухого лицо алой краской зальётся.
— Не строй из себя святую простоту… Пора привыкнуть ко всем словам — и пресным, и солёным, — улыбнулась неулыбчивая Роха. — Слава Богу, скоро наш солдат перестанет расчёсывать конские хвосты и чистить эти зловонные казармы. Отслужит свой срок и на Хануку с миром вернётся домой.
До светлого праздника Хануки было чуть больше полугода, и Хенка рассчитывала ещё навестить своего возлюбленного в воинской части. Тем более что от Йонавы до Каунаса в погожий день можно было добраться на попутной телеге и даже переночевать у дальних родственников отца — скорняков Дудаков, которые жили не в самом городе, а в предместье Шанчяй.
Всё складывалось у Хенки как нельзя лучше: дорога до любимого кавалериста сократилась, реб Ешуа вроде бы чуть-чуть поправился и, может быть, снова примет бразды правления в лавке, да и отношения с переменчивой, как погода, Рохой — тьфу, тьфу, тьфу, не сглазить бы! — наладились.
И вдруг всё рухнуло.
— Что ни день, какая-нибудь громкая новость! Это, правда, произойдет ещё не сегодня и не завтра, — сказала Этель. — Но, нас, Хенка, кажется, ждут большие перемены.
Хенка затаила дыхание.
— Арон считает, что дальше полагаться только на доктора Блюменфельда при всех его несомненных достоинствах нельзя. Реб Ешуа серьёзно болен и нуждается в опеке более опытных врачей. Муж категорически настаивает на том, чтобы мы продали дом и лавку и переехали куда-нибудь в Европу — если не во Францию, то в Швейцарию или Италию. Там и медицина на высоте, и воздух как бальзам.
— Там, конечно, хорошо, — не выдавая своего замешательства, пролепетала Хенка.
— Будь моя воля, — продолжала Этель, — я бы и тебя с собой взяла. Ты не только замечательная нянька. Ты хороший человек. И по-французски уже немного знаешь…
Этель озорно рассмеялась.
— Спасибо, — сказала Хенка. — Вы меня чересчур хвалите. Я этого никак не заслуживаю…
— Но ты, наверное, всё равно не согласилась бы всё бросить и уехать отсюда.
— Ни за что.
— Я тебя понимаю. Как ни крути, а самая лучшая страна на свете — это любовь. С начала и до конца жизни её населяют всего два жителя, но умные люди эту страну на другие страны не меняют. Если, конечно, в ней царят мир и согласие. — Этель вдруг смутилась своей высокопарности, вытащила из сумки гребень, долго задумчиво расчёсывала русые волосы и, как бы извиняясь за свою откровенность, сказала: — Правда, всё ещё может измениться. Мой свёкр упрям и твёрд, как кремень. Только Богу известно, какие искры из этого кремня можно высечь. Он говорит одно и то же: «Вы, пожалуйста, уезжайте куда хотите, а меня, будьте любезны, оставьте наедине с моей лавкой и позвольте мне умереть тут, в Йонаве, лечь на здешнем кладбище рядом с моим отцом Дов-Бером, моей матерью Голдой, моей сестрой Ханой и всеми моими покупателями, да будет благословенна их память».
— Енька! — раздалось из детской.
Забавляя Рафаэля, Хенка то и дело возвращалась в мыслях к тому, что узнала от его доброй, но не очень счастливой мамы. В этой безграничной стране любви Этель подолгу жила в полном одиночестве, чаще, чем вдвоём с Ароном, занятым продажами, банковскими счетами, векселями и кредитами. Всё на свете смертно, любил он повторять, кроме денег. Деньги бессмертны. Арон, как тот корабельный лес, сплавляемый плотогонами по Вилии и Неману его заказчикам, куда-то сам всё время плыл, минуя Йонаву, отца, Этель и любимого наследника. Думала Хенка и о старом, немощном реб Ешуа, который засыпал за прилавком и, когда покупатели его будили, отряхивался от храпа, как облитая холодной водой дворняга.
Жалко расставаться с такими добрыми людьми, но Хенка за границу с ними отправляться не собиралась. Уедут, так уедут. Счастливого им пути! Она пойдёт к тому же скопидому мельнику Вассерману или к доктору Блюменфельду — квартиру убирать, полы мыть, бельё стирать. Работы боятся только побирушки, которым легче протянуть руку за милостыней, чем взять в неё иголку или шило, рубанок или молоток. Чего Хенка и впрямь всерьёз боялась, так это неожиданных вестей. От евреев ничего не скроешь, ибо у них издревле изощрился слух и обострился нюх на все хорошие и дурные известия. А уж если новость плохая, по еврейскому миру она распространяется с быстротой пожара.
Плохая весть свалилась на Хенку, как только она пришла домой.
— Ты, наверное, уже слышала, что брат твоего солдата навсегда покидает Литву, — сообщил ей отец, не отрывая взгляд от чьей-то прохудившейся подошвы.
— Айзик?
— Он самый. Что и говорить, этому парню в смелости и решительности не откажешь, — пробурчал Шимон. — Айзик первый в местечке еврей, который решил, что лучше быть скорняком в Париже или в Берлине, чем тут, в нашем захолустье. У нас — овчины, у них собольи меха. Там и цены за выделку меха и кожи другие, и воздух другой, и всё иначе.
— Но он же ни с кем не сумеет договориться!
— Всё равно там всё по-другому. А где по-другому, там уже лучше. Сначала Айзик будет выделывать кожи для евреев, которые не забыли маме-лошн, а потом и для французов. В молодой голове всегда, в отличие от старой, умещается больше умных мыслей. Уместится в ней, глядишь, со временем и этот нелёгкий французский язык.
— Шлеймке, видно, из армии не отпустят… Схожу-ка я к ним и попрощаюсь с Айзиком за себя и за него.
— Из армии солдат отпускают только на похороны родителей, — сказал Шимон.
— А это и есть похороны. Для Рохи и для Довида. А ещё поговаривают, что и Лея собирается уехать.
— В Париж?
— В Америку.
— Да, Рохе и Довиду не позавидуешь. В моё, уже давно минувшее время дети были, как арестанты. От родителей — никуда. Ни шагу. Где родился, там, будь добр, живи и умри. А теперь никого в кандалы не закуёшь — выхлопочи шиф-карту и плыви на пароходе, куда заблагорассудится. Хоть во Францию, хоть в Америку, хоть в Аргентину, хоть в Палестину к туркам. Может, ты со своим дружком тоже когда-нибудь от нас упорхнёшь. А за вами, как журавли за вожаком, потянутся братья и сёстры. Только мы с мамой, как замшелые придорожные камни, останемся на месте — камни обречены оставаться там, где лежат…
— Нет, — сказала Хенка. — Мы не уедем.
— Не зарекайся. Человек предполагает, а Бог располагает. — Шимон набрал полный рот маленьких гвоздиков и, выплёвывая их по одному на ладонь, принялся прибивать к изношенному ботинку набойки. — Представляю, как из-за отъезда Айзика переживает бедная Роха, — прошепелявил он. — У родителей лишних детей не бывает. Можно сорить деньгами, а детьми — великий грех. Сходи к Рохе, обязательно сходи и утешь её. Кто знает, может, она на самом деле станет твоей свекровью и бабушкой твоих детей. Ты от своего кавалериста, я думаю, родишь их не меньше дюжины. Твой парень с виду работник, не ленивец.
Шимон, довольный своей шуткой, хихикнул.
— Там видно будет, но я постараюсь. Дюжину не дюжину, а парочку, наверное, рожу. Не для Америки и не для Аргентины, а для вас, — с грустной улыбкой пообещала Хенка.
Возле дома Рохи решительности у неё поубавилось, и Хенка в растерянности остановилась. Неуживчивый, строптивый нрав её будущей свекрови в местечке ни для кого не был секретом. Роха бывает то необыкновенно покладистая и такая мягкая, хоть к ране прикладывай, то злая, как ведьма, а от злости может и наотмашь ударить. Недаром доктор Блюменфельд, лечивший всех её малолетних детей и увлекавшийся на досуге изучением истории далекой Японии, где мечтал хоть разочек и сам побывать, ещё в молодости наградил Роху японским прозвищем Самурай в юбке. Прозвище прилипло — никто не знал, что оно означает, но все понимали, что в нём кроется какой-то нелестный, даже воинственный смысл…
Хенка колебалась: зайти — не зайти, ибо знала, что Роха ценит сочувствие, но не терпит, когда её утешают при свидетелях или при родных, которых она постоянно обвиняла в черствости и равнодушии. После недолгих колебаний Хенка всё-таки решила постучаться в дверь, но под другим предлогом, словно про отъезд Айзика ей ничего не было известно.
В доме кроме Рохи и Довида никого не оказалось. Все словно вдруг сговорились и покинули родной дом.
— Здравствуйте, — сказала Хенка.
— Здравствуй, здравствуй! С чем пожаловала? Может, письмо от Шлеймке пришло?
— Нет.
— Чего же ты тогда разгуливаешь по местечку, мальчишку не нянчишь? Сегодня ведь не суббота, не выходной день.
— У Рафаэля ветрянка. Решила у вас спросить, чем вы лечили своих мальчиков в детстве?
— Отваром петрушки.
— Я скажу об этом Этель. Доктор Блюменфельд выписал Рафаэлю какие-то таблетки, но сыпь пока не проходит…
— Не придуривайся! Я по твоим глазам вижу — врёшь, солнышко, и не краснеешь от стыда. Ты же сюда пришла не из-за ветрянки у Рафаэля. Ведь не из-за ветрянки? Признавайся! Хитрить ты, видно, всё равно уже не научишься.
— И ещё я, конечно, хотела попрощаться с Айзиком, пожелать ему счастья от имени брата, которому не позволят покинуть часть. Казарма — это вам не молельный дом, хочешь — приходи, хочешь — уходи, — промямлила Хенка.
— Проститься и на всякий случай кое-что у Айзика выведать, — сказала Роха. — Не так ли? Только, ради Бога, не ври и не выкручивайся. Хитрости у тебя ни на грош.
— Что выведать? — не на шутку перепугавшись, спросила Хенка.
— Что выведать? Как от матери и отца сыночки и доченьки дёру дают! Может, и вы с моим дорогим Шлеймеле уже тайком надумали крылышки поднять.
— Ничего мы не надумали! Мы никуда не уедем, останемся тут. Честное слово, мы вас никогда, никогда не бросим… — Жалость к Рохе вдруг захлестнула Хенку, и она заговорила с какой-то непривычной ей непринужденностью и раскованностью. — Я понимаю. Вы сейчас никому на свете не верите. Вам больно. А боль, по-моему, сильнее всякой веры. Но если, Бог даст, мы поженимся, то будем с вами до конца…
— До чьего конца? — сверкнула мечом Роха-самурай.
— Может, я не так сказала… Вы уж простите… Это у меня от волнения…
— Ты правильно сказала. Это большое счастье, когда твои дети вместе с тобой до конца.
Роха прослезилась, краем фартука вытерла глаза, зашмыгала выгнутым, как птичий клюв, носом и тихо промолвила:
— Я десять раз рожала. Рожала для себя, а не для Франции и не для Америки. Шестеро из десяти выжили. Думаю, Господь Бог не должен быть на меня в обиде, я плодилась и размножалась. Но пусть не покарает Он меня за мои слова, я в обиде на Него самого и со своей обидой ничего не могу поделать, она меня, как червь, точит. Почему Он сейчас отнимает у меня моих детей? Почему?
Хенка не смела рта раскрыть, стояла перед Рохой навытяжку, как стояли напротив литовской гимназии одетые в новёхонькие мундиры евреи-пожарные при исполнении государственного гимна во время приезда в Йонаву самого президента Сметоны.
— Почему, скажи мне, Всевышний не понимает того, что ты, Хенка, понимаешь с полуслова? Не знаешь? Так я тебе отвечу. Потому что Господь мужчина, а ты женщина, которой предстоит рожать. И ещё потому, что своих детей ты будешь носить не в плетёном лукошке, как грибы-лисички, а под самым сердцем. А может, ещё и потому, что мне иногда кажется, что у Владыки мира вообще нет сердца. Господи, прости меня, грешницу, за моё кощунство и непотребство! Прости! Но кто мне докажет, что это не так?
— Как шутит мой отец, Господь наш слишком высоко забрался. Попробуй из такой дальней дали каждого из нас услышать! Если бы Он, как птица, мог спуститься и сесть на нашу прохудившуюся, с закопченным дымоходом крышу, мы бы точно до Него докричались. А сейчас кричи не кричи, толку никакого.
— Твой родитель не дурак. И ты, честно говоря, стала мне в последнее время всё больше нравиться. Раньше казалось, что ты такая пустышка, вертихвостка, а сейчас вижу, ты девушка серьёзная, работящая, не лживая. Может, ещё в няньки сгодишься не только этому барчуку Рафаэлю Кремницеру, но и своему муженьку. Только с теми, кто хитрее тебя, никогда в хитрюльки не играй! Проиграешь начисто. Ветрянка, видишь ли… Доктор Блюменфельд… таблетки… отвар…
— Поняла, — сказала растроганная Хенка. — А вы, пожалуйста, так не терзайтесь. Айзик вас любит, он станет вам из Парижа письма писать, посылочки посылать, приезжать в гости.
— Если и дальше так пойдёт, будут у нас гостевые дети и внуки… Хорошо ещё, когда тебя покидает один. А если за Айзиком в очереди ещё двое стоят?
Хенка оцепенела.
— И Лея собирается. Не в Париж, а за океан. И Мотл, но тот, слава Богу, нацелился со своей Сарой в Каунас. Только мой бедный Иоселе уже никуда из Калварийской психолечебницы от нас не уедет… Беда одна не ходит. Всегда в обнимку с другой бедой. Ну вот, мы и поговорили по душам. Теперь вся надежда на Шлеймке и на тебя.
— На меня?
— На тебя. Только ты можешь его удержать.
Хенка собиралась ответить, но не успела. Из соседней комнаты вышел в кожаном рабочем фартуке Довид — соскользнувшие на самый кончик мясистого носа очки на тонкой верёвочке, рыжая, посеребренная сединой козлиная бородка; продолговатая плешь на бугристой макушке.
— Дай-ка и я на тебя взгляну. А ты, скажу откровенно, совсем ничего себе… ладненькая, складненькая и сладенькая, как пирожок с маком…
— Старый дамский угодник! — пригасила его пыл Роха. — Чего работу бросил? Наверное, тихонько стоял за дверью и подслушивал наш разговор?
— Роха! Кто же подслушивает птицу? Человек птицу слушает. Пусть Хенка простит меня за откровенность, но мужчину от Парижа или от Америки удерживают не уговоры, не мольбы, а ежовые рукавицы жены и постель. Это проверено веками. Да и ты можешь подтвердить мою правоту, ведь сама эти рукавицы никогда не снимала. Круглый год их носила и в стирку никогда не отправляла, — Довид кончиком лоснящегося носа указал на жилистые руки своей многолетней спутницы.
— Вы только посмотрите на этого мудреца! Ишь, какой знаток женщин вдруг объявился! — возмутилась Роха. — Ступай к своему шилу и молотку, да поскорее! Как-нибудь обойдёмся без твоих советов.
Довид развёл руками, поклонился Хенке и поплёлся назад — работать.
— Ежовые рукавицы и постель! И только! — обернувшись, бросил он на пороге. — Они сильнее всех уговоров!
— Видно, от вечного стука молотком по стоптанным подошвам он совсем рехнулся! Но иногда я могу, скрепя сердце, с ним согласиться, — защитила Роха своего Довида. — Жена действительно должна быть твёрдой. С размазней мужики долго не живут. — Она поднялась со стула, давая понять, что разговор окончен. — Если хочешь пожелать Айзику счастливого пути, приходи в воскресенье в два часа дня на железнодорожную станцию.
— Приду. Обязательно приду.
Провожали Айзика немногие — семья, Хенка да местечковый нищий Авигдор Перельман по прозвищу Спиноза, обычно присутствовавший на всех свадьбах, похоронах, встречах и расставаниях в расчёте на большое скопление жалостливых евреев. На свадьбах он лихо отплясывал вместе с новобрачными, на похоронах скорбел с осиротевшими родственниками и ронял на свежий могильный холм слёзы, на проводах уезжавших из местечка за океан или в другую дальнюю сторону на виду у оставшихся на перроне родителей неистово махал своей длинной, взывающей к милосердию рукой.
— Если отсюда все уедут или разбегутся, кто же подаст бедному человеку? — нараспев повторял Авигдор.
Роха обжигала его своим орлиным взглядом японского самурая, но он не унимался:
— Неужели мне придётся просить милостыню не у своих братьев-евреев, а у гоев? Стыд и позор!
Хенка слушала завывание требовательного, как все на свете еврейские нищие, Перельмана и думала о том, кто же подаст несчастным родителям. Не литами, а надеждой и состраданием.
Поезд на станции Йонава стоял всего одну минуту, и провожающие, опережая друг друга, спешили на прощание обнять и поцеловать Айзика.
Не прошло и полугода, как, не дождавшись возвращения с армейской службы брата-кавалериста, родные пенаты покинула и непреклонная Лея — устремилась за счастьем в золотоносную Америку.
Провожали её на том же травянистом перроне неказистой железнодорожной станции и в том же составе, только без Авигдора, видно, безоговорочно и окончательно разочаровавшегося в щедрости и великодушии еврейского народа.
Когда раздался зычный гудок паровоза и в окне уходящего вагона мелькнула виноватая улыбка Леи, Роха не выдержала напряжения и упала в обморок.
— Роха! Роха! — закричал Довид, и слёзы льдинками застыли в его рыжей бородке.
Её с трудом привели в чувство. Довид и Мотл под руки довели беднягу до дома на неблизкую Рыбацкую улицу и уложили в постель. У Рохи кружилась голова, в полубреду она почём зря поносила совратителей своих детей — Париж и Нью-Йорк, улетала вместе с душевнобольным Иосифом из Калварии туда, где растут пальмы и кипарисы, но чаще всего требовала от темноты, грозовой тучей нависающей над кроватью, ответа на вопрос, зачем и для кого она родила чуть ли не дюжину детей-кочевников?
Мотл сбегал за врачом.
Доктор Блюменфельд, которого в местечке называли не его библейским именем Ицхак, а из почтения по фамилии, достал из всегда бывшего при нём чемоданчика свою волшебную трубочку и воткнул её концы в заросшие волосами уши. Он послушал, что происходит у Рохи внутри, ничего серьёзного там не обнаружил, принялся постукивать молоточком по сморщенным коленям больной, а затем заставил её проследить глазами за движением — влево, вправо — своего ловкого, как у фокусника, указательного пальца и почему-то проверил зрение.
— Нервы у вас, дорогая, шалят. Я выпишу вам успокоительные таблетки. Недельку придётся полежать в постели. Волноваться нельзя ни в коем случае! Ко всему, что происходит на свете, надо относиться философски. Мы при наших возможностях Господний мир к лучшему не изменим, только собственное здоровье подорвём. Как бы мы ни желали мир переделать, можем только чуточку совладать с самими собой. И запомните, пожалуйста: родители своих любимых чад получают не в вечное пользование, а только в кредит, который всегда приходится возвращать — чужой женщине, чужому мужчине, чужой стране и так далее. От того, что вы будете рвать волосы на голове, ничего не изменится. Своих любимцев всё равно не вернёте, только себе навредите.
— Спасибо, доктор, — сказала Роха, не уразумев, о каком кредите Блюменфельд говорит, и благодарно добавила: — Довид вам за ваше внимание и труд даром починит две пары ботинок.
— Это, госпожа Канович, слишком большая плата за мой визит. Я столько никогда не беру, — пробормотал доктор Блюменфельд, аккуратно сложил свои причиндалы в чемоданчик, пожелал больной здоровья, надел шляпу и откланялся.
Возвращаясь от Кремницеров, Хенка всегда навещала Роху и варила обед, который назавтра под присмотром Довида разогревали младшие — Хава и Мотл. Она ходила в бакалею за продуктами, в аптеку за лекарствами, допоздна сидела у постели, утешала больную, делилась с ней горячими местечковыми новостями и слухами.
— Тебя, Хенка, мне Сам Бог послал! — не жалела добрых слов Роха. — Но скажи, почему я такая несчастная? Почему? Двое от меня уже укатили, один, Иосиф, оказался в Калварии, в сумасшедшем доме. А ведь был такой тихий, такой хороший и ласковый… И надо же — вообразил, что он не человек, а крылатая птица, должен жить не под крышей, а на деревьях. Я к нему ездила в начале лета. Иосиф меня узнал и сказал: «Разве, мама, тебе не надоело тут жить? Давай улетим с тобой на юг, где тепло и растут пальмы. Я туда каждую осень улетаю. Как только подует северный ветер, тут же расправляю крылья — и в небо». — «Но у меня, Йоселе, нет крыльев». — «Если ты очень захочешь улететь, они у тебя вырастут».
Хенка тяжело вздохнула и прошептала:
— Мы ведь с ним одногодки и даже родились в один и тот же день.
— Господи, за что мне такие кары? — простонала Роха. — За что?
— Вам доктор запретил волноваться. Иначе вы не поправитесь. Лежите спокойно и ни о чём плохом недельку не думайте.
— Доктор запретил мне волноваться! Лучше бы он мне вообще запретил жить!
— Пожалуйста, ради всех ваших близких, успокойтесь. На Хануку вернётся Шлеймке. Будет у вас в доме настоящий помощник. От Леи и Айзика придут первые письма о том, что они хорошо устроились, что вас не забыли.
— Наверное, с три короба наплетут о своих успехах, врать они оба мастера, — слабо улыбнулась Роха.
— Зачем им врать? О плохих делах родные обычно помалкивают, но своими удачами охотно хвастаются. А через год-другой, глядишь, кто-нибудь из них соскучится и пришлёт вам приглашение в гости. Айзик позовёт в Париж, где жили короли и где живёт самый богатый еврей на белом свете — барон Ротшильд…
— Не нужен мне никакой Париж с его королями и Ротшильдами! Мой Париж тут, в этом местечке, где я родилась и где, несмотря на мой отвратительный характер, когда-то кто-то меня любил и, может, даже до сих пор любит. А кто его, беглеца, там будет любить, какой французский король и какой Ротшильд? Ты вот, если не ошибаюсь, при свидетелях обещала меня любить. И я тебе верю.
— Обещала, — кивнула Хенка. — Не отрицаю. Дудаки слов на ветер не бросают.
— А мне больше, кроме этой самой треклятой любви, от жизни ничего и не надо.
— Каждому человеку надо, чтобы кто-то его любил, — согласилась Хенка. — Но всё-таки стоит ли с такой страстью истязать себя, поносить Бога и проклинать судьбу…
— Ты, как мой Довид. Он, тихоня, взял и однажды бросил мне прямо в лицо: «Роха, ты замечательная женщина, но тебе, как строптивой лошади, нужна уздечка. Выпускать тебя без узды из дома опасно».