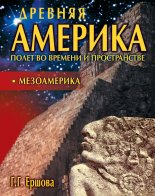Местечковый романс Канович Григорий

— В добрый час! Ты не поверишь, я — избалованная барышня, неженка — всегда мечтала родить кучу детей, но Арон всячески сопротивлялся, мол, сейчас многодетные семьи — пережиток, в Европе и Америке они не в моде. Дескать, такие семьи можно ещё встретить в недоразвитой, дикой Африке и глубоком, скучном захолустье, где у провинциалов кроме этого необременительного и сладостного занятия нет никаких других развлечений. А по-моему, дети никогда не выходили и никогда не выйдут из моды. — Этель вздохнула, помолчала и тихо, как будто самой себе, сказала: — Что ни говори, ты молодец. В молодости рожать намного легче. Даст Бог, будет у нашего Рафаэля друг или подружка. А может, сразу и друг, и подружка.
— Ой! — воскликнула Хенка. — Вы мне так напророчите двойню! Нам бы одного прокормить и вывести в люди… Кого Всевышний пошлёт, того с благодарностью и примем.
— Главное, чтобы всё прошло благополучно. Я, к сожалению, росла совсем одна. Мама, правда, родила двойняшек. Тогда мы жили в Германии, в Берлине, на Фридрих Шиллер-штрассе. Моя сестра Эстер, которая появилась на свет на четверть часа раньше, чем я, не дожила даже до трёх лет…
— А что с ней было?
— Врождённый порок сердца. Сейчас мне кажется, что было бы куда лучше, если бы тогда вместо неё умерла я.
— Так говорить грешно, ведь Господь слышит каждое наше слово. Хозяин жизни, Он может на вас обидеться, а за такие слова ещё и наказать.
— Он уже давно меня наказал. Скажи на милость, разве это жизнь? — вырвалось у Этель, и дальше она уже не могла остановиться: — Живу, как монахиня, под боком свёкор с букетом болезней и премудростей, муж вечно в разъездах… Единственная радость и утешение — Рафаэль.
Хенка не смела её прерывать. Это с Этель бывало. Что-то вдруг нахлынет на неё, и она распахивается настежь. Но хозяйка неожиданно свернула совсем на другую дорожку.
— Я очень рада за тебя. Арон всё время беспокоился о том, кому достанется наш домашний магазин игрушек, которые он привозил для своего любимчика со всех стран Европы. Если у тебя родится мальчик, пусть игрушки перейдут к нему. Надеюсь, ты не откажешься и от гардероба подросшего Рафаэля. Я ничего не выбрасывала, и вовсе не из-за скупости, аккуратно всё складывала для его будущего братика: летние и зимние штанишки, рубашечки с вышивкой, замшевые курточки, шапочки с помпончиками, кожаные ботиночки. Но напрасно старалась… А теперь уж, видно, мне не судьба стать матерью во второй раз. Зачем этому добру зря пропадать?
— Доживём до того счастливого дня… — уклончиво ответила Хенка. — Может быть, родится не мальчик, а девочка. Но я хотела бы поговорить с вами совсем о другом. Не об игрушках.
— Со мной ты можешь говорить о чём угодно.
— Когда я округлюсь, как бочка, за прилавком в таком виде, думаю, не стоит появляться. Придётся найти замену. Реб Ешуа в лавку, к великому сожалению, уже вряд ли вернётся.
— Наверное. Его состояние оптимизма не внушает. Я превратилась в больничную сиделку. Вскакиваю среди ночи и бегу к нему в комнату, чтобы удостовериться, дышит он или не дышит. — Помолчав, Этель с печалью продолжила: — Арон настроен решительно: всё имущество в Литве продать и, несмотря ни на какие отцовские отговорки, переехать в Париж. В последнем письме написал, что еврейские местечки — это вообще вопиющая нелепость, добровольная тюрьма, разве что без решёток и надзирателей, где томятся тысячи евреев. Не пройдёт и полвека, как всё это вместилище бедности, ограниченности и наивной веры в могущество Господа Бога исчезнет с земли вместе со всеми своими обитателями. Евреи, мол, так самой природой устроены, что им нужна не клетка, не огороженный загон, а простор, чтобы можно было развернуться во всю ширь.
— Ого! Куда же, по его мнению, мы все денемся? Улетим, как журавли, в тёплые страны? Или все умрём от чумы? Тут господин Арон, по-моему, что-то не то говорит, — задумчиво сказала Хенка.
— Такой уж он у нас горячий. Всегда с плеча рубит. Может нечаянно срубить даже то, к чему топором и прикасаться-то нельзя.
— Жалко будет с вами расставаться, — пригорюнилась Хенка. — Уж вас-то в Йонаве некем будет заменить.
— До расставания пока не близко. Арон, как ветер, очень порывист и переменчив. Ты успеешь родить, прежде чем с нашим переездом всё окончательно выяснится, — подбодрила её Этель. — Так что пока можешь спокойно работать дальше.
Домой Хенка возвращалась с тяжёлым сердцем. Арон увезёт отца из местечка, и она, будучи в интересном положении, не только лишится отличного заработка, но и верных друзей. Мысленно Хенка отдаляла срок неотвратимого расставания, но у неё не было сомнений в том, что оно, это расставание, скоро наступит. Хоть бы после всех этих передряг её благодетель реб Ешуа остался жив!..
Дома Хенка лишний раз убедилась, что плохая новость в одиночку не ходит — по пути к ней обязательно пристроится какая-нибудь скверная компаньонка.
Слёг отец Шлеймке. У Довида была незалеченная чахотка. Время от времени она давала о себе знать громоподобным кашлем и кровохарканьем.
— Он у меня со дня свадьбы только и делает, что кашляет и кашляет. Такое впечатление, будто, женившись, он мною, словно рыбной костью, подавился. Никогда не забуду, как под хупой мой бедный избранник так раскашлялся, что ни одного слова раввина никто не услышал, — каждый раз рассказывала Роха одну и ту же историю доктору Блюменфельду, за которым Хенка успела сбегать на другой конец местечка.
Доктор наклонился над прикорнувшим Довидом и, не задавая домочадцам лишних вопросов, невесело сказал:
— Как говаривал в Цюрихе мой учитель профессор Людвиг Сеземан: «Картина тут и без вскрытия абсолютно ясна». Я принёс швейцарские таблетки. Принимать их нужно каждые четыре часа, после еды, в течение пяти дней. И постельный режим — лежать в тепле, лежать, лежать и помалкивать.
— У меня много работы, — простонал Довид. — Как я могу лежать?
— Я за тебя поработаю, — отозвалась Роха, и все они вышли в другую комнату. — Не первый раз берусь за шило и молоток.
— Вы умеете сапожничать?
— Если понадобилось бы, я и лошадь сумела бы подковать, а уж подмётки прибить для меня сущий пустяк, — неожиданно похвасталась Роха и дальше обратилась к доктору: — Моя невестка Хенка и дочь Хава будут пять дней готовить для нас еду, а я сяду за колодку. Когда Довид хворает, я всегда вместо него сапожничаю — молоток или шило в руки, шпильки в рот, и вперёд с Божией помощью!
— Вот это да! — восхитился Блюменфельд.
— Нужда всему научит, — сказала Роха и — что бывало редко — растрогалась: — Какое счастье, что вы у нас есть! Что бы мы, доктор, делали, если б вы остались со своим Людвигом в этом Рюрихе?
— Не в Рюрихе, госпожа Канович, а в Цюрихе. Есть такой город в Швейцарии, — поправил её Блюменфельд. — Я не остался там потому, что тут, по-моему, мы чуточку ближе к Господу Богу, да и Он вроде бы к нам ближе, — отшутился доктор. — У истоков реки, у её устья, вода, как утверждают, чище. А ведь наши истоки тут.
— Что-то я, доктор, в местечке Господа Бога пока ни разу не встретила. Может, из-за своей врождённой близорукости не заметила, а может, мы с Ним просто по разным улицам ходим. Когда я топаю по Рыбацкой, он вышагивает по Ковенской. И наоборот!.. — Роха раскатисто рассмеялась и, отдышавшись, сказала: — Хенка, подай, пожалуйста, доктору стул.
— Вы лучше сначала дайте больному первую таблетку, а я ещё минуточку-другую с вами постою.
— Бегу!
И Хенка, обрадованная тем, что, пусть ненадолго, сможет унести подальше свой пока ещё незаметный живот, бросилась с лекарством к затихшему свёкру.
— Если, как вы говорите, Всевышний в Йонаве чуть поближе к нам, грешным, чем к тем, кто живёт в больших городах за границей, почему же здешним людям так нелегко приходится?
— Почему? А потому, что мы ещё тут с вами продолжаем верить в то, что Он неусыпно следит за каждым нашим шагом и печётся не столько о наших кошельках, сколько о наших душах.
— Ага, — буркнула Роха с нескрываемой обидой. — Мог бы Отец небесный позаботиться и о бедняцком кошельке.
— Ничего не попишешь — истинная вера никакими банкнотами не оплачивается. Сами знаете, в чём наша беда.
— Нет, не знаю.
— Беда в том, что золотой телец эту нашу веру уже почти повсюду забодал своими рогами. Но, как человек ни преклоняется перед деньгами, на бессмертие их ни у кого не хватит.
— На завтрашний день не хватает! Что уж говорить о вечной жизни, — сказала Роха.
Ицхак Блюменфельд помолчал и сочувственно оглядел давно не белённые, облупившиеся стены. На одной из них в застеклённой рамке на старом дагерротипе прижимались друг к другу далёкие предки не то Рохи, не то трудяги Довида.
— Я, собственно, остался в Йонаве из-за покойного отца, стряпчего и ходатая Генеха Блюменфельда. Люди ещё должны его помнить, — вздохнул доктор.
— Как же, как же… Ваш отец писал евреям всякие прошения и жалобы на самый верх — то нашему бургомистру, то в Каунас тамошним властям, — охотно подтвердила Роха.
— Отец в письмах в Цюрих требовал, чтобы я приезжал хотя бы на каникулы. «Я стар. Кто знает, может случиться так, что твои каникулы совпадут с моими похоронами», — как-то написал он и пожаловался на недуги и одиночество. Вы не поверите, мои последние студенческие каникулы как раз и совпали с его кончиной. С тех пор я со своей матерью Златой и отцом Генехом, да будет благословенна их память, никогда не разлучался и уже никогда не разлучусь.
Доктор Блюменфельд застегнул пиджак, закрыл чемоданчик и уже у самого выхода промолвил:
— Если реб Довиду станет хуже и снова, не приведи Господь, начнется кровохарканье, сразу дайте мне знать.
— Дадим, — кивнула Роха. — Все давно знают, что, когда требуется помощь, до вашего дома, доктор, намного ближе, чем до дома Господнего, — не преминула ещё раз попенять Всевышнему сварливая сапожничиха.
Целую неделю Роха сидела за колодкой и с остервенением колошматила по ней молотком, словно вымещая накопившуюся обиду на свою незавидную долю. Больной Довид с кровати хрипло подсказывал ей, какую обувь в первую очередь надо чинить, а какая пусть дожидается его выздоровления.
— Начни с набоек на ботинках ксендза… Я обещал его экономке пани Магдалене, что в понедельник будут готовы… У самой колодки кирзовые сапоги балагулы Шварцмана, который клянётся, что у него уже в люльке был тридцать шестой размер, а сейчас — сорок седьмой. Врёт, конечно. Правда, такой огромной клешни я в нашем местечке ни у кого не видел. Но уж не сорок седьмой! Его послушать, так у него всё большое — снизу доверху.
Довид хихикнул.
— Похабник ты, сквернослов несчастный! Я сама без твоих советов разберусь. Не слепая. А ты поменьше болтай. Лежи и выздоравливай. Раскукарекался, видишь ли…
Не переставая восхищаться сапожничьим умением свекрови, Хенка всё-таки старалась не попадаться ей на глаза и, по возможности, держаться подальше от колодки. Она то вертелась на крохотной кухоньке, то спускалась за картошкой в погреб, то выходила во двор, где подкармливала немногочисленную домашнюю живность — красавца петуха с гусарской выправкой и трёх обольстительных хохлаток, которые и в будни, и в праздники регулярно, как по расписанию, несли крупные, в желтизну, яйца.
Управившись с приготовлением пищи и уборкой в доме больного свёкра, Хенка отправлялась к смятенной Этель, которая жила в ожидании команды из Парижа складывать чемоданы и готовиться с немощным реб Ешуа и Рафаэлем в дальнюю дорогу. Домой, к Шлеймке, Хенка возвращалась поздним вечером, чтобы ни свет ни заря снова через всё сонное местечко бежать на Рыбацкую улицу.
Увлечённая в первые дни работой, Роха не обращала на невестку никакого внимания. Надев мужнин кожаный фартук, она прилежно орудовала шилом и молотком.
В понедельник, как и говорил Довид, за ботинками ксендза явилась его экономка пани Магдалена — сухопарая, круглолицая женщина с задумчивыми глазами, подёрнутыми дымкой печали, как будто только что сошедшая с какой-нибудь старинной картины. Она расплатилась с Рохой, отказалась от положенной сдачи, аккуратно положила в сумку ботинки пастыря и, как птичка, пропищала:
— Святой отец просил передать, что он обязательно помолится за здоровье вашего мужа. Он говорит, что за всех мастеров надо молиться. И за евреев, и за христиан. Ведь апостолы наши тоже были мастерами. — Магдалена перекрестилась и добавила никому не понятные слова: — Laudator Jezus Kristus![21]
После её ухода Роха принялась за кирзовые сапоги балагулы. Она всё время что-то бормотала себе под нос, видно, допытывалась у Пейсаха Шварцмана, как это он ухитряется так быстро сбивать подметки — ведь не вышагивает день-деньской по щербатым тротуарам местечка, а восседает на телеге или на облучке и, любуясь лесами и полями, только помахивает хлыстом.
Хенка продолжала метаться от одного дома к другому и по-прежнему играла с Рохой в бессмысленные и утомительные прятки, пока в одно прекрасное утро ей не надоело скрытничать. Ловчи не ловчи — её тайна с каждым днем всё явственнее выпирала под усеянным ромашками ситцевым платьем. Чего ей стыдиться? Она понесла не от безродного цыгана, не от бабника Бердичевского — владельца придорожного кабака, а от собственного мужа — её, Рохи, родного сына!
— Мне нужно сказать вам что-то очень важное, — решив открыться суровой свекрови, начала она и вдруг замолчала, не зная, как всё-таки к ней обращаться: непривычное «мама» трудно вымолвить, а непочтительное «Роха» застывает на губах.
— Что это за похоронный тон? Если ты действительно хочешь сообщить мне что-то важное, говори без всякого стеснения! Голову с тебя никто не снимет! — Роха наставительно подняла палец. — Какие между нами могут быть цирлихи-манирлихи?
— Я жду…
Это всё, что от волнения сумела выдавить из себя Хенка, надеясь на догадливость свекрови.
— Евреи испокон веков всегда чего-то ждут. Кто ждёт Машиаха, кто крупного выигрыша в лотерею, кто наследства от родни из Америки. А ты чего ждёшь, Хенка?
— Я жду ребёнка, — простилась со своей тайной невестка и погладила живот.
— Вот это новость! — воскликнула Роха, вскочила из-за колодки, заваленной обрезками кожи и неиспользованными шпильками, подошла к Хенке и уставилась на неё так, словно видела впервые в жизни. — Не убереглась, значит, — сказала свекровь, скорее радуясь, чем укоряя.
— Не убереглась. Разве с вашим сыном убережёшься? Вы уж меня, растяпу, простите, — вздохнула Хенка.
— За что? — удивилась Роха, от радости забыв о своих предостережениях не торопиться с беременностью. — Неужели надо просить прощения за то, что одним евреем на свете будет больше?
— Может, еврейкой.
— Сойдёт и еврейка. Пошли, порадуем Довида. Радость — самое лучшее лекарство на свете. Жаль, что Бог выдает нам, горемыкам, её по капелькам. И то редко… — Роха вдруг прослезилась. — В добрый час! Будем теперь, Хенеле, ждать с тобой вместе.
Хенка оцепенела — так ласково её до сих пор называла только мама.
Роха сняла фартук, и они обе вошли в соседнюю комнату, где под стёганым ватным одеялом, глядя в потолок, лежал больной Довид.
— Хватит, лентяй, болеть! — пророкотала Роха. — Пора браться за дело и зарабатывать на подарок внуку!
— Внуку? Какому внуку? На какой подарок? Кого-кого, а внука нам с тобой, кажется, ещё не сделали.
— Ты раньше в местечке перед всеми хвастался, каких, мол, мальчиков мастеришь! Оказывается, и твой сынок Шлеймке по этой части тоже мастак. Ты что — не рад?
— Рад, рад. Внуки — это же, так сказать, наши проценты на старости. Сам ничего не вкладываешь, а счет растёт. Хи-хи-хи… — обрызгал Довид жену и невестку мелкими смешками.
— Вы только посмотрите на него! Какие мысли приходят в голову старому дураку! — съязвила Роха.
— Как видишь, приходят. Я свою голову на ночь, как дверь, не запираю. Лежу, смотрю в потолок и думаю о всякой всячине, например о жизни и смерти.
— Ого!
— О том, зачем мы живём на этом свете. Что от нас останется после того, как мы навсегда простимся с молотком и шилом, с метлой и шваброй? А если ничегошеньки-ничего? Если останется только пыль? Так стоило ли вообще родиться на свет? Ради чего? Только ради камня на могиле с твоим выцветшим именем Довид и фамилией Канович? Вот о чём я думаю, когда не кашляю…
— Думай сколько угодно, только не кашляй, — не желая перечить мужу и при невестке подтрунивать над его умственными способностями, сказала Роха, а потом добавила: — Зима на носу. Тогда с тобой, кашлюном, хлопот не оберёшься.
12
Зима 1928 года выдалась в Литве, как никогда, суровой. Озорная, искрящаяся солнечными бликами Вилия, которая вместе со своими притоками обвивала Йонаву, как драгоценным ожерельем, была закована в каторжные кандалы льда. Без передышки мели свирепые, непроглядные метели, а снежные сугробы с каждым днём всё ближе и ближе подкрадывались к окнам вросших в землю хат, заглядывая внутрь и обдавая их обитателей смертельным холодом. К счастью, в местечке всю зиму никто не умирал, похоронное братство бездельничало, отдыхало, а оба кладбища — и еврейское, и католическое — плотно и надолго накрыло общим саваном.
Шлеймке уговаривал Хенку, которая была уже на шестом месяце, в холода ни в коем случае не выходить из дома, сидеть в натопленной комнате и на время отказаться от работы у Кремницеров.
— Простудишься и получишь жалованье не литами, а в виде воспаления легких.
— Из-за морозов Этель отпустила меня на четыре дня и дала мне свою беличью шубку. В такую же стужу она носила в ней своего Рафаэля и ни разу не заболела. И ещё шерстяную шаль впридачу. Можешь не беспокоиться. Ничего со мной не случится.
— Зачем в твоем положении рисковать здоровьем? Обойдёмся без их получки.
— Я не из-за денег…
— А из-за чего же? — терзал её Шлеймке.
— Если я тебе скажу, ты вообще назовёшь меня полоумной, — не уступала Хенка.
Разве он поймёт, что за время службы в доме Кремницеров она превратилась из няньки и служанки чуть ли не в полноправного члена семьи. Этель даже говорила, ещё до свадьбы, что, если Арон всё-таки настоит на своём решении и они переедут во Францию, она с радостью возьмёт с собой и Хенку.
Несмотря на все старания Шлеймке и поддакивания Шмулика им редко удавалось её переубедить. Вот и на этот раз мужчины были вынуждены признать своё поражение. Увязая в снегу и ёжась от стужи, Хенка отправилась к своим подопечным.
В особняке Кремницеров на неё из всех углов веяло неизбывным унынием. Этель было трудно узнать. Она вдруг состарилась, скукожилась, то и дело судорожно запахивала пушистую кофту, словно старалась унять озноб, хотя в гостиной было тепло. Истопник Пятрас по утрам и вечерам исправно разжигал огонь в кафельной печи и в камине. И реб Ешуа до неузнаваемости похудел, с трудом передвигался по комнатам, опираясь на свою любимую палку с набалдашником — не то миниатюрным крокодилом с плотоядно разинутой пастью, не то допотопным ящером. Кремницер садился в обитое плюшем кресло и, не моргая, неотрывно смотрел на роскошную люстру, как на далекую планету, куда, казалось, он и сам скоро собирается переселиться. Иногда он нечленораздельно, как ещё совсем недавно изъяснялся его маленький внук Рафаэль, подзывал Этель или Хенку:
— Пипи, пипи.
Одна из них, чаще Хенка, реже Этель, отводила его в туалет. А иногда, чего греха таить, они не поспевали.
Когда реб Ешуа ещё не заговаривался, он часто говорил им, что очень хотел бы умереть не где-нибудь на чужбине, а на родине, в Йонаве, и упокоиться на здешнем кладбище. Там, где, по его глубокому убеждению, ещё существует невидимая глазу жизнь мёртвых. Там, где после смерти он окажется среди своих близких — матери Голды, отца Дов-Бера, брата Исайи, многочисленных друзей и благодарных покупателей. А с кем, спрашивал реб Ешуа, он будет общаться на кладбище в Париже или в Берлине? С жуликоватым торговцем недвижимостью, который давным-давно забыл родной идиш? Или с заносчивым банкиром, который по утрам ни с кем не здоровался? И не доказывайте мне, уверял реб Ешуа, что мы из праха вышли и в прах превратимся! Человек, если он не куча костей с наросшим слоем мяса, никогда весь не умирает. Он и после смерти нуждается в обществе милых его сердцу людей…
Беспомощность реб Ешуа, его беспамятливость угнетали Этель. Боясь, что свёкор действительно умрёт и все похоронные хлопоты лягут на её плечи, она посылала Арону в Париж тревожные телеграммы с настойчивыми просьбами срочно приехать в Йонаву. Тот обещал, называл даже конкретные даты, но всегда находил какую-нибудь важную причину, чтобы отложить приезд.
— Видно, его задерживают дела, — заступалась за Арона Хенка. — Да реб Ешуа пока и не собирается нас покидать.
— Дела, дела, — повторяла Этель. — Какие могут быть дела, когда отцу так плохо… — И вдруг с болью выпалила: — У него там, видно, появилась женщина.
— Моя мама говорит, что разлука похожа на цыганку-гадалку. Мало ли чего она может нагадать! Не спешите верить её предсказаниям, — сказала Хенка и обняла Этель.
Реб Ешуа смирно сидел в своем кресле, вертел палкой с жутковатым набалдашником, полуослепшими глазами смотрел на висящую над обеденным столом потухшую планету и бессмысленно улыбался. От этой улыбки Этель ещё больше ёжилась.
Только Рафаэль прыгал в гостиной со скакалкой и, счастливый, сбиваясь со счёта, учился успешно преодолевать первые в своей жизни препятствия.
На исходе зимы Арон внял просьбам жены и прибыл в Литву. Дома он всех шумно расцеловал и одарил привезёнными из Парижа гостинцами. Рафаэлю торжественно вручил огромного плюшевого медведя, Этель — дорогую жемчужную брошь. Для отца приволок в чемодане груду новых лекарств, а Хенке преподнёс летнее шёлковое платье в горошек, с воланами и пояском. Не теряя времени, Арон объявил, что долгий период жизни семьи Кремницеров, перекочевавшей из Германии, из родного Дюссельдорфа, в Литву и обосновавшейся в Йонаве два с половиной века назад, вскоре придёт к своему естественному историческому концу.
— Папу я увезу и устрою в престижный дом призрения с круглосуточным медицинским обслуживанием. А пока не продадим дом и лавки, тебе, Этель, надо набраться терпения и подождать. Скоро я и вас заберу. — Арон глянул на Хенку и, улыбаясь, добавил: — Взял бы и Хенку, но её муж вряд ли отпустит с таким ответственным грузом.
— Не отпустит.
Арон шутками, улыбчивостью, скороговоркой старался сгладить свою врожденную сухость и деловитость.
— Доктор Блюменфельд — хороший специалист, спасибо ему, но в Париже, я полагаю, врачи более опытные. На чудо в нашем случае, увы, надеяться не приходится, но, может быть, под наблюдением именитых французских эскулапов папа ещё немножко продержится.
— Папа хотел остаться на родине, — осторожно вставила Этель. — Вместе с мамой…
— На родине? — переспросил Арон. — А где, по-твоему, наша родина? Там, где мы родились и где наша единственная привилегия заключается в том, что нас хоронит хевра кадиша[22] под звуки древней молитвы? Или там, где мы не отщепенцы, не изгои, не дармоеды и нахлебники, которых винят в подрыве всяческих основ и во всех смертных грехах? Нет! Родина там, где нас не лишают возможности жить без всякого клейма, жить и развиваться не по кратковременной барской милости, а по прирождённому праву наравне со всеми!
— Нет для нас такого места, — спокойно сказала Этель. — Нигде. Ни в Литве, ни во Франции…
— Не буду с тобой спорить, но, что касается отца, другого выхода я не вижу. Я не могу оставить его в таком состоянии на попечении милого доктора Блюменфельда, который, кстати, и меня в детстве лечил от кори и скарлатины.
— Поступай так, как велит тебе сердце. Это же твой отец, Арон. К сожалению, его самого уже не спросишь, хочет он в Париж или не хочет.
— Уверяю, долго вам ждать не придётся! У меня уже есть на примете хороший, сговорчивый покупатель. Как только окончательно договорюсь, тут же приеду за вами. Вы, наверное, думаете, что мне в Париже без вас лучше, чем с вами. Глубоко ошибаетесь!
А как же с гаданием цыганки-разлуки насчёт измены, вдруг мелькнуло в голове у Этель, и, хотя полностью эти подозрения она не отвергла, первый раз в них серьёзно усомнилась.
В Йонаве Арон Кремницер пробыл целую неделю, был чрезвычайно ласков и внимателен к каждому, сходил с Этель на еврейское кладбище и поклонился заснеженным памятникам матери и дяди Исайи. Отогревшись у пышущего жаром камина от стужи и кладбищенской печали, он — в который раз! — попытался заговорить с отцом, но тот снова не узнал его, как будто перед ним был не сын, а прохожий бродяга. Старик молчал и по-прежнему разглядывал свою далекую манящую планету.
Перед тем как уехать с впавшим в детство отцом из Йонавы в Париж, Арон решил встретиться с доктором Блюменфельдом, ведь тот назубок знал все болезни своего давнего пациента и партнёра по воскресному бриджу реб Ешуа.
— От беспамятства, к сожалению, лекарств у медиков нет. Ещё не изобрели. Возьмите с собой препарат для улучшения сердечной деятельности. Не помешает и пакетик со снотворным. Дорога ведь до Франции неблизкая.
Проводы были скромными. Реб Ешуа укутали в семь одёжек, вывели из дома под руки и усадили в машину, которую Арон вызвал из Каунаса. Этель со свёкром устроилась на заднем сиденье, а сам лесоторговец сел рядом с водителем — тем же сумрачным литовцем, который привёз на свадьбу Хенки новёхонький «Зингер».
Хенка и зацелованный родителями Рафаэль стояли возле машины и с грустью смотрели, как Арон и Этель усаживаются. Хенка шмыгала носом, вытирала глаза и удерживала мальчика, рвавшегося к автомобилю.
— Мама скоро приедет! Она только проводит дедушку на поезд и вернётся, — успокаивала его Хенка и уже откровенно плакала.
Рафаэль покосился на неё и стал махать отъезжающим варежкой. Машина, словно недовольно, заурчала, обдала их голубым облачком газа и лихо рванулась с места.
— Почему ты, Енька, плачешь? — спросил Рафаэль, так и не научившись правильно выговаривать её имя, когда та в детской укладывала его спать.
— Я не плачу. Это снежинки попали мне в глаза и растаяли…
— А почему мама и папа меня поцеловали, а дедушка нет? Он всегда меня целует.
— Доктор запретил дедушке целоваться. У него болит горло, — неумело отбивалась Хенка.
— А почему он со мной не разговаривает, молчит и молчит? — не унимался упрямец.
— Потому что дедушка всё, что хотел сказать нам всем, уже сказал. Когда, Рафаэль, и мы станем старенькими и уже всё друг другу скажем, мы с тобой тоже замолчим, как дедушка. А теперь, миленький, тебе пора спать! — сквозь слёзы пробормотала Хенка, не надеясь, что мальчик на самом деле что-то понял из её мудреных рассуждений.
Уложив Рафэля в кровать и насытившись его молниеносным посапыванием, Хенка легла на диванчик рядом и стала молиться за своего благодетеля реб Ешуа. Но это не было молитвой в обычном смысле слова — это был беззвучный, с глазу на глаз, разговор с Господом Богом.
— Господи! Реб Ешуа Кремницер был у нас в местечке Твоим достойным посланцем и заслужил Твоей великой милости, — шептала в темноте Хенка. Она была уверена, что её мысли передаются по ночному воздуху Вседержителю прямо на небеса. Прислушиваясь к тишине и словно дожидаясь внятного отклика на свою мольбу, Хенка стала перечислять все достоинства и добродеяния реб Ешуа Кремницера.
Но тут разговор вдруг оборвался — Рафаэль заворочался и несколько раз громко чихнул. Хенка вскочила со своего нагретого ложа, накинула мальчику на ноги поверх одеяла шерстяной плед и снова обратилась к Господу — единственному во всём местечке слушателю, который никогда не возражает своему собеседнику.
— Почему же Ты, Всемогущий, не удостоил Своей великой милости реб Ешуа? — укоряла она Владыку мира, как укоряет соседка провинившегося соседа. — Может, забыл об этом из-за того, что Тебе со всех сторон докучают бесконечными просьбами? Но сейчас, прошу Тебя, сейчас вспомни о нём и облегчи его страдания. Не гневайся на меня, Отец небесный, растолкуй мне, пожалуйста, почему Ты чаще наказываешь бессилием и немотой тех, кто служит Тебе верой и правдой, чем тех, кто унижает Тебя лицемерием и ложью, хотя и клянется Тебе в любви и почитании?
Мальчик тихо посапывал, а нянька ещё что-то, словно в полубреду, бормотала и сама не почувствовала, как уснула под это безмятежное сопение Рафаэля.
Но Господь Бог, о котором Хенка теперь думала чаще, чем когда-либо раньше, может быть, из-за того, что ждала ребенка, а может быть, просто из жалости к больному реб Ешуа, явился ей во сне. Всевышний почему-то смахивал на доктора Блюменфельда, только без чемоданчика, без очков в роговой оправе и был совсем по-другому одет. Доктор Блюменфельд носил вельветовый пиджак с потёртыми на локтях рукавами, сшитый Абрамом Кисиным много лет назад, а Господь Бог был одет в белоснежную тунику из прекрасного литовского льна. Хенке снилось, будто Господь и Блюменфельд встретились в палисаднике синагоги. Они все стояли рядом — она, Господь Бог и доктор Блюменфельд, который всегда заступался перед Отцом небесным за реб Ешуа и воздавал ему хвалу за благотворительство и другие добродеяния, не забыв при этом упомянуть и подаренную Шлеймке на свадьбе заграничную швейную машину «Зингер».
— А кто тебе, Хенка, сказал, что я покарал реб Ешуа Кремницера? — удивился Господь и снисходительно глянул на неё. — Ничего подобного! В самые трудные минуты я воодушевлял и поддерживал высокочтимого реб Ешуа. Ты, наверное, хочешь попросить за него. Так не стесняйся — проси!
— Прошу Тебя, чтобы реб Ешуа живым добрался до Парижа, — взмолилась Хенка.
— Он доберётся до Парижа, — ответил Бог. — Обязательно доберётся.
Шлеймке и Шмулик не верили в её причудливые сны, которые Хенка сама сочиняла, когда укладывала Рафаэля, стараясь придуманными байками скрасить не только свои серые будни, но и невесёлую жизнь родных, но на этот раз её сон оказался вещим, и всё счастливо совпало — реб Ешуа с Божией помощью и впрямь живым добрался до Парижа.
Через неделю после отъезда реб Ешуа Этель, окрылённая обещаниями мужа, поспешила поделиться с Хенкой благими вестями от Арона из Парижа:
— Реб Ешуа сразу после приезда поместили в один из лучших тамошних домов призрения. Его состояние по-прежнему очень тяжёлое, но не безнадёжное.
— Чтоб не сглазить!
— И переговоры о продаже нашего имущества, кроме лесных угодий, вроде бы продвигаются вполне успешно. Сделка должна состояться ближе к весне. Скоро, как уверяет Арон, мы будем все вместе, а Рафаэль пойдёт в первый класс уже не к фанатичному приверженцу идиша Бальсеру в Йонаве, а во французскую школу в Париже.
— Грустно будет расставаться, — сказала Хенка.
— Мне уже и сейчас грустно, — призналась Этель. — Если уж Арон посоветовал понемногу избавляться от лишних вещей, стало быть, расставание действительно близко. Он у тебя как-то спрашивал, кому бы отдать все вещи и игрушки нашего шалуна, когда тот вырастет… Ну, с игрушками всё, по-моему, ясно. Ты их, конечно, заберёшь.
— Сначала надо родить. Свекровь говорит, что, пока цыпленок не вылупился, грех думать о его оперении. Она суеверная. Когда чёрная кошка перебегает дорогу, Роха застывает на месте, как снежная баба, а потом, оттаяв от страха, сворачивает в переулок.
— А сколько тебе осталось ещё ходить? — спросила Этель, не проявлявшая к Рохе никакого интереса.
— По моим расчётам, я должна рассыпаться весной — в середине марта или в апреле. Так говорит и наша знаменитая повитуха рыжая Мина. Через её руки прошла половина евреек в местечке. Больше у нас не к кому обращаться. Доктор Блюменфельд лечит женщин только до пояса, — и Хенка залилась смехом.
До весны ещё было недели две-три, но зима уже начинала чахнуть. Ночами кое-где выпадал нестойкий снег, а днём всё чаще припекало весёлое беззаботное солнышко.
Единственным подлинным провозвестником приближающейся весны старожилы Йонавы по справедливости считали беднягу Авигдора Перельмана.
— Для нищих зима — погибель, — однажды в лютый январский мороз объявил Авигдор пленённому им ненадолго добряку Шлеймке. Молодой мастер и в прошлом сдавался ему — ни разу не проходил мимо Перельмана, не подав ему какую-нибудь монету, и пользовался у старика большим уважением. — Морозы, метели, сугробы по колено — всё это, извините, не для нашего брата, это для нас всегда оборачивается громадными убытками, — продолжал Авигдор. — Сидишь, чёрт возьми, целыми днями дома, грызёшь вместо французской булки свои ногти и ждёшь, когда же птички защебечут, когда ручьи потекут, когда деревья зазеленеют. А весной, как ни крути, наш народ добреет, весной евреи свои кошельки куда охотней раскрывают. Весной, Шлеймке, даже собаки на нас, нищих, тише лают. Выйдешь на улицу — благодать, дыши полной грудью, протягивай на каждом шагу руку. А если тебе соплеменники ничего и не подадут, хоть пальцы, как зимой, не обморозишь.
И всё-таки чахнущая зима сдаваться без боя не хотела. Она трепала Йонаву студёными северными ветрами и лупила её градом. Но в очнувшееся от спячки местечко на панихиду зимы с пересвистом, курлыканьем и цвеньканьем уже слетались стаи пернатых.
Слетались отовсюду в Йонаву не только птахи, но и добрые весенние вести.
Почтальон Казимирас, завзятый собиратель заграничных марок, принёс в дом Рохи сразу два письма: одно из Франции, другое — с вложенным странным листком — из Америки.
— Это, Казис, что за листочек? — Роха при почтальоне открыла письмо и уставилась на непонятные знаки. — Это, по-твоему, на каком языке написано?
— На денежном. Чек вам из Америки на пятьдесят долларов прислали, — объяснил Казимирас Рохе и, глянув на обратный адрес на конверте, сказал: — Какой-то Леа Фишер.
— Лея Фишер! Это не мужчина, а наша дочка! Ну уж если фамилия новая, стало быть, Леечка вышла замуж!
— Что ни говорите, а дети у вас, у евреев, хорошие. Они пишут родителям отовсюду, иногда присылают деньги. Не то что наши олухи.
— Да и от наших не ото всех помощи дождёшься.
— Боже мой, сколько ваших уже укатило в Америку, Уругвай, Аргентину, Бразилию, — вздохнул Казимирас, — но родной дом они всё-таки не забывают. Может, я не прав, но, если бы не эмигранты, нашу местечковую почту, наверное, давным-давно закрыли бы на замок. Нечего было бы мне разносить, и лишился бы я куска хлеба. Разживутся за границами ваши сыновья и дочери и вас заберут отсюда. Останется Йонава, а может, и вся Литва без евреев.
— Не останется Йонава без евреев. Что бы ни случилось на свете, один еврей в Йонаве всегда останется — это Господь Бог, — сказала Роха. — Так что голову себе, Казис, напрасно не морочь, успокойся. Почту твою на замок не закроют. Лучше после субботы приходи за марками. Я их для тебя приберегу, но отклеивать будешь сам.
13
Каждый раз, когда быстроногий Казимирас приносил на Рыбацкую письмо из Америки или Франции, Роха принималась печь свой фирменный пирог с изюмом и устраивала дома торжественное чаепитие для всех оставшихся в местечке родичей. Самым грамотным из детей был Шлеймке, который всё-таки умел читать и сносно писать на идише. Когда-то в хедере он — хоть с ленцой, хоть не ведром, а половником — успел почерпнуть кое-какие знания у сурового меламеда[23] реб Зусмана. Реб Зусман частенько награждал своего ученика ударами линейкой по рукам за то, что тот не смотрел в Танах, который был раскрыт на Божиих заповедях и который учитель заставлял зубрить, а таращился в окно на дерущихся из-за хлебных крох голодных суматошных воробьёв. В армии Шлеймке подучился у сослуживцев литовскому языку и мог изъясняться на нём, правда, с сильным акцентом и ошибками в падежах. Ему-то обычно и выпадала в семье честь первому просматривать все казённые бумаги и читать приходившие из-за границы письма. Пробегая глазами всё написанное и опуская несущественные подробности, Шлеймке делал самовольный отбор и, не затягивая чтение, всячески старался приблизить приятный момент расправы с пирогом. Обычно он ограничивался только кратким пересказом содержания того, что написали в своих письмах брат и сестра.
— Итак, слушайте, — возвестил он, косясь на ещё не начатый соблазнительный пирог. — Наша недотрога Леечка не только удачно вышла замуж, но вместе с мужем Филиппом открыла в Бронксе лавку. Для продажи они выбрали ходовой товар — миндаль, инжир, изюм, грецкие орехи, чернослив, урюк, финики, фиги, апельсиновые корочки в сахаре, пряности. И, слава Богу, не ошиблись. Спрос на сухофрукты и приправы превзошёл все ожидания. От покупателей — польских, румынских и русских евреев — нет отбоя. Купили Фишеры и двухкомнатную квартирку, расположенную, правда, в негритянском квартале. Только выглянешь в окно, пишет Лея, только шагнёшь за порог, и тебе тут же померещится, что ты сам через минуту весь измажешься слоем сажи.
Смех за столом позволил Шлеймке глотнуть чаю и отведать кусочек маминого пирога.
В конце письма Лея просила у всех прощения за то, что на праздник Пейсах посылает только десять американских долларов. В будущем году, если эти чёрные соседи-громилы из снедаемой их зависти не подпустят красного петуха — не подожгут лавку и если доходы будут, к нашей общей радости, расти, Лея клятвенно обещала свой пасхальный подарок увеличить вдвое. Шлеймке закончил пересказ и сделал передышку.
— А дальше что? — спросила Роха.
— Дальше? А дальше наша щедрая Леечка каждому из нас по старшинству, начиная с её горячо любимого отца и заканчивая сестричкой Хавой, шлёт не доллары, а сердечные приветы из Бронкса, добрые пожелания и нежно всех обнимает и целует.
Объятия и поцелуи не вызвали такого восторга и благодарности, как чек на пятьдесят долларов, и все дружно и охотно «эмигрировали» во Францию, чтобы выслушать, какими добрыми вестями их порадует Айзик.
Съев очередной кусок пирога, Шлеймке взялся за письмо брата. Никакого денежного чека, к большому сожалению, он не обнаружил, но вынул из конверта открытку, на которой была изображена высокая арка, украшенная скульптурами и барельефами. Шлеймке, не мешкая, пустил её по кругу.
— Эти французы с жиру бесятся, строят посреди города Бог весть что. Разве такая постройка пригодна для жилья или для того, чтобы укрыться в непогоду от ливня? — проворчала Роха, посмотрев на открытку и протянув её мужу. — Кому, объясните мне, понадобились эти дурацкие разукрашенные ворота?
— Минуточку, минуточку! Сейчас мы всё узнаем, — сказал Шлеймке и после непродолжительной разведки миролюбиво объявил: — На обратной стороне открытки Айзик собственноручно сделал приписку на идише: «Эту великолепную арку возвели в честь прославленного французского императора Наполеона».
Никто из сидевших за столом о Наполеоне толком не знал. Всех интересовали не арки-шкварки, как выразилась языкастая Роха, не императоры, а то, как в этом самом Париже живут-поживают Айзик и Сара.
— И это, Шлеймке, всё, что после такого долгого перерыва соизволил нам написать твой старший братец? — возмутилась Роха.
— Ещё он написал, что дела у них, только бы не сглазить, идут неплохо. Хозяин скорняжной мастерской — прижимистый мсье Кушнер, оказался не таким уж жадным, он повысил Айзику жалованье на целую треть. Айзик с Сарой намереваются скопить немного франков и на недельку приехать в гости в родную Йонаву или провести свой летний отпуск где-нибудь вблизи нашего местечка, на озёрах. А пока пусть все родственники, дай Бог им здоровья, полюбуются дивными красотами неподражаемого Парижа.
— Приедут в гости, когда нас на свете не будет. Положат камешек на могилу и спокойно вернутся в Париж к своим дивным красотам, — с нескрываемой горечью сказала Роха.
— В конце письма Айзик написал, что они с Сарой уже серьёзно подумывают обзавестись наследником, — попытался утешить приунывшую мать Шлеймке.
— А чего тут подумывать? — вставил своё слово молчун Довид. — Тут нечего долго думать, тут мужчине надо дело делать! Взяли бы, Шлеймке, с тебя и с Хенки пример, и вперёд!
Чтение писем в родительском доме обычно перемежалось сетованиями Рохи на судьбу-злодейку и горькими слезами. Как ни странно, от благополучных сообщений Айзика и Леи она испытывала не столько естественную радость, сколько обострённое чувство безвозвратной утраты. Её вдруг охватывали неодолимая, смешанная с обидой тоска и безудержное желание выместить свою злость на тех, кто её оставил.
— На кой мне эти их чернильные нежности и объятия, эти их неживые поцелуи, эти открытки? — вскипела Роха. — На кой мне эти инператоры и чужие красоты, которых я никогда в жизни не увижу? На кой мне их доллары? Ведь того, чего я больше всего хочу, этого нигде за деньги не купишь, это не продаётся ни в Америке, ни в Париже, ни в Йонаве! — Она тяжело задышала, открытым ртом хватила воздуха и прохрипела: — Если вы такие уж умники, ответьте мне, о каких детях, по-вашему, мечтает каждая еврейская мама? О бумажных? Из писем с заграничными штемпелями? Со снимков за два франка? Или еврейской маме нужны дети из её плоти и крови?
После этих слов тишина за столом, казалось, смёрзлась в лёд. И вдруг в этой мёрзлой тишине, как тёплый дымок из трубы в холодное зимнее утро, взвился тихий голос её невестки.
— Уж извините меня, мама, но вы к ним несправедливы, — Хенка впервые назвала её так, как до сих пор называла только свою собственную родительницу. — Не обижайте их напрасно! Сейчас, когда сама жду ребёнка, я понимаю, как вам больно, очень больно. Ничего не поделаешь, так устроена жизнь, она дарит, и она же отнимает подаренное. Разве важно, где ваши дети любят вас — на Рыбацкой улице или за тысячи километров отсюда? Главное, по-моему, чтобы они везде были счастливы.
— Посмотрим, что ты, Хенка, запоёшь, когда у тебя отнимут самое дорогое, — не осталась в долгу Роха.
— По-моему, для матерей, страдающих от разлуки с детьми, нет на свете выше награды, чем их благополучие и счастье.
Пирог с изюмом до конца не съели и разошлись, не поссорившись, но и не примирившись в разногласиях.
— Молодец! — похвалил жену по пути домой Шлеймке. — Это ты здорово ей сказала — главное, чтобы дети были счастливы, неважно, в Йонаве или в Нью-Йорке. — Он помолчал и, покосившись на увеличившийся живот Хенки, спросил: — Сколько осталось?
— Мало. Совсем мало.
— Ты не собираешься ещё раз показаться этой рыжей кудеснице — Мине? Надо бы. Глаз у неё намётанный. При родах всякое случается, сама знаешь. Бывает, что приходится в Каунас ехать. Я ради спокойствия поговорил со своим одногодком — Файвушем Городецким. У него легковой автомобиль, при необходимости он отвезёт нас в Еврейскую больницу; как-никак друг, вместе футбольный мяч за казармой на пустыре гоняли.
— Собираюсь. По ночам он так колотит ножками, как будто требует, чтобы его немедленно выпустили, — сказала Хенка.
Рыжая Мина по профессии была белошвейкой и зарабатывала на хлеб насущный шитьём сорочек с кружевами, а вовсе не родовспоможением. Помощь роженицам она оказывала из милосердия, без всякой корысти. Сама Мина никогда не рожала, рано овдовела. Муж её — печник Гершон Теплицкий — в молодости утонул в Вилии, и с тех пор несчастливица старилась одна.
— Детей у меня в Йонаве не счесть, — горько шутила Мина. — Правда, у всех у них другие мамы.
Дородная, с мужскими, мускулистыми руками, копной рыжих волос, упрямо не желавших седеть, Мина по первому зову спешила на помощь не только к роженицам-еврейкам, но и к местечковым литовкам и даже женам староверов, живущих в окрестных деревнях. Кроме неё в Йонаве не было ни одной иудейки, которую благодарные христианки непременно приглашали на крестины своих младенцев.
Жила Мина напротив синагоги в одноэтажном кирпичном доме, унаследованном от состоятельных родственников утонувшего мужа. Гостью она знала со дня её появления на свет, потому что принимала у Хенкиной мамы все роды, а печник Гершон приходился Шимону Дудаку троюродным племянником.
— Давно меня тут дожидаешься? — спросила подоспевшая Мина Хенку, которая долго прохаживалась вокруг её дома и заглядывала в занавешенные окна: не шевельнутся ли на них занавески?
— Нет.
— Дождь ли льёт, вьюга ли воет, я, душечка, обязательно отправляюсь в синагогу на утреннюю молитву. Утром Господь Бог ещё бодр и внимателен к молящимся. К вечеру Он очень устаёт, как и все старики. А мне, старухе, хочется, чтобы Он выслушал первой не жену мельника Вассермана, а меня. Ведь больше, как подумаешь, в нашем местечке и поговорить-то по душам не с кем. Все разговоры — о деньгах или о болячках. Болячек у всех всегда много, денег у всех всегда мало. Ну ладно, пошли в дом! Во дворе только куры с петухами переговариваются.
Хенка вошла в чисто прибранную комнату с вазончиками герани на подоконниках, застеленным цветастой скатертью столом и массивным, из добротного дерева, комодом. На недавно побелённой стене висела единственная фотография — молодой смеющийся Гершон в рамке, покрытой сусальным золотом.
— Садись, — предложила Мина и подвинула гостье стул. — Ты ещё, видно, по утрам беседуешь не с Отцом небесным, а со своим муженьком в постели.
Хенка промолчала. Начало её обескуражило. Она пришла сюда не за тем, чтобы вести такие разговоры, но Мина вернулась к божественному.
— Я тоже с Ним не говорила до страшного дня, когда утонул мой Гершон. Если ты в жизни ещё не теряла тех, кого любишь, не тревожь Его своими мелочными жалобами. Нечего засорять уши Всевышнего всякой чепухой. Он и без того уже давно неважно слышит.
Хенка чувствовала себя неловко. Она хотела, чтобы Мина подсказала ей, как вести себя в последние недели беременности, дала бы какой-нибудь совет, а затем согласилась принять у неё роды, но ей неудобно было прерывать хозяйку.
— Ну ладно, — как бы угадав желание Хенки, промолвила суровая, не заискивающая перед роженицами Мина, — сейчас я осмотрю тебя и попытаюсь сказать, что тебе, душечка, в скором времени судьба готовит — лёгкие роды или тяжёлые.
Повитуха водрузила на переносицу очки в роговой оправе и стала придирчиво разглядывать фигуру растерянной Хенки.
— Встань, пожалуйста, вон у того не занавешенного окна. Там больше света. Так лучше видно. Повернись ко мне боком. Так, так, — приговаривала Мина. — Теперь ты вся у меня как на ладони. Таз у тебя, прямо скажем, для родов не очень подходящий. Но против матушки-природы, милочка, не попрёшь. Какой тебя мама с папой слепили, такой ты все отмерянные тебе денёчки и проживёшь на белом свете. А твой арестант, по всему видно, уже томится в своей одиночке. Уже рвётся, бунтовщик, из тюрьмы, уже топает ножками и грозит своему надзирателю кулачками. Отпирай, мол, скорее, по-доброму, по-хорошему прошу. Так или не так? — огорошила Мина своей тирадой Хенку.