Плач Сэнсом Кристофер
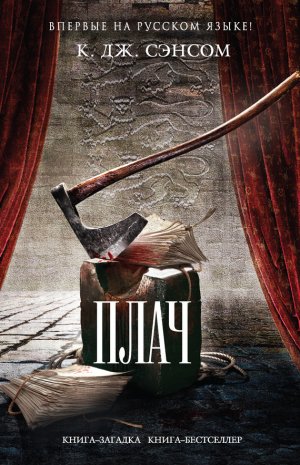
— Пожалуйста, Джон, оставьте их. Или положите в ящик для пожертвований в церкви. Я их не возьму.
— Николас, — сказал я, — зайди ко мне в кабинет.
Мой ученик немного постоял в нерешительности, но потом медленно пошел за мной странной одеревеневшей походкой. Я указал ему на стул, и он сел. Я занял свое место по другую сторону стола, и юноша посмотрел на меня невидящими глазами. Его лицо, раньше красное, медленно побелело. Он явно пережил потрясение.
— Что случилось? — спросил я его.
Овертон наконец увидел меня и сказал:
— Все кончено. Меня лишили наследства.
Он посмотрел на письмо, которое все еще держал в руке. Его лицо подергивалось, и я подумал, что парень может не совладать с собой, но он сделал глубокий вдох, и его лицо окаменело. Я попытался протянуть руку к письму, но Ник схватил его еще крепче.
— Что случилось? — снова спросил я. — Зачем ты выбросил те монеты?
Мой ученик холодно проговорил:
— Прошу прощения за ту вспышку. Это больше не повторится.
— Николас, — сказал я, — не говори со мной таким тоном. Ты знаешь: я помогу, если смогу.
Лицо юноши опять задергалось.
— Да. Извините. — Он замолчал, глядя в окно на квадрат площади, а потом проговорил, по-прежнему глядя туда: — Я говорил вам, что мои родители угрожали лишить меня наследства в пользу моего кузена, потому что я отказался жениться на женщине, которую не люблю.
— Это трудно сделать.
— Мои отец и мать — упорные люди. Они… они не смогли подчинить меня своей воле и поэтому сделали то, что могут. — На его лице появилась печальная полуулыбка. — Последней соломинкой был поединок. Я вам про это не говорил. — Он повернулся и посмотрел мне в глаза; на его лице смешались свирепость и отчаяние.
— Какой поединок? — удивился я.
Парень издал хриплый смешок:
— Когда мой отец пытался женить меня на этой бедной девушке, хотя ни она, ни я этого не хотели, я совершил ошибку, доверившись жившему рядом другу. Или я думал, что он друг и определенно джентльмен, — Овертон произнес это слово, столь много значившее для него, с неожиданной горечью, — но он был транжирой, и его родители посадили его на скудный паек. И он сказал, что если я не дам ему два соверена, он расскажет моему отцу правду.
— И что ты сделал?
Николас ответил с какой-то унылой гордостью:
— Вызвал негодяя на дуэль, конечно. Мы бились на мечах, и я ранил его в руку. — Он снова сжал письмо. — Лучше б я отрубил ему пол-уха, как у этого мерзавца Стайса! Его родители увидели, что он ранен, и пришли жаловаться моим. Когда они набросились на меня, я сказал, что мы подрались и что я не женюсь. — Овертон глубоко вздохнул и провел рукой по лицу. — И тогда они решили послать меня изучать право и пригрозили лишить наследства. Я не думал, что дело дойдет до этого, но они таки лишили.
— Что говорится в письме? Можно мне посмотреть?
— Нет, — тихо ответил молодой человек. — Но я сохраню его как напоминание, какими могут быть родители. Мой отец назвал меня безответственным и неуправляемым. Дуэль и мой отказ принять их выбор жены, как выразился отец, подорвали их позиции среди соседей. Ни он, ни мать не хотят больше меня видеть. Он послал мне со специальным курьером это письмо и пять фунтов. Говорит, что будет посылать такую же сумму каждый год. — Николас снова замолк, а потом заговорил более решительно: — Думаю, это жестоко и неправильно. — Его лицо стало свирепым. — Кто, по-вашему, сэр, оказался больше всех не прав?
— Они, — без колебания ответил я. — Когда ты впервые рассказал мне про девушку, я тоже подумал, что они, возможно, справятся со своим гневом. Но, похоже, нет.
Я понимал, что Овертону хочется кричать и бушевать, но молодой человек совладал с собой. Он сделал несколько вдохов, и я с облегчением увидел, как к его лицу возвращается цвет.
— Тут вряд ли хватит, чтобы платить вам за обучение, сэр, — уныло сказал он. — Пожалуй, я должен уйти.
— Нет, — ответил я. — Ты уже научился почти достаточно, чтобы зарабатывать на свое содержание.
Юноша посмотрел на меня, и я увидел, что он понял, что это неправда, что он еще учится, и, по крайней мере, какое-то время я буду тратить столько же времени, чтобы обучать и поправлять его, сколько получу пользы от его работы.
— Или, по крайней мере, скоро научишься, если продолжишь трудиться, как трудился в эти последние непростые недели, — улыбнулся я. — Кроме того, ты помог мне в более важных вещах.
— Я не хочу быть обузой! — злобно выкрикнул Овертон. — Отныне я буду все делать сам.
Я грустно улыбнулся:
— Библия учит нас, Николас, что падению предшествует гордость, а погибели — надменность. Не уходи от меня — от нас — из гордости, не делай этой ошибки.
Парень посмотрел на измятое письмо у себя в руке. У меня возникло тяжелое чувство, что если он пойдет на поводу у своей гордости и злобы, то плохо кончит, потому что в его натуре был элемент саморазрушения. Несколько секунд мы молчали, а потом раздался стук, и дверь открылась. Вошел Барак, но не с шумом, а тихо. Он тоже держал что-то в руке и, подойдя к столу, выложил аккуратную стопочку полусовереновых монет. Николас взглянул на него.
— Что, выполнили угрозу? — грубо спросил Джек. — Твои родители?
— Да, — буркнул молодой человек с мрачным видом.
— Я боялся, что они и в самом деле могут. Они умеют делать гадости, родители-то…
Овертон не ответил, а Барак продолжил:
— Я-то это прекрасно знаю. Но также знаю и кое-что еще. Деньги — это деньги, откуда бы ни взялись. Здесь столько, сколько пятеро бедняков заработают за год. Возьми их, трать их и покажи кукиш своим родителям.
Николас встретил его взгляд, а затем медленно кивнул и протянул руку к деньгам.
— Ты остаешься? — спросил я его.
— Пока подумаю, сэр.
Барак хлопнул его по плечу:
— Молодец! Пошли работать.
Он ухмыльнулся, как усталый многоопытный человек, и через мгновение Ник ответил ему такой же ухмылкой.
В субботу я получил первое хорошее известие за последнее время, хотя и оно было не без примеси плохого. Я сидел в гостиной, обдумывая, не пригласить ли Гая на ужин на следующей неделе: меня вдохновили маленькие шажки к примирению, сделанные нами в больнице, но все же беспокоил его возможный отказ. Раздался стук в дверь, и вошла Агнесса Броккет, еле сдерживая возбуждение. Я предположил, что у нее хорошие новости о сыне, но она сказала:
— Сэр, пришел любезный Браун и спрашивает, нельзя ли поговорить с вами.
Я положил перо.
— Вы знаете, о чем?
Женщина подошла поближе и сцепила руки.
— Сэр, возможно, я не должна говорить, но я считаю, что важные вещи не должны оказываться для людей сюрпризом. Так вот, по секрету: он хочет попросить вашего одобрения на женитьбу с Джозефиной.
Я уставился на миссис Броккет. Браун мне нравился, и я был рад, что моя молодая служанка нашла себе ухажера — это сделало ее счастливее и увереннее. Но такого я не ожидал.
— Это неожиданно, — сказал я. — Джозефина не…
Агнесса смущенно покраснела.
— Нет-нет, сэр, ничего подобного.
— Но ведь они встречаются совсем недолго, верно?
— Четыре месяца, сэр.
— Так давно? Я забыл.
— У них нет планов жениться поскорее, — сказала Агнесса с намеком на неодобрение. — Но я думаю, они действительно любят друг друга и хотят обручиться.
Я улыбнулся:
— Тогда приведите мастера Брауна.
Молодой человек нервничал, но заверил меня, что намеревается обручиться на шесть месяцев. Он сказал, что его хозяин будет рад принять Джозефину в дом, так как сейчас у него нет служанки, но потом добавил:
— В конце года он собирается закончить работу, сэр, и переехать с семьей в свое поместье в Норвиче. И хотел бы, чтобы мы уехали с ним.
— Понятно…
Значит, после Рождества я, вероятно, больше не увижу свою подопечную. Я буду скучать по ней… Глубоко вздохнув, я сказал:
— Вы всегда казались мне, Браун, здравомыслящим молодым человеком. И я знаю, что Джозефина любит вас.
— Как и я ее, — заверил меня юноша.
Я серьезно посмотрел на него:
— Вам известна ее история?
Он точно так же посмотрел на меня:
— Да; когда я спросил ее, согласна ли она выйти за меня, она все мне рассказала. Я знал, что ее отец был грубой скотиной, но не знал, что он выкрал ее из семьи, когда король вторгся во Францию.
— Это был тяжелый, жестокий человек.
— Она очень вам благодарна, что вы избавили ее от него и дали ей приют.
— Джозефина больше всего нуждается в доброте и ласке, мастер Браун. И, думаю, всегда будет нуждаться.
— Это я знаю, сэр. И как вы в последний год были ее добрым хозяином, так я буду ей добрым мужем. — Лицо моего собеседника излучало искренность.
— Да, верю, что будете. — Я встал и протянул ему руку. — Я даю свое согласие, любезный Браун.
Когда он пожал мне руку, я ощутил смесь радости, что будущее Джозефины так устроилось, и грусти от мысли, что она покинет мой дом. Я помнил, как ее неловкость и нервозность раздражали меня, когда она только появилась в нем. Но я видел, что ей тяжело, распознал в глубине ее души добрую натуру и решил быть с ней мягче.
Лицо молодого Брауна разрумянилось от удовольствия.
— Можно мне пойти к ней и сказать? Она ждет меня на кухне.
— Да, сообщите ей доброе известие поскорее.
Позже я пришел к ним на кухню, и мы все вместе, с Броккетами и Тимоти, выпили за их здоровье. Тимоти казался удивленным и даже расстроенным. Как же этот мальчик не любил перемен! Это беспокоило меня. Агнесса играла роль хозяйки, разливала вино, которое для такого случая я попросил ее принести из погреба, и даже Мартин смягчился до такой степени, что поцеловал Джозефину в щеку, хотя, наверное, заметил, как и я, что она при этом вздрогнула. Пока остальные весело болтали, он стоял немного в стороне. Джозефина расплакалась, и молодой Браун прижал ее к себе. Она вытерла глаза и улыбнулась:
— Постараюсь не уподобиться тем женам, которые плачут при всяком волнении.
— Я уверен, ты будешь самой лучшей и послушной женой, — тихо сказал ее жених. — А я постараюсь быть лучшим мужем.
Я улыбнулся. Я знал, что Джозефина — не Тамасин, чей сильный характер требовал равных отношений с мужем, иногда к неодобрению остальных. Моя юная служанка была приучена только подчиняться, и я с грустью подозревал, что любая другая роль показалась бы ей пугающей. Впрочем, у меня было чувство, что она станет хорошей матерью и что это может придать ей сил. Я поднял свой бокал:
— Да будет ваш союз счастливым и благословленным детьми!
Когда все подняли бокалы, Джозефина бросила на меня взгляд, полный счастья и благодарности, и я решил, что в конце концов напишу Гаю.
За мной пришли, как всегда, на рассвете. Я еще спал, но проснулся от громкого стука в дверь. Как был, в ночной рубашке, я встал и вышел из спальни, не испуганный, но разозленный: как смеет кто-то так громко колотить в дверь в столь ранний час? Подойдя к входной двери, я увидел там Мартина — как и я, он был в ночной рубашке и отодвигал засовы.
— Иду, иду! — раздраженно кричал он. — Хватит колотить, вы разбудите весь дом…
Он осекся, открыв дверь и увидев Генри Лича, местного констебля, крепкого сложения мужчину на пятом десятке. Рядом с ним на фоне летнего рассвета вырисовывались двое помощников с дубинами. Когда я спустился, моя злоба сменилась страхом, и колени у меня задрожали. Констебль держал в руке бумагу. Раньше Лич всегда держался с должной почтительностью, кланялся, когда я проходил мимо по улице, но теперь строго нахмурился, поднеся к моим глазам бумагу. Яркая красная печать не была печатью королевы. На сей раз это была печать короля.
— Мастер Шардлейк, — официальным тоном произнес Генри, словно мы были не знакомы.
— В чем дело?
Я смутно заметил у себя за спиной Агнессу и Джозефину, тоже поднятых с постели, а потом из-за угла дома выбежал Тимоти — наверное, он в этот момент ухаживал за лошадьми. Мальчик застыл на месте, когда один из людей констебля бросил на него грозный взгляд. Я набрал в грудь воздуха — чистого свежего воздуха в это ясное летнее утро.
Лич сказал:
— У меня приказ Тайного совета арестовать вас по обвинению в ереси. Вам надлежит предстать перед ними завтра, а до тех пор вы будете содержаться в Тауэре.
Глава 35
Констебль велел мне пойти одеться.
— Меня просили обыскать ваш дом на предмет запрещенных книг. Вот ордер, — добавил он, доставая второй документ.
— У меня нет запрещенных книг, — отозвался я.
— Я должен провести обыск.
Помощник Генри, державший Тимоти, ослабил свой захват, и совершенно неожиданно мальчик выскользнул у него из рук и, подбежав к констеблю, попытался выхватить ордер.
— Нет, нет! Это ложь! Мой хозяин — хороший человек!
Лич поднял документ над головой, так что Тимоти было не достать его, а помощник схватил его за ворот и приподнял над землей. Подросток стал задыхаться, и тот снова опустил его на землю, продолжая крепко держать за локоть.
— Больше не делай этого, парень, а то задушу!
Я посмотрел на остальных моих слуг. Агнесса и Джозефина стояли, вытаращив глаза и ухватившись друг за друга.
— Я думала, охота на людей в этом доме закончилась, — прошептала миссис Броккет.
Мартин безучастно смотрел перед собой.
Лич обратился ко мне:
— Я проведу обыск, пока вы одеваетесь. — Его тон оставался ровным, официальным и осуждающим, хотя я чувствовал, что ему доставляет удовольствие унижать человека моего положения. Он избегал смотреть мне в глаза.
Я впустил его. По крайней мере, на этот счет у меня не было опасений: все недавно запрещенные книги я сжег несколько недель назад, и в доме не было ничего, связанного с поисками «Стенания». Констебль послал одного из своих людей проследить, как я одеваюсь. Когда я застегивал пуговицы и завязывал шнурки, мои пальцы дрожали. Я попытался успокоиться и подумать. Кто это сделал и зачем? Является ли это частью заговора против королевы Екатерины? Когда меня посадили в Тауэр пять лет назад по обвинению в измене, состряпанному Ричардом Ричем, меня выручил архиепископ Кранмер. Сможет ли королева помочь мне теперь? Я надел летнюю робу, приготовленную, как обычно, Мартином с вечера, и шагнул за дверь.
Мои слуги по-прежнему стояли в прихожей — Джозефина обхватила руками плачущего Тимоти, и я инстинктивно обратился к ней, а не к моему стюарду. Я сжал ее руку и сказал:
— Пойдите сейчас же в дом Джека Барака и расскажите, что случилось. Помните, где это? Вы носили туда записки.
Руки девушки дрожали, но она совладала с собой.
— Будет сделано, сэр, сейчас же.
— Спасибо. — Я повернулся к констеблю, стараясь сохранить остатки достоинства: — Пошли, приятель. Как я понимаю, мы пойдем пешком.
— Да, — сурово ответил Лич, как будто я уже был признан виновным.
Тут подал голос Мартин Броккет — он сказал осуждающим тоном:
— Мастеру Шардлейку должно быть позволено ехать верхом. Джентльмена не положено вести по улицам Лондона, как обычного мещанина. Так не подобает. — Похоже, стюарда больше заботило нарушение этикета, а не сам арест.
— Нам велено доставить его пешком, — возразил Генри.
— Тут ничего не поделаешь, Мартин, — мягко сказал я и повернулся к Личу: — Пошли.
Мы шли по улицам. Слава богу, людей было мало, хотя они и смотрели испуганно, когда мы проходили мимо — впереди Генри в форме констебля, а по бокам здоровенные помощники с дубинами. Арест джентльмена, старшего юриста, случался нечасто, и было не вредно показать его людям, как напоминание, что все мы, невзирая на чин и положение, подчинены королю.
Мы вошли в Тауэр через главные ворота, и констебль оставил меня с двумя местными стражниками в красных мундирах. Лезвия их алебард были наточены, как бритва, и на отполированной стали их шлемов сияло восходящее солнце. Мне вспомнился спазм страха, когда я пришел сюда несколько недель назад с лордом Парром на встречу с Уолсингэмом. Теперь мне снова выпала судьба, пугавшая всех — прийти сюда под конвоем в качестве узника. Когда меня вели через подстриженную лужайку внутреннего двора к Белому Тауэру, земля словно качалась у меня под ногами. Вдали слышались рев и скуление из зверинца — там кормили животных.
Я взял себя в руки и повернулся к ближайшему стражнику, неимоверно высокому, плотного сложения молодому парню со светлыми волосами под стальным шлемом, и спросил:
— Что теперь будет?
— Вас хочет видеть сэр Эдмунд.
Во мне затеплилась надежда. Уолсингэм был другом лорда Парра — возможно, я смогу послать ему весточку.
Меня провели через Большой зал, а потом — вверх по лестнице. Сэр Эдмунд был занят, и мне пришлось подождать около часа в запертой каморке с видом на летнюю лужайку, сидя на жесткой лавке и собираясь с растрепанными мыслями. Потом появился другой стражник и коротко сказал, что сэр Уолсингэм освободился.
Пожилой констебль Тауэра сидел за своим рабочим столом. Он строго посмотрел на меня и потеребил кончик своей белой бороды.
— Печально видеть вас снова при таких обстоятельствах, мастер Шардлейк, — проговорил он сурово.
— Сэр Эдмунд, — ответил я, — я не еретик. Не знаю, что случилось, но я должен сообщить лорду Парру, что попал сюда.
— Лорд Парр не может вмешиваться в эти дела, как и никто другой, — раздраженно ответил Уолсингэм. — Вас привели сюда по решению королевского Тайного совета, чтобы вы ответили на их вопросы. Лорд Парр — не член Тайного совета.
Я в отчаянии попытался переубедить его:
— Брат королевы граф Эссекский — член Тайного совета. А я всего четыре дня назад говорил с королевой. Я не виновен ни в каких преступлениях.
Эдмунд со вздохом покачал головой:
— Я велел привести вас сюда из вежливости, чтобы сказать, что сегодня и завтра вы будете здесь, а не чтобы выслушивать ваши жалобы. Оставьте их Совету. Моя власть исходит от них и утверждена печатью государственного секретаря Пэджета.
Я на секунду зажмурился, а Уолсингэм сказал более мягким тоном:
— Лучше возьмите себя в руки и подготовьтесь к ответам на завтрашние вопросы Совета. Что касается сегодняшнего дня, то вас будут держать в комфортабельной камере вместе с другими людьми, которые тоже будут отвечать на обвинения вместе с вами.
Я тупо посмотрел на констебля:
— Какие другие? Кто?
Он взглянул на бумажку на столе.
— Филип Коулсвин, юрист; Эдвард Коттерстоук, служащий Ратуши.
Значит, подумал я, это проделки Изабель. Но ее безрассудного бреда было, конечно, недостаточно для того, чтобы мы предстали перед Советом. Потом я вспомнил страхи Филипа о том, что он уже под подозрением. Да и Эдвард Коттерстоук был тоже из радикалов.
— Вам принесут поесть и попить, — продолжал Уолсингэм. — Вы хотите послать за кем-либо?
— Я уже послал своему помощнику известие, что меня арестовали.
— Прекрасно, — безучастно проговорил Эдмунд. — Надеюсь, что завтра вы успешно оправдаетесь.
Он кивнул стражнику, сделал пометку на листе бумаги, и меня увели.
Меня провели обратно через Большой зал, а потом вниз по лестнице в сырые подземелья. Раздался тот же громкий звон ключей, те же скрипучие двери с толстыми решетками отворились, и меня под руки провели в центральный коридор, где за своим слишком широким столом сидел Ховитсон, огромный мужчина с неопрятной спутанной бородой. Стражники назвали ему мое имя и оставили меня на его попечение. Взглянув на меня, он на мгновение озадаченно поднял брови при виде недавнего посетителя, а ныне заключенного, но быстро надел свою обычную бесстрастную маску властности. Мне вспомнился тюремщик Милдмор, которого, по словам лорда Парра, должны были тайно вывезти из страны, и я задумался, как Ховитсон отнесся к исчезновению своего подчиненного.
Он позвал двоих тюремщиков, и они явились со стороны камер.
— Мастер Шардлейк, пробудет до завтра, предстанет перед Советом, — сказал им их начальник. — Поместите его к другим, в камеру для заключенных с положением.
Я знал, кто недавно сидел в той камере. Милдмор рассказал мне: это была Анна Эскью.
Меня провели по короткому, выложенному каменными плитами коридору. Один тюремщик открыл зарешеченную дверь камеры, а другой провел меня внутрь. Камера была точно такой, как рассказывал Милдмор: стол и два стула, а также приличные кровати с шерстяными одеялами, на этот раз три, а не одна — видимо, надзиратели принесли еще две, услышав, что нужно разместить троих. Впрочем, в помещении стоял тяжелый сырой запах подземелья, а свет проникал только через зарешеченное окошко под потолком. Посмотрев на голые каменные плиты, я представил, каково было лежать здесь миссис Эскью после пытки.
На кроватях лежали двое. Филип Коулсвин сразу встал. Он был в своей робе, воротник его рубашки под камзолом был развязан, а обычно аккуратная русая борода спутана. Эдвард Коттерстоук обернулся посмотреть на меня, но остался лежать. На инспекции картины я отметил его сходство с сестрой — не только физическое, но и в высокомерных злобных манерах. Впрочем, сегодня он выглядел напуганным, и более того — был одержим страхом. На нем была одна рубашка и рейтузы, и в его неподвижных голубых глазах навыкате, столь схожих с глазами сестры, было отчаяние. Дверь за мной с лязгом захлопнулась, в замке повернулся ключ.
Филип воскликнул:
— Боже милостивый, Мэтью! Я слышал, что вас приведут. Не иначе, это дело рук Изабель Слэннинг.
— Что они вам сказали? — спросил я у него.
— Только то, что завтра мы предстанем перед Тайным советом по обвинению в ереси. Констебль арестовал меня на рассвете, как и мастера Коттерстоука.
— И меня тоже. Это абсурд. Я никакой не еретик.
Коулсвин сел на кровать и потер лоб.
— Я знаю. И все же я… — Он понизил голос. — У меня есть причины бояться. Я был осторожен и не произносил ереси на людях. И Эдвард тоже.
— А ваш викарий?
— Насколько я знаю, нет. Если б произносил, его бы наверняка тоже арестовали.
Я кивнул: это было логично.
— Единственное, что связывает нас троих, — это тот чертов иск.
Эдвард тихо проговорил со своей кровати:
— Изабель погубила нас всех.
К моему удивлению, он свернулся калачиком, как ребенок. Странно было видеть это от взрослого мужчины.
Филип покачал головой:
— Боюсь, что вас схватили из-за подозрений против меня и Эдварда.
— Но эта жалоба Изабель в связи со сговором — смехотворное обвинение, которое легко опровергнуть! Конечно, нас не вызвали бы в Тайный совет по слову Изабель. Если только… — Я глубоко вздохнул. — Если только ее жалобой не воспользовался кто-то еще, кто-то, кто хочет от меня избавиться.
— Кто? — нахмурился Коулсвин.
— Не знаю. Однако, Филип, я был вовлечен, пожалуй вопреки собственному здравому смыслу, в государственные дела. В Тайном совете у меня могут быть враги. Но и друзья тоже — могущественные друзья.
Но почему на меня напали именно сейчас? Мой ум лихорадочно работал. Может быть, в конце концов наступил момент, когда некто, похитивший «Стенание», решил выставить его на свет? И допросить меня о том, как я пытался его разыскать? Я никогда не говорил ни с лордом Парром, ни с королевой, что будет с рукописью, если я ее разыщу, но я знал, что старый лорд почти наверняка уничтожит ее. Чтобы король никогда ее не прочел.
— Послушайте. — Я схватил коллегу за локоть. — Вы когда-нибудь определенно отрицали реальное присутствие Христова тела и крови в таинстве мессы перед кем-нибудь, кто мог на вас донести? — Я говорил тихо, чтобы не подслушал какой-нибудь тюремщик за дверью.
Филип широко развел руки:
— Учитывая то, что случилось этим летом? Конечно, нет.
— А вы, сэр? — обратился я к Эдварду, который по-прежнему лежал, свернувшись, на кровати. — Вы говорили что-нибудь, что могло оказаться опасным? Не хранили запрещенных книг?
Коттерстоук посмотрел на меня и проговорил скучающим тоном, как будто это не имело никакого значения:
— Я не говорил никакой ереси и отдал свои книги в прошлом месяце.
Я снова повернулся к Филипу:
— Значит, мы должны стоять на этом и сказать Совету, что обвинения против нас лживы. Если кто-то попытается использовать обвинения Изабель против меня, мы должны показать, что это абсурд.
Мое сердце упало, когда я вспомнил, как казначей Роуленд избегал назначить мне встречу, чтобы обсудить ее обвинения. Кто-то велел ему так сделать?
Эдвард вытянулся и с величайшей осторожностью, как будто его тело было из свинца, прислонившись к каменной стене, сказал:
— Это наказание Господа. Все было предопределено. С тем, что я совершил, я не могу обрести спасения. Я проклят. Вся моя жизнь была обманом. Я жил в гордыне и невежестве…
Я посмотрел на Коулсвина:
— Что он имеет в виду?
Филип тихо сказал:
— Позавчера я рассказал ему, что мы узнали от слуги Воуэлла. Он думает, что это наказание. Он признался мне, что действительно убил отчима.
— Значит, это правда…
Мой коллега безнадежно кивнул.
Тут мы все подскочили от звука ключа в двери. Тюремщик открыл ее, и я был несказанно рад увидеть вошедшего Барака. Вслед за ним появилась Джозефина с большим свертком. Она выглядела перепуганной. Также вместе с ними пришла жена Филипа Этельреда, с которой мы ужинали в тот роковой вечер, когда нас застала Изабель. Миссис Колсвин тоже была с узелком. Она выглядела ужасно в сползшем набок чепце.
— Десять минут, — сказал тюремщик и захлопнул дверь.
Джек заговорил сердитым тоном, противоречившим выражению его лица:
— Значит, вы опять угодили сюда. Джозефина настояла, что придет лично, чтобы принести вам поесть. Николас хотел тоже прийти, но я не позволил. В его состоянии он, вероятно, устроил бы истерику и расплакался бы, как девочка.
— Если б он услышал это, то бросился бы на тебя с мечом, — заметил я.
Среди всего этого кошмара Барак на секунду рассмешил меня. Я повернулся к Джозефине:
— Спасибо, что пришла, милая.
Девушка с трудом глотнула:
— Я… Я хотела…
— Я тебе благодарен.
— Она настояла, — сказал Барак. — Принесла вам кучу еды.
— А Тамасин знает, что случилось? — снова повернулся я к нему.
— В ее положении? Вы шутите! Слава богу, когда пришла Джозефина, у нее хватило ума попросить ее позвать меня. Тамми думает, что какой-то кризис в конторе. А что, черт возьми, происходит?






