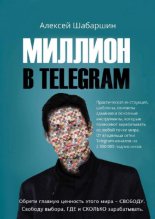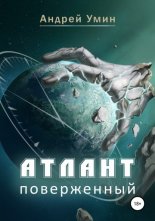Артхив. Истории искусства. Просто о сложном, интересно о скучном. Рассказываем об искусстве, как никто другой Коллектив авторов
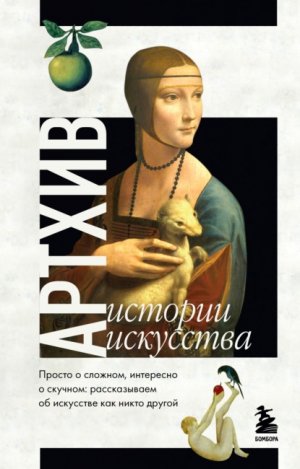
Картина 21-летнего Жерико «Офицер императорских конных егерей» стала итогом его учебы. Представленная в Квадратном (главном) зале Салона 1812 года, она выиграла золотую медаль и вызвала неподдельный восторг у французов, упивающихся мощью своей армии и еще не догадывающихся о ее грядущих бедах.
Больше ни разу за всю последующую недолгую жизнь Жерико ему не выпадет столь громкого успеха.
Салон еще не закрылся, когда в Париж стали приходить страшные новости: под Бородино войска Наполеона потеряли около 40 тысяч, при переправе через Березину – еще около 30. По сути, блестящая армия Наполеона перестала существовать.
Тут же начинается кампания новой мобилизации. Московский поход остудил самые горячие головы: никто больше не рвался в армию Наполеона – она перестала быть армией победителей. Теодор уклоняется от призыва и продолжает заниматься тем, что любт – живописью и лошадьми. Он часами пропадает в Лувре. Еще никогда коллекция музея не была такой богатой: из всех походов армия Наполеона свозила драгоценные трофеи в виде произведений искусства. Жерико пишет лошадей в Императорских конюшнях Версаля. Ощущение тревоги в его творчестве только нарастает.
В 1813 году Франция оказывается перед угрозой оккупации иностранными армиями, Наполеон снова воспринимается как защитник национальных интересов, а Жерико пишет картину «Раненый кирасир, покидающий поле боя» и представляет ее на Салоне 1814 года. Как же она отличалась от «Офицера императорских егерей»! Больше нет героики войны – есть ее ужас и отчаяние. И это не находит у современников понимания: никто не хочет разочаровываться.
Провал Жерико переживает тяжело. Он решает бросить живопись, а отец-монархист, словно поджидавший, когда этот час настанет, покупает для Теодора патент на службу в Королевской гвардии. У власти опять Бурбоны, Наполеон повержен и бежал на Эльбу. А Жерико теперь – королевский мушкетер. Но он не испытывает к монархии ни малейшего пиетета. Когда Наполеон, выдвинувшись с тысячей верных солдат, вплотную подошел к Парижу, а Людовик XVIII в панике бежал в Бельгию, Жерико сопровождает его до границы только из чувства долга. А потом навсегда сбрасывает мушкетерский мундир, переодевается кучером и в таком виде возвращается в Париж. Конечно, в калейдоскопе сменяющихся режимов Жерико мог стать жертвой политики, но он никогда не боялся риска. Риск – это то, чего он искал.
Женщины были от Жерико без ума. Лихой наездник с атлетической фигурой, он к тому же был еще и на редкость хорош собой. В характере Теодора сочеталось все, что так притягивает – нежность и страсть, горячность и мечтательная меланхолия. А самому Жерико для подпитки творческого горения необходим был постоянный вызов, балансирование на грани. Именно это он получил, влюбившись в Александрин Карюэль. Александрин была молоденькой женой дяди Теодора, и она ответила пылкому Жерико взаимностью. Роман раскрылся, скандал стал публичным и очень громким, семья в ужасе. А Жерико, со свойственной романтикам экзальтацией, проклинает себя за свалившиеся несчастья и решает бежать от них подальше. В Италию.
Лошади, скачки, ипподромы, конюшни… В Италии Жерико не меняет своих пристрастий. В равной степени его впечатлили Сикстинская капелла и «мосса» – силовое противостояние перед скачками лошадей и надсмотрщиков, стремящихся удержать их до свистка за линией старта.
В 1818 году Жерико вернулся во Францию, а их обоюдная страсть с Александрин вспыхнула с новой силой. У любовников рождается сын Жорж-Ипполит. Связь тетки и племянника снова в центре скандала. Отец Жерико выделяет деньги на помещение бастарда в приют, а Александрин увозят в глухую провинцию.
Сладкий итальянский воздух навевал художнику новые мотивы – эротические. Вообще, сложно поверить, что Жерико, с его жгучим интересом к жизни тела, анатомии, мышечному напряжению, не интересовался раньше любовной тематикой, однако это так. И вдруг в Италии возникает рисунок Жерико «Леда и Лебедь», обыгрывающий известный эротический миф. Можно объяснить этот интерес мощным воздействием итальянского искусства, да и просто горячим южным воздухом, пронизанным любовным томлением. Но, взявшись за известный мифологический сюжет, Жерико отказывается трактовать его как любовную историю.
Дочь этолийского царя Леда родила яйцо, из которого появится Елена, прекраснейшая из женщин. По другой версии, из яйца произошли близнецы Кастор и Полидевк. Это случилось после того, как Ледой овладел бог Зевс, принявший облик лебедя. По сути, «Леда и Лебедь» Жерико – это набросок. Один из эскизов, которые художник, с его временами нечеловеческой трудоспособностью, производил десятками, если не сотнями. Однако законченность и нетривиальная трактовка сюжета выводят «Леду и Лебедя» за рамки простого эскиза.
Его ориентиром для творческого диалога стал Микеланджело. Сохранились воспоминания о посещении Теодором Жерико Сикстинской капеллы. Рассказывают, он вышел оттуда, весь дрожа. Потрясение было настолько сильным, что спровоцировало горячку. Для Жерико Микеланджело надолго стал властителем дум, ему была глубоко сродни мощная телесная пластика Микеланджело, однако сама трактовка сюжета отличается не просто существенно – кардинально.
Огромный лебедь с рисунка Жерико, агрессивно изогнув шею и растопырив крылья, нависает над бедрами распростертой Леды. Растения на заднем плане охвачены дыханием бури. Мы будто слышим завывание ветра и зловещее шипение лебедя, которого женщина пытается оттолкнуть. Жерико подчеркивает, как напряжены ее мышцы в готовности к поединку – причем едва ли любовному. И если «Леда и Лебедь» Микеланджело, с зажатой между ног Леды птицей и их сближенными в поцелуе головами, говорит о непреодолимом сладострастии, то «Леда и Лебедь» Жерико буквально вопиет о насилии и сопротивлении.
Всю жизнь Жерико был склонен к изматывающим чередованиям радостной приподнятости и самой черной меланхолии. После скандала с Александрин, переживая депрессию, он почти на год запирается в своей мастерской. В припадке самобичевания Жерико обстригся наголо и приговорил сам себя к затворничеству.
Именно в эти девять месяцев, словно ребенок из материнского чрева, родится главный шедевр Жерико, его знаменитый «Плот Медузы», грандиозное полотно около семи метров в длину и пяти в высоту. Представленная на Салоне 1819 года, она стала сенсацией и скандалом, но не принесла автору ни признания, ни денег. Наоборот, Жерико подвергся травле в роялистских и академических кругах. Пять лет спустя он умер в бедности, перед этим безуспешно пытаясь продать Лувру свою лучшую картину – «Крушение плота «Медузы».
Она основана на совсем недавних реальных событиях. Они и через два года, когда Жерико завершил работу, все еще оставались во Франции на слуху. Неопытный и нерешительный мореплаватель, эмигрант Гюг Дюруа граф де Шомаре, пользуясь коррупцией среди французских чиновников, купил себе место капитана королевского фрегата «Медуза». 18 июня 1816 года судно отправилось к берегам Западной Африки, но из-за непрофессионализма капитана село на камни неподалеку от Островов Зеленого Мыса. Когда стало ясно, что сдвинуть корабль с места не удастся, а запасы воды и еды на исходе, для капитана, губернатора и других высокопоставленных лиц выделили шлюпки, а для 149 оставшихся пассажиров был наспех сооружен плот, на котором они и отправились в непредсказуемый дрейф.
Предполагалось, что шлюпки помогут его буксировать. Но они предательски и трусливо скрылись из виду, оставив переполненный плот один на один с водной стихией. Очень скоро люди начали терять человеческий облик. Борясь за безопасные места у мачты и последние капли воды, они дрались, убивая друг друга и сталкивая в воду. Лишь через 13 дней несчастные увидели на горизонте спасительный корабль «Аргус» – именно этот момент запечатлел Жерико.
Команде «Аргуса» открылось жуткое зрелище: из 149 в живых осталось 15 (пятеро из них скончались почти сразу после спасения). Окоченевшие трупы на плоту перемежались с полуживыми. Оставшиеся в живых вялили на мачте мясо погибших.
Работая над «Плотом «Медузы», Жерико мучительно добивался, чтобы ракурсы и позы изображаемых им людей были правдивы. Для этого он лепил восковые фигурки, комбинируя их в различных положениях на игрушечном плоту. Жерико не удовлетворяла работа натурщиков – он пришел к выводу, что позирование никогда не выглядит естественно. Тогда он стал посещать больницы, где наблюдал и зарисовывал умирающих, а потом и морги. Его устрашающие этюды с отрезанными головами и сваленными в кучу людскими конечностями – оттуда.
Многим картина Жерико представлялась метафорой государственного упадка, аллегорией постнаполеоновской Франции. И хотя Жерико решал не социальные, а чисто художественные задачи, в ней видели обвинение существующего строя, вот почему на родине столь выдающаяся работа сначала не получила одобрения. К счастью, Жерико все-таки успел насладиться признанием своего главного труда: кто-то посоветовал ему везти картину в Лондон, где в это время была бурная художественная жизнь. В английской столице к «Плоту «Медузы» выстроились очереди. Всего за месяц ее посмотрело более 50 тысяч человек. С этого начался триумфальный дрейф «Крушения плота «Медузы» в историю европейского искусства.
В 1821 году Жерико возвращается в Париж, а его душевное здоровье только ухудшается. Наблюдать его берется выдающийся психиатр своего времени Этьен-Жан Жорже.
Жорже специализировался на мономаниях – он выделил и описал несколько: теоманию (религиозное помешательство), эротоманию, демономанию… Считается, что именно он подарил Жерико идею живописных типов из своей психиатрической практики, которые хотел использовать как наглядные пособия для обучения студентов. Изобразить разные виды человеческих маний – что может быть заманчивее для художника? Вполне вероятно, что увлеченность этой работой помогла Жерико хотя бы отчасти справиться с собственным душевным недугом.
К 30 годам душевные терзания Жерико усугубились радикулитом. Бездумно швыряясь деньгами, он промотал материнское состояние. Его картины не продавались. Нищие, бродяги, сумасшедшие и даже лошади – они были никому не нужны. Жерико попытался вложить остатки средств в заводик по производству искусственных бриллиантов, но прогорел. Ему грозит полное разорение. В чем искать утешения? Разумеется – в скачках. Весной 1822 года лошадь на всем скаку сбрасывает Жерико, потерявшего из-за радикулита привычную ловкость. Он получает травму позвоночника, решается на несколько сложных операций и целый год борется с изматывающими болями и угрозой полной обездвиженности.
Наконец ему снова разрешают сесть на лошадь. Жерико снова падает, но наотрез отказывается обработать рану. 26 января 1824 года он умирает от сепсиса, не дожив до 33 лет. Смерть для художника-романтика – эффектный жест. И признание не замедлит. В одном из некрологов французы назовут Жерико «Микеланджело нашей нации».
Эжен Делакруа: дикий, светский, страстный, сдержанный
В мастерской жарко, как в марокканском гареме, окна плотно закрыты, но он просит экономку Женни топить еще сильнее. Шея плотно укутана в шарф, с тех пор как он простудился еще во времена студенчества, горло болит постоянно. Иногда меньше, иногда просто нестерпимо. И тогда Эжен берется за терапию всерьез: не дышать холодным воздухом и не разговаривать. Он закрывается в жаркой мастерской и остается наедине со своей самой сильной страстью – с работой. По той же улице, через дорогу, в доме напротив его мастерской к окну словно приросли два юноши. Они ловят каждый жест Делакруа, они задерживают дыхание и замирают, когда им удается рассмотреть движения мэтра. Они оба мечтают вскоре покорить Париж и получить медали в Салоне, они арендовали эту комнату специально для того, чтобы хоть иногда видеть, как работает самый яркий и революционный художник уходящей романтической эпохи. Одного юношу зовут Клод Моне, второго – Огюст Ренуар.
Эжен Делакруа всей своей жизнью, историей своих побед и провалов, давал надежду молодым, дерзким художникам. Глядя на него, каждый из них верил, что в живописи можно обрести настоящую свободу. Он получил золотую медаль Салона за первую же картину, представленную на суд зрителей, а за третью – на несколько лет впал в немилость. Он девять раз подавал заявку, чтобы занять место среди академиков, вершащих судьбы французского искусства. Он получил ленточку Почетного легиона в 33 года и был избран в городской совет Парижа в 53. А сейчас в Лувре есть целый зал, посвященный только одному художнику, – зал Делакруа. Художник пережил семь политических режимов, которые друг за другом швыряли Францию из одной крайности в другую. Но при всех королях и республиках государство сразу же покупало его новую картину.
Эжен был родом из той французской элиты, которая поднялась при Наполеоне. Его отец Шарль Делакруа был министром иностранных дел во времена Директории, а позже, когда на посту министра его сменил Талейран, служил послом в Батавской республике и префектом Марселя.
Талейран был частым гостем в доме Делакруа и по каким-то тайным знакам и свидетельствам биографы выяснили, что настоящим отцом Эжена, четвертого, самого младшего ребенка в семье, был именно он, Талейран. Хитрец, манипулятор, отлученный от церкви бывший епископ и министр, благополучно переживший на этом посту три смены власти. Но сам Эжен ни в одном дневнике или письме, ни одним своим поступком ни разу не выдал этого родства. Тот человек, которого Делакруа всегда называл отцом, был неподкупно честен, умен, искренен, красноречив и умер очень рано. Эжену было всего семь лет.
Эжен рос нервным и эмоциональным ребенком. Если верить его воспоминаниям о детстве, то занимался будущий художник в основном двумя делами: выживал в бесконечных несчастных случаях и проникновенно сообщал взрослым разной важности жизненные истины. В Императорском лицее, куда Делакруа поступил на полный пансион, по утрам слушали новости о победах Наполеона, писали пространные сочинения на латыни и греческом, учили математику и рисование, а превыше всех других благ ценили дружбу и славу.
Если бы отец Делакруа дожил до 1814 года, его ожидало бы пожизненное изгнание из Франции, вместе со всеми, кто голосовал за казнь короля. А без него семейство всего лишь обеднело и лишилось остатков былого почета и внимания. Мать Делакруа прожила всего несколько месяцев при возрожденной монархии и умерла, когда Эжену было 15.
Делакруа стал жить в семье старшей сестры и приобрел несколько важных навыков: планировать свои скудные финансы, сочинять и литографировать карикатуры для столичных еженедельников, держаться франтом в старых панталонах и по ночам незаметно прокрадываться в спальню к экономке. В Париже он начал учиться живописи в мастерской Герена, а заодно присматривать за племянником, который учился неподалеку. В бесконечных поездках из загородного дома сестры в свою парижскую квартирку он так часто и сильно замерзал, что боль в горле стала хронической.
Отчаянная бедность времен ученичества закончилась для Эжена с первой же картиной, представленной в Салоне 1822 года. Несмотря на красочные нападки некоторых критиков – «намалевано пьяной метлой», «обноски Рубенса» – Делакруа получает и первые восторженные отзывы и первые две тысячи франков. Это было больше его годовой ренты.
Но благосклонность академиков, критиков и публики временами менялась полным неприятием и опалой. А для художника в начале XIX века это означало кроме всего прочего и финансовые трудности: Салон был единственным местом, где картины становились знаменитыми и находили покупателя.
На этот сюжет Делакруа вдохновил лорд Байрон, а еще, добавляют шепотом биографы, маркиз де Сад, чьи книги активно печатались во Франции в начале XIX века. Правда, нелегально.
С Байроном как раз все законно: один из друзей художника работал над иллюстрациями к французскому изданию Байрона и дал почитать Делакруа пьесу об ассирийском царе Сарданапале. История царя, повелевшего сжечь все свои богатства перед приходом врага, настолько поразила юного Эжена, что он проделал поистине научную работу по поиску подробностей. В Лувре копировал профили с монет Древнего Востока, в библиотеке изучал гравюры в книгах великих путешественников и монгольские миниатюры, читал труды древнегреческих историков. Какая-то утварь и пестрые шелка подсмотрены в антикварных лавках и напоминают скорее Индию, какие-то элементы архитектуры пришли из увиденных в Англии картин о гибели древних городов.
А вот от маркиза де Сада на полотне – упоительная смесь сладострастия и смерти, обостренные ощущения и самые прекрасные в живописи XIX века женские спины. Биографы говорят, что Делакруа не любил вспоминать об этой картине в зрелом возрасте. Как будто он вскрыл свои самые сокровенные страсти и фантазии, чтобы потом навсегда спрятать их от чужих глаз.
В канонической истории Сарданапала ни у Байрона, ни у древних историков ничего не говорилось об убийстве жен, слуг и лошадей. Царь-сибарит (это он изобрел пуховую перину) попросил уничтожить все, что доставляло ему удовольствие при жизни. Это Делакруа в своем воображении нарисовал юных красавиц, резню и спокойного тирана, удовлетворенно принимающего гибель любимых и собственную гибель. На первых набросках в роли Сарданапала Делакруа изображал себя.
Департамент изящных искусств и критики забили тревогу. В газетах можно было увидеть, например, такую рецензию: «Господин Делакруа заказал два фургона с тем, чтобы вывести разрушенную мебель из дворца господина Сарданапала, двое похоронных дрог для мертвых и два омнибуса для тех, кто остался в живых».
Делакруа после этой картины впал в немилость и был лишен государственных заказов. Благо правительство во Франции в XIX веке менялось чаще, чем художественные принципы. Немилость продлилась всего три года – до Июльской революции.
Революцию 1830 года молодые художники и поэты восприняли как шанс на обновление и рывок из того омута традиции, в котором все глубже увязало искусство, да и вся Франция. Карл X совершал ошибку за ошибкой, но ограничение такой вожделенной французами свободы слова и ликвидация Палаты представителей отбрасывала страну совсем уж к старой доброй монархии. Революция длилась три дня и раздала каждому по заслугам. Опальному при Карле Эжену Делакруа – вдохновение. Он пишет легендарную теперь уже «Свободу, ведущую народ» и начинает грезить Африкой.
«Ваши журналы, ваша холера, ваша политика – все это, к сожалению, несколько умеряет нетерпение, с которым я жду возвращения. Если бы вы знали, как приятно жить под прикрытием тирании!» – писал он во Францию, уже заканчивая свое сладостное, красочное, знойное путешествие в Марокко и Алжир. Все эти финансовые новости, все эти язвительные журналисты, развенчивающие героев и гениев, все эти политические авантюры и споры казались ему мелочными и угнетающими. В следующие лет десять к каждой выставке в Салон он будет подавать как минимум одну марокканскую работу, воспоминания будут тускнеть, лица алжирских красавиц забываться, но останется пленительная, чистая, насыщенная палитра, однажды и навсегда обретенные цвет и свет.
Настоящий интерес французов к Востоку начался с Египетского похода Наполеона – точно на рубеже веков XVIII и XIX. Потому что кроме солдат и полководцев Наполеон берет с собой в африканскую кампанию несколько тысяч ученых и художников. У них свои задачи: местное искусство, архитектура, язык, обычаи, природа. Уже в 1809 году во Франции начинает выходить огромное 23-томное издание «Описание Египта» с материалами этих исследований, в Лувре появляются первые вывезенные из Африки экспонаты, а в пригороде Каира – основанный французами Институт Египта.
В Европе Восток становится отдельной дисциплиной крутых научных сообществ, большие шумные редакции выпускают журналы о Востоке, заявляют о себе одиночки-исследователи Востока: лингвисты, историки, естествоиспытатели. Жан-Франсуа Шампольон, гениальный 32-летний лингвист, расшифровывает иероглифы Розеттского камня и египетской письменности в целом. Богатые искатели приключений отправляются в путешествия, возвращаются бородатыми и загорелыми и привозят из Африки оружие, расшитые диковинные одежды, курят кальян и пьют кофе. Они самые желанные гости модных парижских богемных салонов. Им есть что рассказать.
Мирный договор Франции с Марокко предполагал достаточно устойчивые отношения, которые все же требовали иногда, раз в несколько лет, отправки посла с очередными угрозами или подарками. В 1833 году отправляться с подарком к султану предстояло чрезвычайному послу графу де Морне – и Эжен Делакруа получает от министерства разрешение присоединиться к дипломатической миссии. В качестве… заскучавшего художника. К этому времени он уже написал «Резню на Хиосе», «Смерть Сарданапала» и «Свободу, ведущую народ» – его воображение, бесконечно богатое и стремительное, разжигается от литературных сюжетов и далеких трагических событий, о которых пишут в газетах. Но теперь нужны живые впечатления – нужна Африка.
«Представь себе, друг мой, развалившихся на солнцепеке, прохаживающихся по улицам, починяющих туфли настоящих римских консулов, Катонов и Брутов, наделенных даже тем же самым надменным выражением лица, какое, должно быть, не оставляло властелинов мира. У этих людей всего имущества – одно покрывало, в нем они ходят, спят и в нем же будут преданы земле, но вид их исполнен поистине цицероновского довольства», – пишет Делакруа другу из Марокко.
В ожидании встречи с султаном проходит несколько дней – и у художника есть время, чтобы заполнять страницы дорожного альбома зарисовками пейзажей и городских видов, побывать на базарах и праздниках, едва не погибнуть от рук местных мужчин, которые застали Делакруа за рисованием их жен. Позировать местные мавры не соглашаются – и художник просто издалека наблюдает, на улицах, в банях.
Дипломатическую встречу с султаном Делакруа напишет больше десятка лет спустя, тоскуя в Париже по африканской торжественности, величию, по белым одеждам и белому свету, который заливает все вокруг.
Итак, основная миссия выполнена – и Делакруа с графом де Морне отправляются на несколько дней в Алжир (тогда уже французскую колонию). Здесь произойдет маленькое событие, которое повлияет не только на живопись Делакруа, но и на несколько поколений после него. Художник попадет в гарем, а по приезде в Париж по алжирским наброскам напишет картину «Алжирские женщины», которая станет учебником новой, насыщенной цветом и светом, живописи.
В 2008 году в Лувре в одном зале собрали всех знаменитых «Алжирских женщин» в изобразительном искусстве. Всего одна картина на этой выставке принадлежала Делакруа, а весь остальной гарем принадлежал Пабло Пикассо. В течение двух лет Пикассо создал 15 вариаций этого мотива и десятки эскизов и набросков. В одном из интервью он сказал: «Если бы Делакруа увидел мои работы, я бы ему сказал вот что: вы писали, имея в виду Рубенса, но сделали как Делакруа. А я писал, имея в виду вас, но тоже сделал нечто свое».
Покидая Марокко и прибывая в Алжир, Делакруа тосковал только об одном: что не смог поближе увидеть местных женщин. Оказалось, что в Алжире все немного проще. Бывший капитан алжирского флота провел Эжена прямо в свой гарем – любуйся.
В низкой, душной, пропахшей сладким кальянным дымом и чаем комнате полулежали три женщины. Они проводили здесь целые дни, они были частью этой комнаты. Что успевал – зарисовывал акварелью, иногда акварели не хватало, и он делал пометки в блокноте: «нежно-голубой, зеленый, золотисто-желтый» – это про платок, «сиреневато-фиолетовые рукава, сиреневато-фиолетовое на плечах, на груди полосы фиолетовые, нежные» – это про рубашку. «Алжирские женщины» – само спокойствие и нега. Как будто время в этом измерении движется медленно или счет ему никто просто не ведет. Здесь нет ни сюжета, ни действия, ни истории, ни символа. Чистая живопись.
«Алжирские женщины» – необъяснимый, волшебный магнит. Точную копию с нее делал юный Огюст Ренуар (только по этой копии современники и могут судить сейчас о подлинной яркости красок у Делакруа, потому что его картина сохранилась плохо и потемнела), а потом написал по ее мотивам свою «Одалиску». Для Синьяка эта картина стала откровением «оптического смешения наиболее удаленных компонентов». Пикассо написал 15 картин «Алжирские женщины», эротичных и прямолинейных, повторяющих основные линии композиции Делакруа, одна из которых в свое время стала самой дорогой картиной в мире и ушла с молотка за 180 млн долларов.
Спустя много лет Делакруа напишет о своих восточных каникулах: «Я жил там в двадцать раз интенсивнее, чем в Париже».
Он вернется с Востока и пойдет в свое самое долгое и страстное виртуальное путешествие – 20 лет без перерывов и отдыха он будет уединяться на лесах под потолками огромных залов: королевских дворцов, библиотек, государственных палат, чтобы покрывать их фресками. Дотошные искусствоведы посчитали, что в XIX веке ни один художник не расписал больше стен, чем Делакруа. Он спускается, конечно. Больше, чем писать и влезать на леса, он любит только разговоры. Если бы искусствоведы могли считать друзей, они бы наверняка сказали, что у Делакруа их было больше, чем у кого бы то ни было в XIX веке. Он мог с Мюссе бродить всю ночь от дома к дому, не желая прерывать интересную беседу, он с Шопеном часами обсуждал порядок в музыке и порядок в живописи. Жорж Санд, Бодлер, Тьер, Стендаль…
Образованный эрудит, безукоризненно учтивый, сдержанный и внимательный, он мог с порога предупредить гостя: «Сегодня мы не будем разговаривать, хорошо? Разве что самую малость». А потом провести за беседой несколько часов. При этом долгие разговоры он считал неким излишеством вроде сытного изысканного обеда, продолжительного сна или долгого праздного светского приема.
Шарль Бодлер, близкий друг и страстный поклонник Делакруа, в эссе, опубликованном сразу после смерти художника, рассказывал: «Простые слова «милостивый государь» он умел произносить на двадцать ладов, представлявших для изощренного уха любопытную гамму чувств». Это мог быть «милостивый государь» с чувством крайнего расположения и добродушия или «милостивый государь» с оттенком пугающей дерзости.
Любимыми его собеседниками всегда были ярые оппоненты – хоть в философских вопросах, хоть во взглядах на искусство. При этом в самые напряженные моменты, когда спор грозил перерасти в грубую, неуправляемую перепалку, художник замирал и на время снижал накал собственных высказываний. Спустя несколько минут, успокоившись и собравшись с мыслями, он выдавал оппоненту темпераментную речь, с доводами и фактами.
Для французских живописцев, которые вот уже несколько веков писали животных по гипсовым моделям, ежедневное дежурство Делакруа у клеток с хищниками было настоящим потрясением и поводом для недоуменных перешептываний. Делакруа приходил в Ботанический сад, где тогда размещался зверинец, практически ежедневно. Он был одержим тиграми и львами, чувствовал необъяснимую связь с этими дикими хищниками, как древние племена – с тотемными животными.
В этих вылазках в Ботанический сад у Делакруа была компания. Скульптор-анималист Антуан-Луи Бари, неповоротливый, немногословный, крупный увалень-нормандец, и Эжен Делакруа, хрупкий, невысокий, нервный, изысканный парижанин, откладывали все дела и неслись по городу плечо к плечу, когда из зоопарка приходила весть о новом приобретении или (большая удача) о смерти зверя.
Посыльные неслись со всех ног, чтобы доставить от художника скульптору срочное письмо подобного содержания: «Г-ну Бари, пассаж Сен-Мари. Лев мертв. Бегом. Время, которого мало, должно нас подогнать. Я вас жду. Тысяча поцелуев. Эжен».
Когда зверь умирал, а это случалось редко, нужно было успеть к снятию шкуры. Тогда представлялась уникальная возможность написать экорше – открытые мышцы хищника. Бари возвращался в мастерскую и лепил рельефные, напряженные тела сражающихся животных, Делакруа приходил в свою студию – и писал бесконечные сцены схваток тигров и лошадей, львов, терзающих добычу.
Делакруа был влюблен много раз, но лишь однажды он задумался о женитьбе. В его избраннице было все, о чем только можно мечтать. Жюльетта де Форже, в девичестве де Лавалетт, была крестницей Жозефины де Бонапарт и участницей легендарной авантюрной истории. Ее отец, генерал де Лавалетт, занимал высокий пост при Наполеоне и, не задумываясь, примкнул к императору во время его непродолжительного возвращения. Когда «сто дней» закончились, генерала приговорили к смертной казни. 12-летняя Жюльетта и ее мать устроили заключенному изящный побег. Пришли попрощаться и, обливаясь слезами, быстро переодели генерала в платье жены. Обнимая дочь и не прекращая рыданий, переодетый пленник свободно вышел из тюрьмы.
Уже повзрослевшая Жюльетта была свободолюбивой и независимой, жила отдельно от мужа, а скоро стала вдовой, была изящной, богатой, уравновешенной, обожала музыку, цветы и Делакруа. Их связь, близость, сначала страстная и исступленная, потом – нежная и дружеская, длилась до конца жизни художника.
Потомки Жюльетты, краснея от стыда и негодования, сожгли письма Делакруа, адресованные ей. Из тех немногих, которые уцелели, биографы выбрали самые целомудренные отрывки. Например, тот, где Делакруа благодарит Жюльетту за слепок ее руки, полученный в подарок: «Теперь у меня есть твоя ручка, которую я нежно люблю. Надо и мне сделать слепок с какого-нибудь места, чтоб он занимал твои мысли в мое отсутствие. Приходи, выберем это место вдвоем». Не известно, состоялся ли сеанс лепки, но, оберегая независимость и сохраняя силы только для искусства, Делакруа так и не сделал Жюльетте предложение.
Нервный, болезненный, хрупкий и уязвимый, Делакруа как будто постоянно делал выбор: на что он может потратить скудный запас жизненных сил, а на что его тратить – губительно. Со временем из допустимых удовольствий исключаются даже мимолетные романы и страстные свидания. Остаются только самые близкие друзья и работа.
Дети же в список допустимых радостей Делакруа не входили никогда. Дети – это грязные руки, которые будут портить бумагу и холсты. Дети – это барабаны, дуделки и слишком громкий плач, который отвлекает и истощает. Романтик Делакруа был уверен, что ребенок рождается с феерическим набором неуправляемых страстей, – и только страдание, воспитание и тренировка ума делают из него человека, пригодного для жизни с другими людьми.
Устроители Всемирной выставки 1855 года в Париже прекрасно понимали, что будет буря, но ничего не могли поделать. Два самых могучих таланта, два гения, Делакруа и Энгр, одинаково достойны больших экспозиций на предстоящей выставке. Поэтому решено, что участвовать будут оба. За Энгра, рисунок, линию, – вся Академия. За Делакруа, цвет, движение, бурю, – все известные литераторы.
В преддверии выставки оба были приглашены на званый обед. Делакруа мрачен и молчалив. Энгр нервничает, разъяряется и бросает раздраженные взгляды на противника. Не выдержав, подбегает к Делакруа и выпаливает: «В рисунке, сударь, – порядочность! В рисунке, сударь, – честь!» И от переполняющих его чувств выплескивает кофе себе на рубашку. Энгр выбежал из зала, бормоча: «Это уж слишком! Я не позволю себя оскорблять!» Делакруа продолжает мрачно молчать.
Когда картины обоих художников развешивали перед Всемирной выставкой, Делакруа заглянул в зал Энгра, чтобы поздороваться. «Откройте окна! Здесь запахло серой!» – закричал Энгр, когда его ненавистный оппонент вышел за дверь.
Когда Париж снова захлебнется в крови, чтобы навсегда распрощаться с королями, для Эжена Делакруа свобода будет выглядеть совсем иначе: «Свобода, купленная ценой жестоких баталий, не есть настоящая свобода, которая заключается в том, чтобы мирно бродить там, где вздумается, размышлять, обедать в раз навсегда определенное время и еще во множестве вещей…»
Во время этой революции Делакруа, художник, признанный всеми французскими правительствами, из Парижа уедет. У него маленький домик в Шемрозе, где он, растя виноград, нашел истинную свободу. И он знал, что делал. Искусствоведы посчитали: ни у одного французского художника всех времен не погибло от социальных потрясений столько работ, сколько у Эжена Делакруа.
Гойя: махо при дворе короля
Мы произносим «Гойя», и перед глазами немедленно возникает «Обнаженная Маха». Он создал примерно 500 картин, 300 гравюр и тысячу рисунков, но в первый момент непременно вспоминают – ее. Полулежащую, с призывным взглядом и слегка искаженными пропорциями. Это как Леонардо и «Джоконда» – невозможно мысленно разделить их, и самые проницательные видят в «Джоконде» автопортрет. Или как Флобер, утверждавший: «Госпожа Бовари – это я!» Связь Гойи и его «Махи» – того же порядка, и мы попробуем объяснить, почему. Маха – это ведь отнюдь не имя. Махами называли девушек из испанских социальных низов, веселых, легкомысленных и витальных. Жадных до музыки и любви. Мужской вариант – махо – известен нам сейчас как «мачо». Произношение слегка модифицировалось, но суть осталась прежней: внутренняя сила, темперамент, пассионарность. Франсиско Гойя с его простонародными корнями, жаждой жизни и неистовым характером и был махо. Мачо. Он думал как мачо, вел себя как мачо и даже писал – как мачо. В биографическом романе Фейхтвангера Гойя говорит: «Я – махо, хотя иногда и почитываю Энциклопедию».
Гойя был одним из трех сыновей владельца маленькой позолотной мастерской в деревушке Фуэндетодос. Его мать происходила из рода захудалых дворян – идальго, так удачно высмеянных Сервантесом в «Дон Кихоте», а вот отец был чистым батурро – простолюдином, передавшим сыну способность крепко стоять на земле и не питать лишних иллюзий.
Потом семья переехала в Сарагосу, где 13-летнего Франсиско отдали учиться в мастерскую художника Хосе Лусана. Там Гойя проведет около семи лет, больше преуспев не на поприще живописи, а в исполнении фанданго, пении серенад и уличных драках. Консервативный живописец Лусан сам посоветует Гойе попытать счастья в Мадриде, поступив в Академию Сан-Фернандо, хотя и в Сарагосе не было недостатка в работе. Поговаривали, что учитель просто хотел сплавить с глаз долой взрывного, темпераментного смутьяна, не расстающегося даже в мастерской со своим складным ножом-навахо, коварным оружием испанских махо.
«Франчо, ты родился луком, а не розой, – беспокойно говорила мать Гойи, – луком ты и помрешь».
Академия Сан-Фернандо отфутболила Франсиско дважды. В 1763 он не получил в свою пользу ни единого голоса, сгоряча отчаялся, но постепенно остыл и в 1766-м предпринял вторую попытку. Она тоже закончилась неудачей: Франсиско Гойя не был силен в рисунке, да и вообще ни на кого не похож – академики просто не поняли этот странный, небывалый, «деформированный» (как назовет его в ХХ веке Ортега-и-Гассет) стиль.
Кто угодно опустил бы руки. Но Гойя, родившийся под огненным знаком Овна, был чертовски упрям и настолько уверен в собственных силах, что решил: он все равно перехитрит – если не судьбу, так уж Королевскую академию точно. Не получив от нее пансиона, 23-летний Франсиско Гойя рванул в Рим за собственный счет. Для этого он примкнул к группе матадоров, направлявшихся в Италию.
Бой быков, кураж, возбужденный гул толпы – это вообще была его стихия. Общительный и задиристый Франчо обожал шумные сборища и не раз клялся сплясать арагонскую хоту на спинах тех, кто осмеливался косо посмотреть в его сторону. Франсиско Гойя принимал участие в корриде и выступлениях уличных акробатов. Он был ловок, мускулист и отчаянно смел, а о его амурных похождениях, осложненных многочисленными дуэлями, ходили легенды. Рассказывали, например, как Гойя, влюбившись в послушницу одного из римских монастырей, выкрал девушку из обители. Знавшие его накоротке не сомневались, что именно так оно и было.
Покорение Рима испанский художник начал с того, что забрался на купол собора Святого Петра. Но не затем, чтобы оценить вид на Вечный город, нет – на вершине собора Франсиско Гойя выцарапал свои инициалы. Матадор и драчун из Сарагосы жаждал во весь голос заявить о себе «городу и миру», и ни секунды не сомневался, что Провидение и Пресвятая Дева Аточская приготовили для него великое будущее.
В 1771 году, постранствовав по Италии и даже получив премию Пармской академии, Гойя возвращается в Сарагосу. В городе своей юности он с успехом расписывает дворцы и церкви. Его яркая палитра, настоянная на итальянском солнце, радует глаз, а ангелы, для которых позировали уличные плясуньи, украшают плафоны соборов и обволакивают сердца испанцев непозволительно сладкой истомой. Через пару лет Франсиско зарабатывал уже в три раза больше, чем его бывший учитель.
И все же Гойя рвется в Мадрид. Амбиции гонят его в столицу, а еще – его зовет туда старый приятель, придворный художник Франсиско Байеу, с которым Франсиско познакомился, когда безуспешно пытался поступить в академию.
В Мадриде мастер начинает создавать рисунки для королевской ковровой мануфактуры «Санта-Барбара». Здесь выпускали гобелены – большие безворсовые ковры ручной работы с жизнерадостными сюжетами и исполненными изящества харизматичными героями. Такие гобелены могли занимать почти всю стену, и ими с удовольствием декорировали не только частные дома, но и королевские покои. Королевская мануфактура, например, выпускала гобелены, которыми украшали помещения Эскориала. Задачей Гойи было создавать рисунки, на основе которых «Санта-Барбара» будет ткать гобелены. Какие же сюжеты могут подойти?
В Испании персонажами гобеленов были люди из простонародья – махо и манолас. Махо – это представители испанских городских низов, веселые, темпераментные и витальные. Они готовы в любой момент схватиться за нож, не дураки выпить и вообще довольно криминализированы (как всякие социальные «низы») и в то же время остаются хранителями народных традиций. Их страстных подруг называют «махи». «Махи» – женщины легкого нрава и таких же правил, что отличает их от «манолас» – приличных девушек строгих правил, этаких «благородных мах», впрочем, столь же безоглядно уверенных в собственной неотразимости.
Во времена Гойи изображения махо, мах и манолас были чрезвычайно популярны. Их национальные наряды были так выразительны, ярки и красивы, что даже аристократки, женщины из знатных родов, очень любили время от времени, особенно во время карнавалов и светских вечеринок, наряжаться в народном духе. Это было модно, а в текущей политической ситуации еще и помогало сохранять национальную идентичность. Особой приверженностью к испанскому народному костюму отличалась небезызвестная герцогиня Альба. На ростовых портретах Гойи она, аристократка, как раз одета в испанском народном стиле.
Всего Гойя выполнил не менее шестидесяти монументально-декоративных панно, служащих эскизами для гобеленовой мануфактуры. Их отличает удивительная, не представимая в дальнейшем творчестве Гойи искрящаяся жизнерадостность, многообразие и звучность палитры. Гойя вдохновенно создает счастливую утопию «естественного человека» с опорой на образы той среды, откуда вышел и он сам.
Франсиско Гойя – специалист по жутким историям и непростым для понимания сюжетам. Но картина «Похороны сардинки» – это не произвол авторской фантазии, а реально существовавший в Испании ритуал с легким привкусом абсурда.
В пепельную среду – день, предшествующий началу Великого поста, жители Мадрида и других городов Испании, а также испанских колоний в Латинской Америке, шумной толпой высыпали на улицы. Многолюдная процессия несла впереди себя большую рыбу (сделанную из подручных материалов). Со всех сторон раздавались притворные рыдания и громкий потешный плач. Ближе всех к безвременно почившей рыбе располагались громко стенающие «вдовы» с черными усами – группа ряженых испанских мужчин. Все идущие изображали безутешную скорбь, неизбежно переходящую в народные гулянья с песнями и плясками. Задача похорон сардины та же, что у любого карнавала: повеселиться и покуражиться так, чтобы хватило на все семь недель предстоящего поста. В конце праздника чучело рыбы сжигали (совсем как чучело Масленицы во время аналогичного праздника), а пепел бросали в воду.
В наше время этот обычай с соблюдением всех установленных ритуалов лучше всего сохранился на острове Тенерифе – самом большом из островов Канарского архипелага, бывшей испанской колонии. Пиренейские конквистадоры в XVI веке экспортировали на Тенерифе из Испании не только грипп и оспу, но также католическую религию и сопутствующие ей ритуалы вроде потешных похорон мертвой рыбы, нашедших отражение в известной картине Франсиско Гойи.
Похороны мертвой рыбы бессмысленны только на взгляд рационалиста. Но в карнавальном сознании, переворачивающем мир вверх ногами и предпочитающем порядку – веселый хаос, ничего невозможного не существует. По одной из версий, похороны сардины – это трансформация другого карнавального ритуала, еще более древнего. Когда-то в Испании накануне поста принято было погребать специально для этой цели заколотого поросенка. Название такого жертвоприношения – cerdna – было созвучно слову «сардина», так что со временем и хоронить стали ее: чем абсурднее, тем веселее!
Другая версия приурочивает ритуал как раз к эпохе Гойи: якобы при короле Карлосе III, первом покровителе художника, народ во время карнавала угостили протухшими сардинками. Но угощение сопровождалось таким количеством вина, что подданные Карлоса III не обиделись, а решили учредить торжественные похороны безвременно усопшей рыбы.
Шпалеры Гойи очень нравились при дворе. Коммуникабельный Франсиско быстро обрастает влиятельными знакомыми. Ему покровительствуют гранд Осуна, критик Сеан-Бермудес, придворные реформаторы Флоридабланка и Ховельянос, инфанты и сам король. Вскоре на трон восходит следующий монарх – безвольный, но чувствительный Карлос IV. Положение художника от этого только упрочилось. Гойя сумел обаять и нового короля, и его умную и властную супругу Марию Луизу Пармскую, и даже ее всесильного фаворита и будущего премьер-министра Мануэля Годоя. Это тем более поразительно, что в своих портретах королевских и приближенных к ним особ мастер ни в малейшей степени не льстит: Карл IV так и остается на них «размазней», а королева – стареющей сластолюбицей.
«Так случилось, что отныне я – придворный художник. Трудно привыкнуть к мысли, что мой годовой доход теперь будет составлять более 15 тысяч реалов», – сообщает Гойя одному из друзей. Другому пишет: «Я не могу себя ограничивать так, как, может быть, себя ограничивают другие, потому что здесь, в Мадриде, я очень почитаем». Теперь Франсиско может отдаться своим слабостям – поглощению шоколада и охоте на куропаток. И он, наконец, отмщен перед Академией Сан-Фернандо: сначала избирается ее членом, а потом становится директором. На этом посту он сменил скончавшегося Байеу.
Нужно сказать, отношения Гойи и Байеу никогда не были простыми. Франсиско казалось, что Байеу давит на него, и они часто ссорились. Классицистски настроенный Байеу поучал Гойю, что тому следовало бы быть посдержаннее в красках и поаккуратнее в линиях, а для этого брать себе за образец француза Жака-Луи Давида. Можно представить, как действовали на гордеца Франсиско эти призывы. В одном из сохранившихся писем Гойя заклинает собственный гнев на Байеу словами: «Я вновь и вновь обращаюсь к Богу с просьбой освободить меня от вспыльчивой гордости, которая овладевает мною».
Но была и еще одна причина, порождавшая напряжение: любвеобильный Гойя соблазнил сестру Байеу Хосефу. Все открылось не сразу. На момент спешного венчания Хосефа была беременна. Байеу был возмущен, но подавил эмоции: Франсиско уже успел получить прочное положение при дворе и был далеко не беден.
Первое время Хосефа ощущала себя очень счастливой, их дом был полной чашей, а за один только парадный выезд (лошадей и карету) мастер отдал столько, сколько его отец-позолотчик не зарабатывал за год. Франсиско Гойя хвастал: «В Мадриде такая только у меня и у министра Годоя».
Испанский художник и Хосефа проживут вместе почти 40 лет. Она будет страдать от многочисленных измен мужа, бояться, когда Гойю, становящегося в своих работах все откровеннее и критичнее, начнет преследовать инквизиция. Хосефа потеряет (живыми и неродившимися), по некоторым сведениям, почти 20 детей: до зрелых лет доживет только один их сын, Хавьер – тоже художник, а впоследствии ростовщик и пройдоха.
За все четыре семейных десятилетия Франсиско написал лишь один портрет Хосефы. Во всяком случае, других до нас не дошло.
Гойе было 46, когда с ним приключилось нечто, наложившее отпечаток на всю его дальнейшую жизнь. Загадочное заболевание, о котором нам достоверно известно лишь то, что оно преследовало Гойю уже много лет, заставило его просить в Мадриде официальный отпуск на пару месяцев и направиться для поправки здоровья в Андалусию.
Разумеется, за два месяца болезнь не прошла. Когда Гойя гостил у своего друга-финансиста Себастьяна Мартинеса в Кадисе, им внезапно овладело «скверное расположение духа», за которым последовал удар. Художник ощутил мучительный шум в голове, перестал ориентироваться в пространстве и вскоре впал в кому. Быть может, это был инсульт? В конце XVIII века не знали действенных способов его лечения – ну, разве что кровь пустить. Франсиско Гойя некоторое время находился на грани жизни и смерти, однако выжил.
Многие сходятся на том, что загадочная болезнь могла стать осложнением перенесенного в 1777-м сифилиса, следствия бурной молодости. С тех пор он страдал от сильных головных болей, шума в ушах, временной слепоты, непроизвольной дрожи мышц и паралича правой руки. Но главное: мастер потерял слух.
Другие проявления болезни бывали периодическими – глухота осталась с ним навсегда. До конца жизни (а проживет он еще 36 лет) художник останется глухим. Он общался с людьми, читая по губам и используя записки.
Изменения коснулись творчества Гойи: красочную жизнерадостность сменили гротеск и кошмары. Тогда родилась тревожащая серия офортов – знаменитые «Капричос». Призраки и злодеи, ведьмы и демоны вместо пышногрудых мах, испанских святых и королевских особ – так теперь видел и воспринимал мир испанский художник, лишенный возможности его, этот мир, расслышать.
Но одно в жизни художника осталось неизменным: его все так же любили женщины.
Самой яркой звезде на небосклоне мадридской придворной жизни герцогине Каэтане Альбе было чуть за двадцать, когда Гойя изобразил ее в рисунке для шпалер, и слегка за 30, когда он написал с нее первый портрет. Она отличалась красотой, утонченностью, пылкостью, а ее родословная дала бы фору даже находящимся при власти Бурбонам. Когда между нею и Гойей вспыхнул роман, ему было под пятьдесят. Он был наполовину простолюдин, к тому же совершенно глухой. Но разве это могло остановить любовь?
Уже в ХХ веке наследники герцогини Альба потребуют эксгумации ее бренных останков и проведения замеров костей, чтобы доказать: бесстыдно обнаженная «Маха» – это вовсе не она, не Альба! Не с нее, дескать, писал Гойя это соблазнительное тело с приставленной к нему (чтобы не вычислила инквизиция!) чужой головой.
Но, что бы там ни заявляла их чисто испанская сословная спесь, в наследии мастера сбереглись следы того, что после смерти Хосе де Толедо, мужа Каэтаны, художник стал ее кортехо (возлюбленным). Десятки рисунков изображают герцогиню обнаженной, а на одном из них приписано ее рукой: «Хранить такое – просто безумие». На живописном портрете Альбы в черном ее руку украшают кольцо и перстень: на одном из них надпись: «Гойя», а на другом – «Альба». И еще от того периода сохранилась записка Франсиско другу: «Теперь наконец я знаю, что значит жить!»
Альба дразнила его, бросала, уходила от него к кому-то более молодому и знатному, потом снова возвращалась и осталась самой большой и мучительной страстью в жизни Гойи. Их отношения длились около семи лет.
Казалось, под старость Франсиско Гойя останется совсем один. Кого-то из его друзей угробила инквизиция, кто-то по политическим мотивам вынужден был покинуть страну. В 1802 году умрет Альба, по слухам, отравленная ядом из красочных пигментов, а в 1812-м не станет ворчливой и верной Хосефы. Гойя уединится в пригороде Мадрида, выстроив там усадьбу Кинта дель Сордо («Дом глухого»), и покроет ее стены изображениями пугающих видений. Испания переживет «ужасы войны» и французскую оккупацию, однако Франсиско сможет сохранить положение придворного художника и при правлении французов – чего потом испанцы долго не смогут ему простить.
А когда Гойе исполнится 68 лет и можно будет подводить итоги и оплакивать потери, его жизнь вновь заиграет радугой и запахнет скандалом. Замужняя красавица Леокадия Вейс, на 40 лет его моложе, влюбится в Гойю и уйдет от состоятельного и нестарого мужа к нему. Вместе они сбегут от политических гонений во Францию, у них родятся еще двое детей – сын и дочь, а его старший возмущенный сын Хавьер, ровесник Леокадии, долго будет судиться с отцом за немалое наследство.
Великий испанский художник умрет во французском Бордо в возрасте 82 лет.
Уильям Тёрнер: интеллектуальный кокни
Современники отмечали, что Уильям Тёрнер «кто угодно, но не красавец». Он был типичным кокни, то есть лондонцем из нижних слоев, с характерным выговором, и внешне ничем не напоминал джентльмена. Широко известен его автопортрет в возрасте 24 лет, написанный в 1799 году по случаю избрания кандидатом в члены Королевской Академии живописи. Перед нами предстает миловидный юноша в щегольских модных одеждах. Но, судя по всему, это изображение несколько идеализировано.
Карандашный портрет Тёрнера, сделанный годом позже Джорджем Дэнсом Младшим, показывает человека с крупными чертами лица и крючковатым носом, похожего на Панча – персонажа британского кукольного театра. Со временем внешность художника огрубела еще больше. Приземистая фигура, обветренное красное лицо, кривые ноги и большие ступни придавали ему сходство с моряком или извозчиком. Сюда же стоит добавить «вечно немытые» руки – сказывалась привычка размазывать краску по поверхности пальцами.
Тёрнеру было 14, когда одну из его акварелей выставили в Королевской академии и разрешили ему свободное посещение занятий. К тому времени юный Тёрнер успел поучиться у архитектора Томаса Хардвика и акварелиста Томаса Мелтона. Кстати, впоследствии он говорил, что если бы выбирал путь заново, то предпочел бы архитектуру.
Президентом Королевской академии в те годы был сэр Джошуа Рейнолдс, к которому Тёрнер-художник питал глубочайшее почтение. Нередко бывая у главы академии дома, Уильям любовался подлинниками Рубенса, Пуссена, Рембрандта. В старости он даже обронил, что, пожалуй, счастливейшие свои дни провел именно в общении с Рейнолдсом.
Еще ребенком Уильям пропадал целыми днями на Темзе, которую писал потом всю жизнь. Признание он получил в молодости, а собственную галерею открыл, когда ему и 30 не было. Это его идея фикс – чтобы все картины были собраны в одном месте.
Безусловным авторитетом и богом в живописи для Тёрнера был Клод Лоррен. Лоррен первый поместил на свои полотна сияющее солнце, главное божество Уильяма Тёрнера. По слухам, когда Тёрнер впервые увидел картины Лоррена, то от полноты чувств разрыдался и заявил, что повторить такое никому не под силу. Тем не менее именно ему удалось встать в один ряд со своим кумиром и оказаться достойным преемником, воспевающим солнце.
Когда Тёрнеру исполнилось лишь четыре дня от роду, в небе случился любопытный оптический феномен – явление «трех солнц». А незадолго до смерти он, как гласит легенда, произнес «солнце – это бог». В течение всей жизни он искал способы изображать солнечный свет. Небесное светило появляется на множестве полотен, иногда как нечто очень естественное и элементарное, иногда – как таинственное и мистическое.
В то время состав солнца и источник его энергии были еще загадкой. В одном здании с Академией живописи располагалось Королевское научное общество, и Тёрнер посещал лекции там, обсуждал с такими учеными, как Майкл Фарадей и Мэри Сомервилль, штормы, новые открытия в области цвета и света, магнетизма и электричества. Вполне возможно, что на его визуальные эксперименты повлияли новейшие научные теории о солнце так же, как на палитру – труд Иоганна Гёте «К теории цвета».
«Тёрнер не просто пытался написать солнце. Кажется, он действительно хотел перенести его энергию и свет на свои картины», – заметила британский искусствовед Никола Мурби. С той же научной тщательностью, что и Тёрнер, к атмосферным явлениям подходил его современник Джон Констебл. Но отношения этих двух художников не сложились.
Однажды на одной из выставок работы Констебла и Тёрнера повесили рядом, и перед открытием первый наносил финальные штрихи на свое полотно красноватым пигментом и киноварью. Второй же, понаблюдав за коллегой, «одним мазком положил круглое пятно свинцового сурика, размером чуть больше шиллинга, на свое серое море и, ни слова не говоря, ушел». Яркий сурик пригасил цвета на картине Констебла, который пожаловался, что «он был здесь и сделал свой выстрел». В последнюю минуту Тёрнер взял кисть и превратил красное пятно в бакен.
Но оба художника практиковали один общий метод – написание этюдов маслом на пленэре. У Тёрнера был переносной ящик с красками, где он держал пигменты, обернутые в пленки из рыбьего пузыря, предохранявшие их от высыхания. Оловянный тюбик для масляных красок был запатентован еще при жизни художника, в 1841 году, но в полной мере воспользоваться этим изобретением смогли лишь его последователи-импрессионисты.
Еще в молодости Тёрнер построил лодку и сплавлялся по реке, жадно впитывая сюжеты для будущих картин. В странствия он вообще отправлялся с одной целью – наполниться впечатлениями, отыскать новые темы и новые цвета.
В юности Тёрнер бродил по горным районам Уэльса, позже осваивал центр, север и юг Англии. С 1800-х он путешествует по Европе. Франция, которая еще не стала художественной меккой, Швейцария, Шотландия, Германия… Италия! Вот куда он рвался. Увидеть Рим, Турин, Милан, Верону, сделать бесчисленное множество эскизов и рисунков… Но главное – Венеция. Венеция Тёрнеру, так тонко чувствующему игру света, движение воды, солнечные блики, вероятно, показалась раем. Что он ощутил, впервые оказавшись в этом месте? В этот рай он приедет еще не раз. Кажется, что в венецианских пейзажах Тёрнеру удалось за холст поместить солнце, и именно его лучи делают картины такими сияющими. Это солнце он не потеряет уже никогда.
Одна из самых ярких картин, где главным героем стало солнце, – это «Регул», написанная и выставленная после второй поездки Тёрнера в Италию в 1828 году, а затем переработанная и вновь показанная в Лондоне в 1837-м. Художник проиллюстрировал эпизод из жизни римского генерала III века Марка Атилия Регула, олицетворяющего стоическое достоинство и самопожертвование. Этот полководец был захвачен карфагенянами, которые хотели отправить его в Рим на переговоры. После отказа ему отрезали веки и заставили смотреть на солнце, пока он не ослеп, а затем казнили.
Тёрнер изобразил своего героя несколькими бледными мазками в правой части холста – его почти невозможно найти. Так художник заставляет зрителя занять место Регула и в поисках протагониста всматриваться в яркий свет на полотне. Автор не только бросает вызов нормам исторической живописи, но использует классический рассказ, чтобы хитро отреагировать на критику своего творчества – «ослепляющее» и «почти вырывающее глаза», как писали рецензенты.
Героем другого произведения стала огненная стихия – пожар в одном из старых зданий Вестминстерского дворца.
16 октября 1834 года вспыхнул пожар в здании парламента. Возгорание произошло от раскалившейся печи, в которой сжигали вышедшие из употребления деревянные бирки казначейства. Диккенс писал, что лондонские бедняки таили надежду – вдруг эти палочки отдадут им на растопку печей. Но нет, их попытались сжечь «в обстановке строгой секретности». С секретностью, как мы понимаем, не особо получилось…
Лондонцы собрались на берегах и мостах. Тёрнер, которого всегда привлекали бушующие стихии – огонь, вода, воздух, – не мог пропустить это зрелище. Многие нанимали лодки, чтобы поближе полюбоваться грандиозным пожаром. В их числе был и Тёрнер. Он сделал наброски, по которым позже написал две картины.
Картины были замечены и восприняты неоднозначно, что вообще часто происходило с работами Тёрнера. Кто-то восхищался, кто-то недоумевал, кто-то возмущался. Газета The Morning Chronicle опубликовала рецензию, в которой рекомендовала сотрудникам академии «хотя бы изредка набрасывать мокрое одеяло или что-то вроде того либо на этого короля пожаров, либо на его произведения…». Противники Тёрнера характеризовали «Пожар в здании парламента» как «совершенно невыразительную массу пигментов, размазанную полосами краску…»
История увлечения Тёрнера пожарами началась в юности. Он подрабатывал декоратором в театре «Пантеон». Вскоре в театре произошло возгорание, и он сгорел дотла. Юный художник утром явился на пепелище и старательно все зарисовал. После чего 10 дней не ходил на занятия в академию, а работал над захватившим его видением. Следующей весной в Королевской академии была выставлена его акварель.
Старый Тёрнер, отец художника, любил показывать посетителям их галереи картину «Переход Ганнибала через Альпы», требуя отыскать на картине слона. Удавалось это не всем, а слон между тем есть – на заднем плане по центру: там, где в небе занимается золотой свет, виден хобот слона. А на слоне – Ганнибал, ведущий свое войско. Вон там вдалеке из-за слоновьего хобота выглядывает крошечный силуэт «повелителя»… Могучая и непобедимая армия Ганнибала на фоне стихии не впечатляет. Очевидно, что перед бушующей природой слабые маленькие человечки беспомощны. К этому сюжету – противопоставлению человека и стихии (отнюдь не в пользу первого) Тёрнер обращался неоднократно.
В данном случае очевидна аналогия с событиями современности. «Снежная буря» написана в 1812 году. В этом году Наполеон предпринял поход на Россию, окончившийся его поражением. А за 10 лет до того Тёрнер рассматривал картину Жака Луи Давида «Переход Наполеона через перевал Сен-Бернар», на которой художник изобразил императора в образе современного Ганнибала.
По одной из версий, замысел картины возник у Тёрнера, когда он гостил в поместье Фэрнли-холл у Уолтера Фокса – парламентария, землевладельца, коллекционера, по чьему заказу Тёрнер много писал. Как-то в компании сына хозяина Хоксворта Тёрнер наблюдал мощную грозу, грохотавшую и сверкающую над йоркширскими холмами. По воспоминаниям Хоксворта, Тёрнер ни на мгновение не отводил взгляд от бушующей стихии, а когда буря утихла, пообещал: «Погоди, Хоки. Года через два ты увидишь это опять и назовешь «Ганнибал переправляется через Альпы».
История личной жизни Уильяма Тёрнера довольно темная, хотя основные персонажи известны. В конце 70-х он сдружился с семейством композитора Джона Денби. А когда тот умер – с его женой. Да так сдружился, что вскоре уже жил с ней. Сара Денби родила ему двух дочерей. Хорошим отцом Тёрнер не был, хотя в завещании дети упомянуты. Племянница Сары, Ханна Денби, с 23 лет служила у Тёрнера, присматривала за его хозяйством. Отношения их не ограничились рабочей стороной, по всей вероятности, имела место и личная связь. Ханна всю жизнь была глубоко предана Тёрнеру. Судя по рассказам очевидцев, она с возрастом становилась все более эксцентричной и страдала какой-то кожной болезнью, в результате чего все ее лицо и тело оказалось покрыто коркой.
Последняя любовь Тёрнера – снова вдова, София Бут. Художник несколько лет снимал у нее комнату, приезжая в Магрит. По ее воспоминаниям, он никогда не участвовал финансово в их жизни… Соседи его знали как судебного делопроизводителя мистера Бута. Под конец жизни Тёрнер оставил на Ханну дом с галереей, а сам перебрался к Софии Бут. Однажды Ханна решилась, закутавшись с ног до головы, прийти к дому, в котором Тёрнер, тогда уже тяжело болевший, жил с Софией, постояла молча и ушла. У миссис Бут на руках ослабевший художник и скончался на 76-м году жизни. По ее воспоминаниям, даже не вставая с постели, Тёрнер частенько требовал рисовальные принадлежности и делал наброски в блокнотах.
Большинство современников сходятся во мнении, что Тёрнер нрав имел недружелюбный, резкий и близко с ним лучше бы не сходиться. Он либо молчал, либо был бесцеремонным и язвительным. Впрочем, в хоре недовольных дурным нравом Тёрнера встречаются и иные голоса. Однажды он гостил у одного из своих богатых покровителей и коллекционеров. На вопрос кого-то из домочадцев, почему бы ему не написать автопортрет, Тёрнер ответил: «Какой смысл рисовать такую незначительную фигуру, как я? Это может навредить моим рисункам. Люди скажут: что способен нарисовать такой малыш?»
Когда Тёрнер писал, он приходил в неистовство. Уолтер Фокс, богатый коллекционер, с удовольствием покупавший картины Тернера, вспоминал, что тот начинал с того, что заливал жидкой краской бумагу, пока она не становилась совсем мокрой. Нередко он работал сразу над несколькими картинами – пока одна сохла, занимался следующей, затем переходил к другой, после чего возвращался к первой. Когда лист просыхал, художник, словно в исступлении, принимался рвать, скрести и тереть бумагу, причем эти движения казались лишенными какой бы то ни было системы, хаотичными. Но постепенно проявлялось изображение. Метод Тёрнера был противоположен классическому подходу с его строгой заданностью форм и фона. Тёрнер же сначала проявлял текучее, стихийное пространство, в котором работал, из которого под движениями его кисти, а нередко и пальцев рождались свет, цвет, сияние, солнце, вода, огонь. Последние правки перед выставками художники, случалось, вносили в уже развешанные в академии картины. В исполнении Тёрнера это было совершенно дикое действо: он мог растереть краску плевком, подправить пальцем, а ярость, с которой он работал над картиной, заставляла тревожиться о целостности холста.
Еще одной малоприятной чертой характера живописца, вошедшей в легенду, была скупость. Автор биографии «Тёрнер» Питер Акройд приводит несколько свидетельств этому. Например, встречу своего героя с писателем Вальтером Скоттом в Шотландии, когда один согласился предоставить рисунки для «Шотландских провинциальных древностей», а второй – снабдить их текстом. Но уже несколько месяцев спустя Скотт написал другу: «Ладонь Тёрнера столь же вызывает зуд, сколь талантливы его пальцы, и он, поверь мне на слово, ничего не сделает без наличных, причем за них – все, что угодно. Изо всех, кого я знаю, он почти единственный человек с дарованием, который так низок в этих вопросах». Однако отчего же художнику не отстаивать свои права? «Скотту как никому другому полагалось бы понимать значение денег как эквивалента творческого труда», – заключает Акройд.
Другой биограф, Джордж Уолтер Торнбери, описал распространенную историю о путешествии Тёрнера в Йоркшир, когда тот привез книготорговцу Робинсону запечатанное рекомендательное письмо от лондонских издателей Лонгманов. Там говорилось, что «превыше всех вещей [нужно] помнить, что Тёрнер – великий жид». Скорее всего, речь шла о его меркантильности, но Робинсон понял все буквально. Он вслух предполагал, что гость не захочет пойти в воскресенье в церковь, и извинялся, когда к столу подали свинину.
Однако биографы уравновешивают эти карикатурные образы, представляя Тёрнера интеллектуалом и человеком с чувствами, тщательно спрятанными под внешней грубостью. Разбогатев, художник приобретал дома и землю, но не всегда был суров с арендаторами. После его смерти выяснилось, что он несколько лет не брал платы с одного несостоятельного жильца. А купив три смежных участка земли в Туикнеме, завещал открыть там богадельни для неимущих коллег.
В общении с коллегами художник Тёрнер деликатностью тоже не отличался, а уж когда был произведен в академики в 1802 году, то и вовсе многие стали упрекать его в заносчивости и высокомерии. Тем не менее его замечания коллеги чрезвычайно ценили, он мог с первого взгляда точно сказать, что стоит подправить в работе, и всегда это оказывалось правильным решением. Несмотря на далеко не легкий характер, работы его получили признание и в академии, и в домах богатых коллекционеров. Художник Бенджамин Уэст назвал Тёрнера величайшим живописцем современности и в весьма изящной формулировке признал его заслуги: «Рембрандт хотел бы так писать!.. Если б мог».
А вот преподавание оказалось слабой стороной Тёрнера. Речь его, профессора перспективы в Королевской академии, была скучна и сбивчива, хотя студенты все равно любили его лекции и приходили на занятия. Самое интересное начиналось, когда он, отбросив попытки читать лекцию, начинал показывать, что такое живопись, и каково оно – написать картину.
Сын богатого виноторговца Джон Рёскин встретил Тёрнера, когда художнику было 65 лет, Рёскину же – 21. Рёскин стал самым воинствующим поклонником искусства Тёрнера и яростным борцом за его репутацию. Искусствоведы к его фигуре относятся двояко, есть мнение, что Рёскин был пошловатым богатым франтом. Но кем бы он ни был, во многом благодаря его стараниям исполнена последняя воля Тёрнера – о том, чтобы его картины были по возможности собраны и выставлены в одном месте. С 1949 года – это лондонская галерея Тейт, официальная обитель работ Тёрнера.
В последние годы жизни работы Тёрнера становились все более радикальными. Критики того времени были сбиты с толку и открыто задавались вопросом, не впадает ли художник в старческое слабоумие. Один из ранних покровителей Тёрнера сказал: «Теперь он пишет так, словно его мозг и воображение смешались на палитре с мыльной водой и пеной».
Примером такого произведения-загадки может быть пейзаж «Замок Норем на рассвете», который никогда не выставлялся при жизни художника. Неизвестно, было ли полотно закончено. Все сходятся лишь в том, что в середине 1840-х никто и нигде не писал подобным образом.
Норемскому замку Тёрнер отводил особую роль. Однажды, будучи уже немолодым известным художником, он проезжал мимо руин крепости и вдруг встал в экипаже и поклонился им. А своим изумлённым спутникам пояснил, что когда-то в юности изобразил замок Норем – и с тех пор заказчикам не было отбоя. Он вновь и вновь возвращался к этому сюжету, и последний вид – где развалины предстают лишь как смутное пятно, – можно рассматривать как символ памяти, хранящей яркие образы юности.
И пока арт-критики думали, что стареющий живописец сходит с ума, он – в середине XIX века! – изобретал даже не импрессионизм, праотцом которого его считают, а всю современную живопись. Его называют «учителем» Марка Ротко и Джексона Поллока: за сотню лет до них он освободил живопись от необходимости подражать реальности и копировать ее. Говорят, что после просмотра картин Тёрнера нужно дать глазам время привыкнуть к окружающему миру, который в сравнении с сияющим тёрнеровским выглядит так, будто у вас катаракта.
Василий Тропинин: крепостной художник
Василий Тропинин – главный московский портретист начала XIX века и самый трогательный украинский жанровый лирик, крепостной-академик и художник-кондитер. В то время когда Доминик Энгр путешествует по Италии, а Делакруа дебютирует в Салоне, когда Уильям Тёрнер преподает курс перспективы студентам Королевской академии и смело снимает желто-коричневую патину «древности» с окружающего мира, а Франсиско Гойя получает внушительное жалованье от королевского двора и покупает второй дом, Василий Тропинин продолжает прислуживать за барским столом, будучи уже признанным и востребованным художником.
Однажды к хозяину Тропинина графу Моркову в дом пожаловал ученый гость откуда-то из Европы. Иностранца провели в мастерскую, где он долго беседовал с Василием Андреевичем, восхищался его картинами и высказывал всяческое уважение к таланту живописца. Когда пришло время обеда, гостя пригласили остаться. В столовой, увидев уже знакомое лицо, иностранец кинулся к Тропинину, предлагая место за столом рядом с собой. Все семейство Морковых в растерянности отводило глаза и ожидало, когда бестолковый приезжий ученый поймет наконец, что разговаривает с лакеем. После этой истории Тропинина освободили от обязанности прислуживать за столом, чтобы избежать подобных недоразумений. Однако от рисования графских гербов на каретах, от покраски заборов и от выпечки пирожных его никто освобождать не собирался – вольную художник получит только в 47 лет.
Василий Тропинин был крепостным мальчишкой с особым положением. Его отец, управляющий графа Миниха, за особые заслуги и преданную службу уже в почтенном возрасте получил вольную. На детей, правда, эта привилегия не распространялась. К тому же особый статус отца не сулил мальчику никаких поблажек – дворовые люди вымещали на нем все свои обиды, откровенно и жестоко отыгрываясь за прежние строгости Тропинина-старшего.
В школе Василия учат грамматике, арифметике, чистописанию и чтению, но единственное из школьных занятий, которое мальчика увлекает, – это рисование. Возвращаясь домой, он в отсутствие хозяев просится на часок в комнаты к дворовым девушкам и срисовывает лубочные картинки, развешанные по стенам. Однажды мальчишке здорово досталось, когда его застукали за затянувшейся чисткой хозяйской обуви. Вместо того чтоб полировать до блеска графские сапоги, он рисовал ваксой портреты прямо по стенам людской.
Когда дочь графа Миниха Наталья Антоновна выходила замуж, Тропинин уехал с ее платьями и драгоценностями, посудой и кружевами, сундуками и коробками в новый дом в Москву. В качестве приданого.
«Толку не будет!» – махнул рукой новый барин граф Морков на просьбы старшего Тропинина отдать сына на обучение в Академию художеств. Пусть лучше учится у кондитера в Петербурге: делать торты да варить варенья куда полезней. Умелый кондитер, способный ко всему прочему нарисовать узор для вышивки или расписать кухонную утварь, был ценной собственностью. Тропинин был кроток и послушен барину, но невероятно упрям в своей страсти. В Петербурге он мало того что отыскал художника по соседству и взял у него несколько уроков, но и умудрялся в свободное время наведываться на занятия в академию. Для всех желающих, любого сословия и возраста, на три часа утром и на два часа вечером здесь открывались двери на уроки по рисунку и копированию древних статуй. Беднякам даже выдавали карандаш и бумагу – искали дарования.
Барину Ираклию Ивановичу не остается ничего другого, как сдаться на уговоры своих родных и через год отправить Тропинина опять учиться в Петербург, теперь уже в Академию художеств. Пять лет юноша проживет на академической квартире профессора Щукина, жадный к новым знаниям, побывает во всех прославленных мастерских столицы, с восторгом будет пользоваться доступом к эрмитажному собранию.
Василий Андреевич как раз копировал в Эрмитаже портрет Рембрандта, но пришлось оставить его незаконченным – барин уезжал в свои новые украинские владения и требовал крепостного Тропинина срочно домой. Поедет вместе со всеми – будет строить и расписывать церковь.
Кукавку тогда только освободили от католиков-поляков, и чтоб продемонстрировать милость нового российского барина по отношению к православным крестьянам, Морков решил сначала выстроить здесь церковь, а потом уже усадьбу. Во время строительных работ Тропинин живет в селе сам, в одном из крестьянских домов. Юные темноглазые подолянки, колоритные, мудрые старики, крепкие загорелые мужчины – художник пишет их всех с восторгом и благодарностью, собирая свою собственную галерею типажей, которых хватит на всю жизнь. Позже он рассказывал, что в Кукавке научился гораздо большему, чем в столичной академии.
Церковь откроется – и первой свадьбой, которая здесь пройдет сразу же после освящения, будет свадьба Тропинина. Анна Ивановна Катина была вольной жительницей Кукавки. И, выходя замуж за доброго, умного, образованного, пусть даже сто раз гениального, но крепостного художника, теряла свободу. Тропинины прожили вместе больше 50 лет.
Версий знакомства художника Тропинина с народным мстителем Устимом Кармелюком, сбегавшим из заточения и из ссылки легендарное количество раз, существует несколько. По одной из них, Тропинин писал Кармелюка прямо в месте заточения, в Каменец-Подольской крепости, чтобы его тюремщики могли приложить портрет к судебному делу. По второй версии, более правдоподобной, основанной на воспоминаниях жителей Кукавки, художника познакомил с народным героем местный лекарь, который в том числе тайком лечил раненых сподвижников Кармелюка.
Художник и народный мститель могли встретиться приблизительно в 1818–1820 годах – Кармелюку тогда было слегка за 30. Это человек, которому пришлось бросить семью, которого ожидало 25 лет солдатской службы, который сбежал из уланского полка, но никогда уже не смог вернуться домой. Он всегда жил где-то рядом, должно быть, тайно и с огромной опасностью для жизни пробирался иногда в свой дом, чтоб обнять жену и посмотреть на спящих детей, но каждый раз должен был уходить в лес и прятаться.
Для крепостного художника-романтика такая встреча была настоящей удачей. Кармелюк – неуловимый защитник обездоленных, объявленный в розыск, приметы которого знают все жители окрестных сел: «лица круглого, носа умеренного, волосов на голове, усах и бороде светло-русых, глаз голубых». О нем слагают песни и легенды – одной только песни «За Сибіром сонце сходить» существует больше 40 вариантов. Его имя шепотом с надеждой произносят крестьяне детям перед сном, его имя с ужасом передают друг другу польские паны и российские дворяне, недавно завладевшие украинскими землями. Говорят, что он дьявол, который совершил самый дерзкий побег из самой охраняемой и неприступной крепости. Говорят, что он ангел, который ничего не оставляет себе и все украденные у господ деньги отдает крестьянам. Говорят, войско Кармелюка, скрывающееся в лесах и пещерах, насчитывает 20 тысяч человек.
Морков ценил талант своего усадебного художника, доверял ему важные семейные дела и в конце концов освободил от любых других занятий кроме живописи. Но Тропинин, вероятно, был еще и самым надежным человеком в окружении графа.
Вот, например, война 1812 года. Граф самоотверженно прыгает в седло, назначенный указом императора возглавлять московское ополчение, забирает с собой сыновей и только успевает отдать приказ Василию Андреевичу: позаботиться об имуществе, людях и прочих делах. Денег оставить в спешке забывает – но все равно, попадая под подозрение, проезжая какие-то участки дороги с конвоем, выслушивая проклятья от крестьян по пути, Тропинин одним из первых въезжает с барским обозом в сгоревшую Москву и готовит дом к приезду хозяина.
Даже когда давление друзей-москвичей, издателей, героев войны и писателей не оставит Моркову выбора и ему придется освободить своего художника, он будет уговаривать Тропинина остаться жить в доме, уже свободным.
Жена и сын Василия Андреевича вольную получат только через пять лет, и поэтому он селится недалеко от них, тут же, в Москве, но теперь в своем доме. Тропинин приложит все усилия, чтобы больше ни от кого никогда не зависеть. Он откажется стать столичным академиком и получать от Академии художеств распределяемые государственные заказы, не будет участвовать в больших светских выставках. Зато он перерисует всю Москву, по его портретам можно будет делать перепись купцов и дворянства начала XIX века.
В московской квартире Тропинина была знаменитая дверь. Посетители, не застававшие художника дома, оставляли надписи на двери: «Был Брюллов», «Заходил Свиньин». Вся она за несколько лет покрылась посланиями друзей и почитателей. Василий Андреевич скучал по этой двери особенно, когда купил за Москвой-рекой маленький домик и уехал туда жить вместе с сыном. Все его друзья, художники, почитатели и родные соберутся у дверей этого домика 3 мая 1857 года, чтобы проводить лучшего московского портретиста на Ваганьковское кладбище. «Никогда еще не было такого большого стечения народа в жилище маститого художника, проводившего всю свою жизнь скромно, благородно, неусыпно, деятельно; много два, три человека близких сходились у него побеседовать и послушать мудрых его речей – а в этот день была толпа, которая была безмолвна…» (Из воспоминаний Николая Шихановского.)
Орест Кипренский: взлет и падение
Есть некая ирония высших сил в том, что Кипренскому, родоначальнику романтизма в русской портретной живописи ХIХ века, досталась столь романтическая, даже романная биография. Незаконнорожденность, выдуманная фамилия, блистательная внешность, громкий успех в России и Италии (даже галерея Уффици желает заполучить автопортрет!), а после этого – охлаждение публики, подозрения в убийстве римской натурщицы, женитьба на ее едва достигшей совершеннолетия дочке, пьянство и деградация. И, конечно, талант – к концу жизни бесславно растраченный, но все равно невероятный, непостижимый, очень мощный.
Кипренский был незаконным сыном бригадира Алексея Степановича Дьяконова. Мать Ореста, Анну Гавриловну, Дьяконов выкупил у помещика-соседа, а когда сыну исполнился год, дал ей вольную. Но вскоре снова закрепостил: выдал за Адама Карловича Швальбе, собственного крепостного. Как немец-лютеранин стал крепостным – до сих пор загадка. Именно Швальбе будет считаться названым отцом Кипренского и даст ему свое отчество. Что же до фамилии, то для незаконнорожденных детей нормальным считалось выбрать фамилию на свое усмотрение. Поэтому несколько первых лет жизни Орест носил фамилию Копорский – по названию населенного пункта Копорье (ныне Ленинградская область). Позже, уже в академии, его переименовали в более звучного Кипрейского, а потом – в Кипренского. На родине художника до сих пор жива легенда, что имя ему дала высокая трава с темно-розовыми цветками – кипрей, в изобилии растущая на болотистых окраинах Санкт-Петербурга.
Детство Ореста прошло рядом с безлюдными дворцами Ораниенбаума. Швальбе первым заметил, как здорово мальчик перерисовывает тамошние картины, виденные сквозь оконное стекло, и показал рисунки Дьяконову, а тот устроил шестилетнего сына в училище при Академии художеств. Там у Кипренского были великолепные наставники – Левицкий и Угрюмов, и сам он, определенный в престижный класс исторической живописи, делает большие успехи. По завершении академического курса Кипренский был оставлен при академии в качестве пансионера.
1804-м годом датируется один из первых шедевров Кипренского, названный художником «Портрет отца». Но изображен на нем не Дьяконов, а Адам Швальбе. Много позднее Кипренский повезет «Портрет Швальбе» в Италию – показать на выставке в Неаполе. Там даже выйдет небольшой конфуз: неаполитанские академики живописи, исследовав полотно, заявили, что оно никак не могло быть написано в ХIХ веке: вероятно, это неизвестный шедевр Рубенса или, может быть, даже самого Рембрандта. Кипренскому не без труда удалось отклонить обвинения в мошенничестве.
Сказать, что Кипренский был личностью темпераментной – слишком слабо. Он был впечатлителен чрезвычайно и, как сказали бы современные психологи, эмоционально лабилен. В состоянии творческой экзальтации, вызываемом в равной степени и созерцанием прекрасного, и светским или амурным успехом, мог пребывать сутками. Коллекционер и будущий московский губернатор Федор Ростопчин свидетельствовал: «Кипренский почти помешался от работы и воображения».
Однажды девица, которой Кипренский был увлечен, заявила, что могла бы полюбить только военного. На вахтпараде у Зимнего дворца Кипренский прорвался сквозь строй прямо к ногам Павла I с воплем: «Ваше императорское величество! Мечтаю обменять свою кисть на саблю!» Но раздосадованный Павел лишь поморщился: военный парад он считал высоким таинством, которое не должны омрачать непредусмотренности.
Кисть, впрочем, не раз оказывалась сильнее сабли: Кипренский создал превосходные портреты героев Наполеоновских войн (в их числе знаменитый «Портрет Е. В. Давыдова»), полководцев, моряков, декабристов. У него был редкий дар изображать людей в счастливые мгновения их жизни. Такие портреты, выхватившие человека в минуты его душевного просветления и приподнятости, открывают в нем самое лучшее.
К 1816 году Россия, оправившись от Наполеоновских войн, возобновила командировки пансионеров академии за границу. Кипренский мечтал об этом давно и страстно. Он посещает Францию, Германию, Швейцарию, но для жизни выбирает Рим.
Римский период Кипренского – время наивысшего успеха. В России его уже воспринимают как живую легенду, «русского Вандика» (то есть Ван Дейка). Италия тоже благоволит талантливому и по-итальянски темпераментному русскому. Из желающих заказать портрет выстраиваются очереди. И наконец, апогей славы: галерея Уффици во Флоренции желает заполучить автопортрет Кипренского для своей постоянной экспозиции.
Дальше будет – только по нисходящей, к холодному и страшному концу.
Слава Кипренского оказалась быстротечной, в Италии он мучился от сознания, что никогда не достигнет мастерства Рафаэля, пытался угнаться за местными вкусами, выписывая слащавых цыганок и итальянских поселянок, завидовал возрастающей славе Брюллова, начал пить.
Некоторые полагали, что на судьбу Кипренского роковой отпечаток наложило жестокое заблуждение: будучи прирожденным портретистом, он курьезно считал, что создан для исторической живописи, в которой был несравненно слабее. Другие убеждены, что Кипренский был чересчур зависим от внешней успешности, слишком падок на славу. Но и вправду историческая живопись никак не давалась ему. Кипренский задумал аллегорию «Аполлон, поражающий Пифона», чтобы восславить победу Александра над Наполеоном, но так и не приступил к его живописной разработке. Картину «Гробница Анакреона» ему все же удалось закончить, но на выставке в Риме она была встречена абсолютно холодно. Портреты князя Голицына и княгини Щербатовой, написанные в это же время, – несравненно выше.
В 1823 году художник ненадолго вернулся на родину, однако Петербург принял его холодно: до России доползли слухи, будто бы в Италии Кипренский убил собственную натурщицу (та действительно была найдена мертвой в его мастерской) и испытывал непозволительные чувства к ее дочери, 10-летней Мариучче, с которой писал «Девочку в маковом венке».
В 1828 году Кипренский снова уедет в Рим, но для него это будет совсем другой Рим: не город успеха, а город смерти. Он встретится с подросшей Мариуччей и женится на ней, приняв для этого католичество. Но счастья в этом браке не обретет, да и есть ли оно, счастье? Кипренский склонялся к мысли, что скорее – нет. Теперь он больше времени проводил не в мастерской, а в остериях, итальянских ресторанчиках, напиваясь вином и прикармливая хлебом бродячих псов. Константин Паустовский в очерке о художнике заметит, что заказчики умудрялись отыскивать Кипренского, ориентируясь по сворам собак, сидевших то у одного, то у другого ресторана.
Умер Кипренский 10 октября 1836 года от горячки, вызванной пневмонией. Ему было всего 49. Дочь Кипренского Клотильда родится уже после его смерти. На римском надгробии написано: «В память Ореста Кипренского, самого знаменитого среди русских художников».
Исследователи творчества Пушкина говорят, что до 1827 года никто толком не смог создать портрет поэта. Какие-то гравированные «уродцы», выдуманные «лицеисты» с баками (которые Пушкин отрастит, кстати, только после ссылки, уже в Михайловском), романтичные юноши с острым подбородком давали очень отдаленное представление о его истинной внешности.
А в 1827 году были созданы сразу два портрета, которые стали по-настоящему каноничными, несмотря на огромное различие в их интонациях. Позже русские и советские художники, изображая Пушкина в любом возрасте и в любой период его жизни, писали поэта таким, каким он предстал на картинах Тропинина и Кипренского. У живописного Пушкина отняли юность и лишили зрелости – ему везде 28.
Портреты Кипренского и Тропинина не похожи так, как не похожи Петербург и Москва. Официальный, мундирный, застегнутый на все пуговицы, гордый, величественный, погруженный в свои мысли, торжественный – это Пушкин столичного художника Кипренского. Домашний, взлохмаченный, порывистый, трогательный, мечтательный и собранный, но при этом все равно величественный и торжественный в своем домашнем халате – это Пушкин москвича Тропинина.
Портрет Пушкина заказал вернувшемуся из Италии Кипренскому близкий друг поэта Антон Дельвиг. Работа была выполнена весной 1827 года в Москве, в доме общего знакомого Кипренского и Пушкина, графа Дмитрия Шереметева. В 1831 году, после скоропостижной кончины Дельвига от «гнилой горячки» (тифа), Пушкин, несмотря на значительную стесненность в средствах, выкупил портрет, чтобы поместить в своем кабинете.
Очевидно, для Пушкина портрет Кипренского имел двойную мемориальную ценность: вопервых, напоминал о рано ушедшем друге («Никто на свете не был мне ближе Дельвига»), а вовторых, позволял надеяться и на собственное бессмертие, – и он вполне однозначно формулировал свою надежду в стихотворном послании Кипренскому: «И я смеюся над могилой, ушед навек от смертных уз…»
Перекинутый через плечо плед, или плащ из красно-зеленой шотландки, не только делает общий колорит динамичнее, но и считается живописной отсылкой к лорду Байрону, поэту-романтику шотландского происхождения, который на определенных отрезках биографий являлся кумиром как для Пушкина, так и для Кипренского (художник ужасно сожалел, что немного разминулся с Байроном в Риме).
Известен отклик Карла Брюллова (пересказанный со слов Тараса Шевченко) о том, что Кипренский изобразил не поэта, а «какого-то денди». Сам Пушкин признавал высокий уровень сходства («Себя как в зеркале я вижу…»), однако отмечал и некоторую степень художественной идеализации («…но это зеркало мне льстит»).
Василий Андреевич изобрел полюбившийся москвичам «халатный жанр». Часто, заказывая портрет для семейной галереи, местные дворяне просили изобразить их непременно в халате. По одной из версий, именно за эту способность к непринужденности, домашности и интимности в изображении модели выбрал Тропинина Сергей Соболевский. Он заказал художнику портрет Пушкина и особо настаивал, что хочет видеть своего друга на нем таким, «как он бывал чаще, не приглаженным и припомаженным». По другой версии, Пушкин заказал портрет сам, чтоб подарить Соболевскому.
Портрет Тропинин писал с натуры – и в первый же день знакомства создал очень живой этюд к будущей работе, по первому впечатлению. С готовой же картиной случилась запутанная и почти детективная история – по пути к Соболевскому ее подменили подделкой, а подлинник нашелся случайно только спустя 30 лет в меняльной лавке. 80-летний старик Тропинин его опознал, почистил и покрыл новым слоем лака, но наотрез отказался подновлять то, что создл в молодости и при личной встрече.
Современники признавали поразительное сходство портрета с натурой. И домашний халат на Пушкине не выглядит пошло, это, говорят искусствоведы, скорее римская царственная тога, это скорее свободная одежда свободного человека. Очень важный смысл в те годы для обоих – для вернувшегося из ссылки поэта и получившего вольную художника.
Классицизм: разум и порядок
Классицизм прочно обосновался в европейском искусстве XVII века, сдав свои позиции лишь в первой трети следующего столетия. Классицисты преклонялись перед античностью, свято верили в идею порядка и логичности мироздания, а также в безграничные возможности человеческого разума.
Классицизм появился и сформировался во Франции периода расцвета абсолютной монархии и впоследствии распространился в Испании, Германии, Англии, Нидерландах, США и России, где возник в процессе европеизации при Екатерине II, которая ввела моду на все французское. Эталоном для классицизма была греко-римская античность. Искусство Древней Греции и Древнего Рима было объявлено образцом гармонии, достичь которой можно, руководствуясь разумом.
Утверждение Декарта Cogito ergo sum («Мыслю, следовательно, существую») как нельзя лучше характеризует философию классицизма. Произведение классицистического искусства строилось по строгим канонам и стремилось стать прообразом изначально гармоничной Вселенной. Целью творчества было познание истины, а задачей – воспитание человека по законам морали и нравственности. Важная тема позднего классицизма – столкновение гражданского долга и личных интересов, которыми жертвовали во благо высших идеалов.
Классицизм выстроил иерархию жанров, смешение которых не допускалось: к высоким относились историческая, мифологическая и религиозная живопись, к низким – натюрморт, пейзаж и портрет.