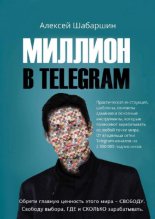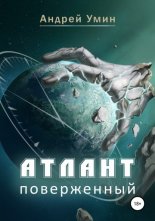Артхив. Истории искусства. Просто о сложном, интересно о скучном. Рассказываем об искусстве, как никто другой Коллектив авторов
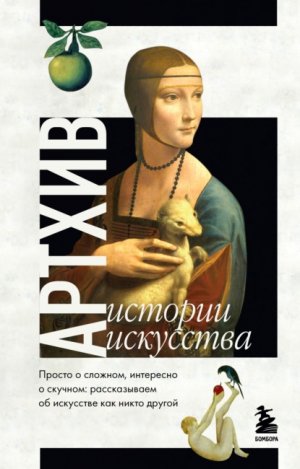
Клод Моне. Сад художника в Ветее (Музей Нортона Саймона, Пасадина), 1880 год
Клод Моне. Арка на запад от Этрета (Метрополитен-музей, Нью-Йорк), 1883 год
Клод Моне. Японский мостик, пруд с водяными лилиями (Симфония в розовом) (Музей д’Орсе, Париж), 1899 год
Эдгар Дега. Ванна (Музей д’Орсе, Париж), 1886 год
Эдгар Дега. Две танцовщицы в зеленых юбках (Частная коллекция), 1894 год
Эдгар Дега. Жокеи перед скачками (Институт изящных искусств Барбера, Бирмингем), 1879 год
Альфред Сислей. Наводнение в Пор-Марли (Национальная галерея искусства, Вашингтон), 1876 год
Гюстав Кайботт. Мост Европы (Музей современного искусства Пти-Пале, Женева), 1876 год
Огюст Ренуар. Лягушатник (Национальный музей Швеции, Стокгольм), 1869 год
Гюстав Кайботт. Георгины в саду Пти-Женвилье (Частная коллекция), 1893 год
Огюст Ренуар. Портрет Жанны Самари (Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина), 1877 год
Камиль Писсарро. Старый рынок в Руане (Метрополитен-музей, Нью-Йорк), 1898 год
Огюст Ренуар. Бал в Мулен де ла Галетт (Музей д’Орсе, Париж), 1876 год
Камиль Писсарро. Оперный проезд в Париже. Эффект снега, утро (Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина), 1898 год
Джон Сингер Сарджент. Гранд-канал. Гондолы у причала (Национальная галерея искусства, Вашингтон), 1907 год
Джон Сингер Сарджент. Мадам Х (Метрополитен– музей, Нью-Йорк), 1884 год
Уильям Меррит Чейз. Портрет Лидии Эммет (Бруклинский музей, Бруклин), 1892 год
Постимпрессионизм
Постимпрессионизм – это искусство, последовавшее за импрессионизмом не столько хронологически, сколько концептуально. Поль Сезанн, например, принимал участие в самой первой выставке импрессионистов, ходил на пленэры вместе с Писсарро, на собрания в кафе «Гербуа», но с самого начала писал иначе. Работая над портретом, Сезанн раскладывал предметы в нужном порядке и запрещал модели что-либо двигать, обводил мелом ножки стула на полу, чтоб назавтра усадить модель точно на то же место – ничего случайного и сиюминутного.
Постимпрессионисты ищут не ускользающий свет, а непреходящую суть вещей, видимую в любое время дня и года. В отличие от импрессионистских подвижных и ускользающих мотивов, предметы на их картинах обретают нарочитый вес, объем, насыщаются цветом, портретные черты людей искажаются и поддаются влиянию их внутреннего мира.
Постимпрессионизм и не школа, и не движение, сами художники никогда так себя не называли и работали каждый в собственной технике. Несколько искателей художественной истины, которые определили развитие всего искусства XX века.
Винсент Ван Гог: одаренный безумием
Мог ли архетипический «бедный художник» Винсент Ван Гог догадываться, что спустя столетие после его смерти его имя для многих станет синонимом слова «живопись»? Что его подсолнухи, причудливые завихрения ночного неба и тонконогие столики маленького французского кафе одними из первых будут всплывать в памяти при слове «картина», и их стоимость будет равна миллионам?
Почти все, что мы знаем о жизни Ван Гога, стало известно из его обширной многолетней переписки с братом Тео. В одном из этих писем можно встретить такое утверждение: «Единственное счастье, ощутимое материальное счастье – быть всегда молодым». Винсент Ван Гог, выстреливший себе в грудь в возрасте 37 лет, лишил себя возможности состариться и проверить, насколько соответствует истине эта его мысль.
В 1851 году молодой священник Теодор Ван Гог, назначенный служить в небольшой голландский городок Грот-Зюндерт, женился на Анне Корнелии Карбентус. Их первенец появился на свет – как по учебнику – спустя почти ровно девять месяцев. Мальчика счастливые родители решили назвать Винсентом – в честь деда, тоже священника, и в честь дяди, живущего в Гааге. Но радость была недолгой, малыш прожил всего шесть недель. Анна Корнелия была безутешна, справиться с потерей ребенка ей помогла только вторая беременность. И в том, что второй мальчик родился год спустя после первого – день в день, 30 марта 1853 года – и молодая мать, и ее религиозный супруг, вероятнее всего, усмотрели некий знак свыше. Ребенка окрестили… Винсентом. Винсентом Виллемом Ван Гогом. Сделав его лекарством от скорби, «пластырем», прикрывающим безобразный шрам от утраты.
В психологии для обозначения подобных ситуаций используется термин «замещенная фигура». Вот только не могли раздавленные горем родители знать, как часто это губительно сказывается на психике человека, вынужденного всю жизнь быть заменой кого-то другого. Не потому ли Винсент так спешил жить, постоянно разрываясь между противоречивыми чувствами? Не потому ли страдал от изматывающего душевного недуга? Не потому ли Ван Гог никак не мог найти своего места в жизни, что проживал не свою судьбу?
В 1873 году Винсент был переведен из Гааги в лондонский филиал компании «Гупиль и Ко». Он с удовольствием окунулся в культурную жизнь Лондона, хорошо зарабатывал и снимал жилье в доме Урсулы Лойер. Но самое главное – он был влюблен в дочь миссис Лойер Евгению. Целый год Ван Гог не решался признаться девушке в своих чувствах. А когда встретил отказ, впал в отчаяние. Тогда-то ему на помощь пришла Библия.
Ван Гог погрузился в религию со всей свойственной ему страстью, порой доходившей до одержимости. В итоге он лишился работы у Гупиля и полностью посвятил себя спасению душ. Миссионерская деятельность, с которой Винсент в 1879 году приехал в бельгийский шахтерский поселок Боринаж, не увенчалась успехом. Молодой проповедник принял слишком близко к сердцу тяготы жизни шахтеров, стал отдавать им одежду и еду, подрывая собственное здоровье, и перестал мыться, чтобы походить на черных от угольной пыли жителей поселка. В конце концов Винсента отстранили от работы в Боринаже, посчитав, что он подает плохой пример своей пастве.
Спустя всего несколько недель после переезда в Лондон Ван Гог уже читал книги английских авторов в оригинале. С такой же легкостью он освоил еще как минимум два европейских языка. После увольнения Винсент устроился на работу в лондонскую школу для мальчиков, где в его обязанности входило обучать своих воспитанников письму и арифметике, а также французскому и немецкому.
В недолгий период религиозности Ван Гог успел поработать помощником священника. Его первая проповедь, сохранившаяся до наших дней, была написана и прочитана на идеальном английском. Кроме того, в 1877 году мечтавший о миссионерской деятельности, но вынужденный работать в книжной лавке в Дордрехте, Ван Гог развлекался синхронным переводом Библии сразу на четыре языка – голландский, немецкий, французский и английский. Не дались будущему художнику только греческий и латынь, которыми ему нужно было овладеть для поступления на факультет теологии Амстердамского университета.
Любимым английским писателем Ван Гога был Чарльз Диккенс, который ушел из жизни незадолго до переезда будущего художника в Лондон. Однажды Винсенту попалась на глаза гравюра Люка Филдеса, созданная вскоре после смерти великого писателя. На ней было изображено сиротливо опустевшее рабочее место Диккенса – стол и отодвинутое от него кресло. Ван Гог купил эту гравюру и очень дорожил ею. Его поразило то, как с помощью такой простой вещи, как стул, можно показать тоску по ушедшему безвозвратно человеку. Позже, в Арле, Винсент снова и снова рисует свою комнату с пустыми стульями, на которых было не суждено сидеть никому, кроме него самого. В декабре 1888 года, незадолго до той трагической рождественской ночи, когда Ван Гог отрезал себе часть уха, он рисует пустое кресло Гогена (который к тому моменту уже твердо решил уехать) и свой собственный стул с одиноко лежащей на нем курительной трубкой.
На протяжении всей своей жизни Винсент много ходил пешком. Живя в Лондоне, он каждый день совершал 45-минутную прогулку до работы и обратно. Позже, в период своей религиозной горячки, воображая себя паломником, идущим на богомолье, Ван Гог три дня шел пешком в Айлворт, куда нанялся школьным учителем. Спустя три года, после оглушительного провала в качестве миссионера, он совершает еще более длительное (и, по сути, совершенно бессмысленное) пешее путешествие – из Боринажа в Брюссель. Конечно, по большей части Винсент делал это в целях экономии, но создается впечатление, что так он словно наказывал себя за неудачи. Свою первую картину со старыми, стоптанными и потертыми башмаками Ван Гог пишет уже в Париже, купив пару на блошином рынке. Позже из этого полотна родилась целая серия, ставшая символом непростого жизненного пути художника.
Ван Гог ненавидел художественные школы и академии. У него была собственная учебная программа и любимые модели. В одном из писем к брату Тео Винсент Ван Гог писал: «В академиях плохо то, что тебя учат рисовать Луи XV или арабов, а не ткачей, крестьян или портных». Можно сказать, что Винсент поступил в академию Антверпена из меркантильных соображений: здесь не было недостатка в натурщицах. Винсент всегда носил традиционную синюю блузу с меховой шапкой и часто спорил с преподавателями. Один из сокурсников вспоминал, как однажды, рисуя с натуры фигуру Венеры Милосской, Ван Гог изобразил ее с «неправильными» пышными бедрами. Профессор в ужасе выхватил у него рисунок и начал исправлять этот возмутительный плод фантазии. Винсент обратился к преподавателю с гневной речью: «Вы определенно не знаете, как выглядит молодая женщина! У нее должны быть бедра и зад, иначе она не сможет выносить ребенка!»
В академии Ван Гог проучился меньше двух месяцев, а затем, никого не поставив в известность, уехал в Париж, навсегда оставшись талантливым самоучкой.
Японское изобразительное искусство стало страстным увлечением Винсента, когда он жил в Париже вместе с Тео. Зиму 1887 года Ван Гог провел по большей части за маниакальным копированием японских гравюр. Этот процесс состоял из двух частей. Сначала художник чертил на листе бумаги сетку из квадратов и поверх нее перерисовывал изображение с гравюры. Затем такой же сеткой он расчерчивал холст большего размера и по квадратам переносил на него контуры рисунка. А дальше в дело вступали цвета. Ван Гог заполнял плоскости между контурами яркими красками, которые часто наносил на холст прямо из тюбиков. Он окружал пространство такими же яркими рамками, расписывая их иероглифами.
Новая идеология Ван Гога накладывала отпечаток на все его картины. К примеру, той же зимой он пишет портрет Папаши Танги, лишенный глубины и теней, поместив похожего на Будду торговца красками на пестрый фон из японских гравюр. Несколькими месяцами позже Ван Гог напишет автопортрет в образе японского монаха.
Отправляясь в Арль, Винсент писал брату Тео и Полю Гогену, что едет в Японию. Даже его мечта о коммуне художников была отчасти продиктована этой фантазией. В Арле Ван Гог надеялся создать нечто похожее на сообщество буддийских монахов, живших обособленными группами. Всю свою коллекцию он оставил в Париже у Тео, утверждая, что теперь смотрит на мир «японскими глазами» и гравюры ему больше не нужны.
В Арле Ван Гог ненадолго отвлекся от ярких плоскостей, рисуя все новые и новые цветущие деревья. Позже он снова возвращается к чистым оттенкам и уплощенному изображению (одной из самых «японских» его работ в этом отношении можно назвать первый вариант «Спальни в Арле»).
К сожалению, мечта об «искусстве будущего» оказалась слишком амбициозной. После отъезда из Арля Винсент все реже упоминает о Японии в письмах. Однако в его поздних картинах все так же появляются четкие темные контуры и плоскости ярких цветов. Видимо, взгляд на мир «японскими глазами» остался с художником до конца его дней.
Каждый год множество поклонников творчества Ван Гога приезжают в Арль в надежде погрузиться в ту волшебную атмосферу, которую обещают самые солнечные, яркие и безмятежные картины Ван Гога. Тех, кто никогда здесь не бывал, может ожидать жестокое разочарование: от Арля тех времен почти ничего не осталось.
Однако даже в то время, когда здесь жил и творил Винсент Ван Гог, этот город был совсем не похож на идиллический уголок с самых знаменитых его полотен. Арль был промышленным центром Франции: здесь производили железнодорожные составы и вагоны. В письмах Тео Винсент жаловался на царящую повсюду грязь. Если внимательно присмотреться к картинам арлезианского периода, на заднем плане часто можно заметить дымящие трубы заводов. В остальном же Ван Гог рисовал скорее тот Арль, который жил в его воображении.
Ранним утром в канун Рождества 1888 года в госпиталь Арля был доставлен тяжело раненный мужчина. В тот день на дежурстве оказался 23-летний интерн Феликс Рей, он и принял окровавленного пациента. Этим пациентом был Винсент Ван Гог, который после ссоры с Полем Гогеном от отчаяния серьезно себя травмировал. Когда художника доставили в госпиталь, он страдал не только от серьезной кровопотери, но и от галлюцинаций. Доктор Рей ухаживал за Винсентом на протяжении 15 дней в больнице и после выписки навещал его в «желтом доме».
Вскоре после того как Винсент покинул госпиталь, он решил отблагодарить своего спасителя и написал его портрет. Позже Рей рассказывал: «Когда я увидел, что он очертил мою голову зеленым цветом (у него было только два основных цвета – зеленый и красный), а волосы и усы нарисовал красными, и все это на ядовито-зеленом фоне, я был просто в ужасе». Картину ждала незавидная судьба. Сначала она долгое время хранилась на чердаке, а затем мать Рея прикрывала полотном дыру в курятнике.
Отрезанный кусочек уха Ван Гога врач хранил в банке со спиртом на своем рабочем столе. Но, как рассказывал Рей в одном из интервью, однажды эта банка была украдена.
За свою недолгую жизнь Винсент Ван Гог перенес немало лишений и разных бед. И, помимо нищеты и непонимания со стороны окружающих, одной из самых серьезных его проблем было здоровье.
Одной из главных его бед были зубы. Во время миссионерства в Боринаже Винсент отдавал подопечным почти всю свою еду. Вполне вероятно, что из-за недостатка витаминов и других питательных веществ у Ван Гога началась цинга, и он стал стремительно терять зубы. Следующее обострение случилось в Антверпене. За три месяца здесь Винсент только шесть или семь раз ел горячую пищу. Питался художник в основном хлебом и кофе и очень много курил, чтобы приглушить чувство голода. В итоге к своим 37 годам Ван Гог растерял большую часть зубов и старался лишний раз не улыбаться.
Многочисленные связи Ван Гога с проститутками не могли не закончиться плачевно. Особенно учитывая то, что с одной из них он прожил около года. Летом 1882 года в письме Тео Винсент рассказал, что подхватил от Син гонорею. Проблема заключалась в том, что долгое время ее даже не признавали отдельной болезнью, а считали одним из проявлений сифилиса, который у Ван Гога тоже имелся (и вероятнее всего – тоже от Син). Впрочем, в то время сифилисом болели многие, и этого мало кто стыдился. По некоторым данным, им были заражены около 15 % европейского населения.
А еще Ван Гог много пил. Он не отказывался даже от самого дешевого вина, хотя любимым напитком художника все же был абсент. Есть мнение, что некоторые картины были написаны Винсентом под влиянием галлюцинаций, вызванных «зеленой феей». Он мог голодать по несколько дней, однако деньги на краски, холсты и алкоголь Винсент находил всегда.
После приступа, во время которого Ван Гог отрезал себе мочку уха, его перевезли в психиатрическую лечебницу. Ему был поставлен диагноз «эпилепсия височных долей». В дальнейшем его лечили именно от этой болезни, хотя существует множество мнений и гипотез относительно того, чем в действительности вызывались эти приступы: от биполярного расстройства до порфирии.
Впрочем, нельзя сказать, что диагноз был поставлен Ван Гогу безосновательно. Вопреки распространенному мнению, эпилепсия – это не только «падучая» с судорожными припадками и пеной изо рта. Эпилепсия – это еще и расстройства сознания, слабоумие и психозы, которые могут проявляться в самых разных формах, в том числе в виде страха, агрессивности, тоски, бреда и галлюцинаций.
Диагностика заболеваний, в том числе и психических, в конце XIX века оставляла желать лучшего, а средств для качественного лечения просто не было. Даже диагностированную эпилепсию лечили по большей части теплыми ваннами и предписанием соблюдать покой. Но Винсент привык доводить себя работой до изнеможения, постоянно пребывая в нервном возбуждении. А это вызывало лишь новые и новые приступы. Как бы то ни было, многие из своих лучших полотен Винсент создал именно в «безумный» период.
Поль Гаше обладал прекрасным художественным вкусом и отличным «нюхом» на хорошие картины. Впервые поднявшись в крошечную мансарду Винсента, которую тот снимал в Овер-сюр-Уаз, и увидев его работы, доктор понял, что перед ним настоящий гений, пусть и совершенно безумный. Гаше уверяет Ван Гога, что возобновление его припадков крайне маловероятно, и дает художнику совет работать смело и много. Довольно странная рекомендация человеку, который раньше работой доводил себя до крайней степени истощения. Но это было именно то, что хотелось бы услышать Винсенту. Он все с тем же юношеским пылом отдается работе и новой дружбе, по обыкновению безоглядно влюбляясь в человека, относящегося к нему с интересом и добротой. Всего на пару месяцев доктор Гаше стал для Ван Гога одновременно и другом, и отцом.
Но, несмотря на добрые отношения со своим врачом, в одном из последних писем к Тео Винсент пишет: «Я думаю, мы никоим образом не можем рассчитывать на доктора Гаше. Во-первых, он болен еще сильнее, чем я, или, скажем, так же, как я. А когда слепой ведет слепого, разве они оба не упадут в яму?»
Ван Гог написал два очень похожих портрета доктора Гаше. Кроме прочего их объединяет одна любопытная деталь – цветок наперстянки, которая используется для лечения сердечной недостаточности, но при передозировке превращается в смертельный яд.
Трогательная привязанность Винсента и Тео стала притчей во языцех в мире искусства. Сотни писем художника, которые помогли составить наиболее полное представление о его жизни, сохранились именно благодаря его брату. Без многолетней поддержки Тео, в том числе и материальной, Ван Гог едва ли имел бы возможность стать художником. Лицо брата стало последним, что художник увидел перед смертью.
Спустя три дня после похорон Винсента Тео впал в глубокую депрессию, после чего его психическое состояние стало неуклонно ухудшаться. Всего за несколько месяцев он превратился в полного безумца: приступы гнева сменялись вспышками говорливости, невнятным бормотанием и периодами слабости. Все эти симптомы списывали на таинственную болезнь печени, и лишь через много лет семья Ван Гога призналась, что Тео обезумел из-за сифилиса. В конце концов он согласился отправиться в клинику для душевнобольных, где и умер 25 января 1891 года в возрасте 33 лет. Он был похоронен в Утрехте, но в 1914 году его останки были перевезены во Францию, где братьев погребли рядом на кладбище в Овер-сюр-Уаз. Вдова Тео, Иоганна, посадила на их могилах плющ, как символ неразлучности братьев даже после их смерти. К слову, именно плющ, а не жизнерадостные подсолнухи, были любимым растением Ван Гога.
Поль Сезанн: прованский гений
Сезанну не особо нравилось, как он выглядел. Он рано полысел, из-за стеснительности и вспыльчивости не пользовался популярностью у женщин и слыл чудаком. Он придумал для себя светский образ нерасторопного, грубоватого медведя, деревенщины, сварливого увальня. Имитировал южный акцент, таскал картины на тележке, по делу и без дела ругался, подолгу молчал. В этой эффектной роли удобно было прятаться и паясничать, скрывать неловкость и мириться с непониманием. Настоящий Сезанн – интеллектуал, мудрец, проницательный наблюдатель, читатель, отшельник, пророк и вдохновитель последовавшего за ним современного искусства. Этот Сезанн со временем прорисовывается в изданных воспоминаниях близких друзей, в восторженных отзывах молодых художников, в новых биографиях. Каким же был Сезанн и каким хотел казаться?
На встречах молодых художников в кафе Гербуа, будущих импрессионистов, Сезанн был странным участником: вламывался растрепанный, сопел, здоровался со всеми, отпускал несколько грубых шуток и усаживался молча слушать беседы о новом искусстве. Когда ему что-то из сказанного не нравилось, шумно вставал и уходил. «Что вы готовите в этом году в Салон?» – спрашивает франт Эдуар Мане. «Горшок с дерьмом», – отрезал Сезанн.
Судьи Салона брезгливо ждали каждый раз, когда этот безумец притащит свои новые шедевры, побросав их прямо в дребезжащую тележку или просто взвалив на спину. Они уже привыкли. Сезанн 18 лет будет повторять этот трюк, пока в 1882 году лишь однажды его картину примут в Салон. Упрямство, пожалуй, одна из лучших его добродетелей.
Первые акварельные краски, которые попали в руки маленького Поля, были не очень-то яркими. Его отец Луи-Огюст Сезанн, удачливый шляпник, а позже сказочно разбогатевший банкир, никогда не гнушался мелкими и сомнительными способами заработать. В том числе скупал старые вещи у обанкротившихся соседей. В старой коробочке акварели, которая оказалась в общем ворохе скупленного, основные цвета кто-то давно использовал, но Полю вполне хватило коричневого и черного.
Ярких красок в его детство добавляют только две вещи – дружба и почти круглый год солнечная природа родного городка Экс, куда его будет тянуть всю жизнь, куда он будет сбегать из Парижа каждый год и которую напишет сотни раз. Он сбегал из дома при малейшей возможности, ходил по лесам и долинам в компании лучших друзей Эмиля Золя и Батистена Байля, дни напролет мечтал вместе с ними, глядя в жаркое небо Прованса, о славе, о великой и высокой любви, о призвании. Эта неразлучная троица – блестящие ученики, лучшие в коллеже Бурбон, они наизусть выучивают Вергилия и взахлеб читают Гюго и де Мюссе. В книге воспоминаний Эмиль Золя рассказывал об этом времени: «Летом мы все время проводили у реки, чуть ли не жили там – купание было нашей страстью: мы целыми днями плескались в воде и выходили на берег лишь для того, чтобы поваляться на мягком горячем песке».
Для маленького нищего Золя, который ютился с мамой и бабушкой в полупустых съемных комнатах, мечта о богатстве была такой же далекой и фантастической, как и фантазия об идеальной любви. А вот Поля с души воротит от упоминания о деньгах. Его отец только и занят, что зарабатыванием денег, и единственному своему сыну уже придумал готовый надежный план жизни. Отца Сезанн боится до оторопи, до немоты и будет бояться всю жизнь. Он поступит от этого страха на юридический факультет, он даже в 40 лет будет пешком преодолевать десятки километров, чтоб не пропустить семейный ужин, будет 17 лет скрывать от старого Луи-Огюста свою любовницу и сына. Только одно его личное решение окажется сильнее этой маленькой домашней тирании – непреодолимое желание рисовать.
Однажды мальчишка, съезжавший по перилам, со всей силы толкнул маленького Поля в спину. «Удар был настолько сильным и неожиданным, что долгие годы меня мучит страх, что это может повториться. С тех пор я не выношу даже легкого случайного прикосновения», – рассказывал Сезанн.
Молодой художник Эмиль Бернар был другом, большим поклонником Сезанна и сделал в Эксе лучшие фотографии своего наставника. Однажды они прогуливались вместе, Сезанн оступился, потерял равновесие – и Эмиль подхватил его под руку. «Никто не смеет ко мне прикасаться… Никому не удастся меня закрючить. Никогда! Никогда!» – исступленно кричал Сезанн. Он развернулся и побежал к мастерской, бормоча «не закрючат, не закрючат». Вечером Сезанн пришел с извинениями.
Картина Поля Сезанна «Дом повешенного» обзавелась мистическим шлейфом сразу же, как только появилась на первой выставке импрессионистов в ателье фотографа Надара в 1874 году. Ничто не предвещало, что она станет одной из нескольких картин, проданных тут же, на этой скандальной выставке.
Но однажды на выставку зашел немолодой человек со взрослым сыном. Видя «Дом повешенного», он останавливается, морщится. Объясняя сыну свое неприятное впечатление от полотна, мужчина старается найти точные аргументы. Чем дольше он говорит, тем медленнее и неувереннее звучат его слова, тем больше интереса появляется во взгляде. «Нет, мы ничего решительно не понимаем! – внезапно восклицает незнакомец. – Какие-то важные особенности заложены в полотнах этого художника. Он непременно должен быть представлен в моей галерее». Это коллекционер граф Арман Дориа. Он сразу же выкладывает 300 франков за поразившую его картину. Он, конечно, не может еще толком объяснить, за что начинает любить Сезанна.
Пройдет 25 лет, но ничего не поменяется. Другой граф, Исаак Камондо, покупая картину уже за 6200 франков, все еще не понимает, что делает. «О да, я купил полотно, никем еще не признанное! Но я ничем не рискую: у меня есть письмо, подписанное Клодом Моне, который дал мне слово чести, что этому холсту суждено стать знаменитым. Навестите меня, и я покажу вам это письмо. Я храню его в небольшом кармане, приколотом с обратной стороны холста, специально для злопыхателей, которые думают, будто я повредился умом со своим «Домом повешенного».
Настоящих поклонников у Сезанна всегда было мало. И он привыкает не доверять похвалам: ерничает, срывается со смеха на слезы, искренне благодарит и тут же яростно обвиняет в лести.
Когда критик Гюстав Жеффруа в 1894 году написал о художнике из Экса длинную положительную статью, Клод Моне решил их познакомить. Подготовка велась нешуточная. Моне пишет письма критику, чтобы подготовить его к встрече: «Какая жалость, что этот человек не получил большей поддержки в жизни! Он настоящий художник, страдающий от неуверенности в себе. Его нужно подбадривать, и он очень высоко оценил Вашу статью!» Моне пишет письма и Сезанну – и устраивает его приезд в Живерни. Приглашены еще Жорж Клемансо, Октав Мирбо и Огюст Роден.
Несмотря на опасения приглашенных и хозяина дома в Живерни, Сезанн явился. Он весел, временами даже слишком, резок и искренен. «Мсье Роден совсем не гордец, он пожал мне руку! А у него столько наград!» – со слезами на глазах делится Сезанн радостью с Октавом Мирбо. По окончании ужина все выйдут провожать Поля до гостиницы, где тот остановился, – он посреди пыльной дороги станет перед Роденом на колени и снова поблагодарит за рукопожатие. Паясничал? Разволновался? Насмехался над регалиями? Сезанну 55 лет, он одинок и не привык к пониманию и поддержке, но уверен в избранном пути и без стеснения называет себя великим художником.
Во времена парижских поисков, за 20 лет до истории с Роденом, Сезанн ехал с мотивов и нес под мышкой этюд. Проходя через вокзал Сен-Лазар, столкнулся с незнакомцем, который попросил показать картину. Бледный, тощий молодой человек, увидев развернутый на стене пейзаж, был потрясен: и невиданным зеленым цветом, и свежестью, и манерой письма. «Если вам так нравятся мои деревья, забирайте!» – предложил Сезанн. «Мне нечем заплатить», – возражает художнику новый поклонник. Сезанн отдает картину даром и оба уходят с вокзала абсолютно счастливые.
Прямо с вокзала счастливый Поль отправился в мастерскую, которую снимали вместе Ренуар и Моне. «У меня появился поклонник!» – торжественно заявил он с порога. А первым встречным оказался вечно нищий и изгоняемый из всех кафе, где пытался играть свои сочинения, композитор и музыкант Эрнест Кабанер.
Кабанер и Сезанн познакомятся еще раз – в одном из богемных салонов, а спустя три года художник обеспечил своего первого почитателя, уже тяжело больного, постоянной пенсией, расплатившись за это несколькими работами. Над кроватью умиравшего Кабанера все еще висела картина «Купальщики на отдыхе», которую он получил от Сезанна на вокзале Сен-Лазар.
Персики и груши почти так же прекрасны, как и яблоки. Они не двигаются. Сезанн не ловил мгновенных движений, не позволял своим моделям шевелиться, не ждал внезапно упавшего луча света, чтобы поймать момент и изобразить его. Сезанн часами мог ждать, когда объект (будь то яблоко, гора, кувшин или человек) станет таким, каким он его задумал. Накладывал несколько мазков и ждал дальше. Делал до сотни подходов к одной картине.
Прежде чем приступить к написанию натюрморта, Сезанн долго размещал предметы на столе. Чтобы развернуть или приподнять, он подкладывал под фрукты монетки в один су. Закладывал монументальные, похожие на горную гряду, складки на скатерти. Каждый предмет, предназначенный для натюрморта, у Сезанна прав. Художник не стоял на одном месте, когда писал. Он отходил от холста, увещевая то хрупкую сахарницу, то крепкое яблоко, то податливый, глуховатый персик. Предметы писал с разных точек зрения – с тех необходимых для постижения предмета позиций, которые Сезанн выбрал.
Когда Сезанн оставался недоволен картиной, он просто вышвыривал ее в окно. Садовник Огюст Блан вспоминал позже, что старые деревья, росшие под окнами его мастерской, были увешаны незаконченными натюрмортами. Иногда Поль вспоминал о каких-нибудь не совсем безнадежных этюдах, провисевших в саду несколько месяцев, – и они снова возвращались на мольберт.
«Сынок, надо бы снять «Яблоки» с вишневого дерева. Я думаю, у меня еще получится их исправить», – попросил он сына, когда тот привез из Парижа в Экс маршана Амбруаза Воллара за новыми картинами.
Но Воллара яблоками на вишневых деревьях с толку не собьешь – он понимал, что встретил своего художника, что напал на золотую жилу, которая в будущем его прославит и озолотит. Сезанн же Воллару прощал такие выходки, которые другим были непозволительны. Обычно он бросал кисти, ругался и прекращал работу над портретом, если модель отвлекалась. Ни соблазнительность первой красавицы Прованса Мари Гаске, ни близкая дружба с мужем Александрины Золя Сезанна не убеждали – он отказался продолжать их портреты, потому что первая задремала, а вторая посмела обернуться на чью-то шутку. Уснувший же во время сеанса Воллар был прощен.
Обычно сильно устававший после утреннего сеанса, Сезанн не писал во второй половине дня. Но с портретом Воллара – другое дело. Сезанн выглядывает в окно и говорит сыну: «Небо становится светло-серым. Давай поешь, сбегай к Воллару и приведи его ко мне!» – «А ты не боишься переутомить Воллара?» – «Какое это имеет значение, если небо серое?»
И Воллар позирует столько, сколько требует художник. Пройдет не один сеанс, портрет близится к завершению. И вот однажды Сезанн внезапно уезжает из Парижа в Экс, бросив работу. «Мне нравится, как вышла крахмальная рубашка», – ворчит он.
Жена Поля Сезанна Ортанс изображена на 29 его картинах. Это странный факт, если беспрекословно верить хрестоматийным биографиям художника. В них трудно встретить еще хоть одну фигуру, которую настолько же снисходительно и последовательно вычеркивали бы из его жизни. Но 29 картин доказывают хотя бы тот факт, что Сезанн встречался с женой гораздо чаще, чем утверждают ее ненавистники. К тому же позирование Сезанну – испытание не для слабых. Он требовал полной неподвижности, работал медленно и выходил из себя, когда модель меняла позу. Рвал холст или швырял его о стену, потеряв необходимый контакт с моделью.
Друзья Сезанна не любили Ортанс: говорили, что она не понимала таланта мужа, сожгла все памятные безделушки, которые после смерти матери Поль собрал в одну комнату, не приехала к умирающему Сезанну попрощаться, наконец. Мать и сестры художника были уверены – Ортанс хочет ободрать Поля и, конечно же, вышла замуж по расчету. Но обирать было вообще-то нечего.
Ортанс позировала Сезанну, ей было 19, а ему 30, когда они познакомились и стали жить вместе. Это уже после смерти мужа мадам Сезанн продаст несколько его картин и сможет жить на эти деньги, ни о чем не заботясь и иногда просаживая крупные суммы в казино. А пока она была молода, денег постоянно не хватало. Они растили сына, ютясь в маленькой комнате, и старались выжить на 200 франков, которые присылал Сезанну отец. Прошло несколько лет – и они почти перестали жить вместе, сохраняя при этом сложную, мало кому понятную связь. По нескольким сохранившимся письмам мадам Сезанн становится понятно, что она вела дела художника, договаривалась о продажах, передавала разрешение на копирование картин, объясняла юридические тонкости со слов мужа и делала это, судя по всему, долго, амбициозно и успешно.
Каждый раз, берясь за портрет жены, Сезанн будто встречается с новым человеком. Она удивительно не похожа сама на себя с соседнего портрета: у нее бывает разный овал лица, фигура, разное настроение, возраст и выражение лица. Но всегда Ортанс легко узнаваема и никогда не соблазнительна. Сезанн жене не льстит, ему это не интересно. Сезанн жену изучает, как яблоко или как гору.
Последние 16 лет жизни Сезанн проводит в родном городе Эксе. Он живет отшельником рядом с каменоломней, иногда ходит в церковь, мало видится с людьми, но охотно делится своими мыслями об искусстве с молодыми художниками, которые к концу XIX века устраивают паломнические поездки к прованскому гению. Общение с семьей сводит к эпистолярному. Круг его общения невелик: кухарка, садовник, крестьяне с фермы. Люди, которые всю жизнь занимались одним и тем же делом, одевались в одно и то же, ходили по одним и тем же дорогам, не покидали своих домов, жили медленно и размеренно, вставали с восходом. Они кажутся такими же древними и сакральными, как гора Святой Виктории в Эксе или старая сосна. Время их жизни в этой местности, наслаиваясь год за годом, меняет свои свойства и становится физически видимым и ощутимым. В фигурах и позах. Как время жизни сосны считывается по изгибам и наклону ствола, как время жизни горы измеряется геологическим рисунком. Сезанн говорил: «Больше всего мне нравится то, как выглядят люди, которые состарились, не изменив в корне своих привычек, – люди, которые подчиняются правилам времени».
Начиная с середины 1880-х годов Сезанн больше 80 раз написал гору Святой Виктории в Эксе. Постепенно освобождая изображение от лишних деталей, отыскивая верные пропорции и растворяя естественные границы между деревьями, домами, горой и небом, Сезанн находит почти абстрактную, мистическую сущность. Сезанн постепенно переходит от собственного видения к художественной упорядоченности, а от упорядоченности – к изначальной «идее горы».
О Сезанне говорили, как о пророке, как о человеке, способном не постигать натуру, а противостоять ей. О видимых несовершенствах его работ Виктор Шоке сказал однажды как «о совершенствованиях, рожденных широтой познаний». Целое поколение художников-модернистов, выросшее и окрепшее под воздействием Сезанна, в унисон повторяло: он пишет не яблоко, а душу яблока, он пишет не гору, а суть горы.
Поль Гоген: неприкаянный беглец
Поль Гоген был незаурядной личностью, на долю которой выпало немало бед и невзгод. Но если абстрагироваться от его таланта и творческого наследия, остается только удивляться тому, как ему удавалось уживаться с людьми, точнее, как они его терпели.
Гоген был агрессивным и высокомерным, портил отношения с окружающими и ссорил их друг с другом (иногда просто ради забавы). Он считал себя непризнанным гением и жил мечтой о том моменте, когда весь мир жестоко раскается в том, что не понимал его таланта.
Единственное, что получалось у Гогена действительно хорошо (кроме живописи), так это убегать. Его бегство было самозабвенным, отчаянным и никогда не приносило ему успокоения. Это всегда было «бегство от…»: от обязательств и ответственности, безденежья и непризнанности, семьи и обыденности, цивилизации, в конце концов. Только вот цель этого бесконечного путешествия от Гогена постоянно ускользала.
Скорее всего, уверенность в том, что его жизнь будет незаурядной, и в том, что он заслуживает особенного отношения, появилась у Гогена еще в раннем детстве. В возрасте полутора лет он совершил свое первое дальнее путешествие – из Франции в Перу. В этом же путешествии трагически погиб его отец. В Лиме маленький Поль с матерью и сестрой жили в полном достатке в доме дальнего родственника-миллионера. Если бы не вмешались прямые наследники дона Пио, семья Гогена могла бы унаследовать немалое состояние.
Сложно представить, как тяжело было семилетнему Полю адаптироваться к новым условиям жизни, когда семья вернулась во Францию и поселилась в доме его деда в Орлеане. Мальчик привык к другим пейзажам, к другой речи (его первым языком был испанский) и к совершенно иному уровню жизни. Еще совсем недавно с ним обращались, как с маленьким королем, и вот уже ему приходится ходить в обычную французскую школу и начинать задумываться о скучной работе в какой-нибудь заурядной сфере. Этого Поль допустить никак не мог. Не слушая мать, которая советует ему делать карьеру (потому что он с трудом сходится с людьми и «не умеет завоевывать расположение»), Гоген нанимается помощником лоцмана в торговый флот. Следующие шесть лет он путешествует по всему миру, как губка, впитывая впечатления. Даже известие о смерти матери, которое нашло его в Индии лишь спустя несколько месяцев, не смогло его остановить. Но в конце концов Гоген все же вернулся во Францию и постепенно превратился в того, кем так отчаянно не хотел быть.
С молодой датчанкой Метте Гад Поль Гоген познакомился в Париже в 1872 году. Будущий художник только недавно устроился на работу в контору биржевого маклера, а девушка работала гувернанткой детей премьер-министра Дании. В январе следующего года они обручились, а в ноябре сыграли свадьбу. Первые годы их совместной жизни на первый взгляд были совершенно счастливыми и беззаботными. Они произвели на свет пятерых прекрасных детей и вели довольно активную светскую жизнь. Денег с лихвой хватало и на достойную жизнь семьи, и на главное увлечение Поля – живопись. Довольно долгое время Гоген оставался лишь ценителем и коллекционером чужих произведений, но в конце концов начал писать и сам.
Те, кто знал Гогена в тот период, вспоминали, что он был очень тихим и неразговорчивым, будто спал на ходу, но иногда в нем просыпалась какая-то звериная первобытная ярость. Способный после долгих лет на флоте гнуть голыми руками подковы, Поль мог вдруг наброситься на нечаянного обидчика с кулаками и серьезно его покалечить.
Гогена не устраивала роль «воскресного художника», ему хотелось больше писать, выставляться и продавать свои картины. Поэтому, когда во Франции грянул экономический кризис, Гоген счел это знаком, уволился и решил полностью посвятить себя искусству. Коллекцию картин пришлось продать, поскольку работы самого Гогена не находили спроса.
Само собой, Метте была недовольна. Мало того, что они переехали в глушь и страдали от безденежья, так еще и муж отказался искать новую денежную работу, следуя за глупой мечтой. В конце концов, Метте не выдержала, забрала детей и уехала к семье в Копенгаген.
В Дании Метте была вынуждена найти работу: она стала учить французскому местных детей. Вскоре она уговорила мужа воссоединиться с семьей в Копенгагене. Здесь Гоген чувствовал себя ужасно. Он не знал языка, ему пришлось работать продавцом брезента, а семейство жены относилось к нему в лучшем случае с презрением. В 1885 году супруги окончательно расстались, и Гоген вернулся в Париж.
Поль и Метте больше ни единого дня не проживут под одной крышей. Однако на протяжении следующих нескольких лет художник будет постоянно писать бывшей жене: в своих письмах он жалуется на жизнь, хвастается успехами, рассказывает о своих путешествиях и делится размышлениями.
Автопортрет, посвященный Винсенту Ван Гогу и написанный Гогеном незадолго до приезда в Арль, был частью своеобразной игры-соревнования между художниками. Началась она, однако, еще раньше, когда Эмиль Бернар прислал Ван Гогу собственный автопортрет с изображением Гогена на заднем плане.
Винсент, загоревшись идеей создания колонии художников в Арле, мечтал пригласить сюда и Бернара, и всех приятелей-художников, однако начать все же решил с Гогена. Между ними завязалась оживленная переписка, в ходе которой Гоген отправил Ван Гогу автопортрет (изобразив на заднем плане Бернара) с хитрым и вопросительным выражением лица, будто говорящим: «Способен ли ты на это?»
Ван Гог ответил на вызов более чем достойно. В «Автопортрете, посвященном Полю Гогену», он поместил себя на фоне того же цвета, который Гоген использовал для портрета Эмиля Бернара в своей работе. Воспроизвести настолько точный оттенок – его называют «зеленым Веронезе» – невероятно тяжело, однако Ван Гогу это удалось. С помощью цвета и изображения себя в образе буддийского монаха Винсент будто бы давал понять Гогену, что он абсолютно спокоен и готов сделать все возможное для осуществления своей мечты.
Настроение автопортрета Гогена было совсем другим. Он назвал его «Отверженные», отсылая нас к главному герою романа Виктора Гюго Жану Вальжану, бывшему каторжнику и человеку сложной судьбы. Художнику нравилось представлять себя страстным мятежником, которому нет места в буржуазном обществе. Половину лица он «осветил», а половину – оставил в тени, намекая таким образом на двойственность своей натуры.
В сентябре 1888 года Поль Гоген присоединился к Винсенту Ван Гогу в Арле, наконец поддавшись на его уговоры и настойчивые просьбы его брата Тео. Не последнюю роль здесь сыграло то, что Тео буквально заплатил Гогену за то, чтобы он поехал в Арль, и пообещал продать несколько его картин. Позже художник сетовал на то, что его «купили, как проститутку», однако от денег не отказался.
Первое время в Арле Ван Гог снимал комнату у супругов Жину, которые держали здесь небольшое кафе. Отношения художника с ними были чисто деловыми, и он не решался попросить мадам Жину позировать ему. Все изменилось с приездом Гогена: обаятельный, остроумный и разговорчивый француз быстро находил общий язык со всеми. Именно он уговорил сначала мадам Жину, а затем ее супруга позировать им с Винсентом. За один часовой сеанс Гоген успел сделать угольный набросок портрета женщины, а Ван Гог написал полноценную картину маслом.
Отношения между Гогеном и Ван Гогом с самого начала были соперническими и соревновательными. Поль на правах более старшего и опытного художника наставлял Винсента, старался обуздать его мятежный дух и научить его быть более сдержанным во время работы. Он учил Ван Гога писать не только с натуры, но и «из головы»: извлекать нужные образы из памяти или воображения. И вместе с тем Гоген завидовал колоссальной работоспособности голландца, тому, как легко тот писал экспрессивные и завершенные полотна со скоростью конвейера.
Гогена, юность которого прошла в путешествиях, всю жизнь тянуло в экзотические страны. На его решение отправиться на Таити существенно повлияла книга «Женитьба Лоти» французского писателя Пьера Лоти (настоящее имя – Жюльен Вио). Автобиографический роман, в котором правда искусно переплеталась с вымыслом, убедил Гогена в том, что Таити – это рай на Земле. На самом же деле Лоти прожил на острове всего два месяца, и внушительная часть книги была всего лишь его фантазиями или художественным преувеличением. Даже его туземная возлюбленная, как признавался сам писатель, представляла собой собирательный образ женщин, с которыми он заводил краткосрочные связи на острове.
В апреле 1891 года Поль Гоген отправляется из Марселя в Папеэте. Он обеспечен деньгами и полон надежд. В Париже художник оставил бывшую натурщицу и любовницу Жюльетту Юэ, которая на тот момент ждала от него ребенка.
Спустя два месяца Гоген ступил на таитянский берег и с ужасом увидел почти европейский город. Французские колонисты облагородили Папеэте на свой вкус и превратили таитянскую столицу в «островок цивилизации». Гоген нашел себе местную провожатую, хорошо говорившую по-французски, и отправился в более дикую часть острова. Там художник, наконец, нашел ту жизнь, которую рисовал в своих фантазиях. Он снял хижину на берегу океана и начал писать портреты смуглых женщин в экзотических нарядах, а то и вовсе без них, и идиллические пейзажи, пестрящие неестественно яркими красками.
Теха’амане было всего 13 лет, и она была невинной во всех смыслах, но самое главное – девушка не была «испорчена» цивилизацией. В своих письмах и в книге «Ноа Ноа», которую он написал на Таити, Гоген называет ее Техурой. Девушка стала его новой музой, ее черты угадываются на многих полотнах первого таитянского периода. Однако художника в Теха’амане привлекала не только и не столько ее готовность позировать, сколько ее детская покорность. Она безропотно терпела его непростой характер и вспышки агрессии и удовлетворяла непомерные (по словам его друзей) сексуальные аппетиты. Но была в Техуре и еще одна черта, которая так завораживала Гогена, – ее бесконечная инаковость. Она была человеком из совершенно другой культуры, она жила среди легенд и мифов, духов и призраков, ее мысли и эмоции цивилизованному иностранцу было просто не дано постичь.
Женитьба на туземке (таких женщин называли «ваине») была для приезжих французов обычным делом. Такой брак, по сути, не имел никакой законной силы и не накладывал никаких обязательств. Он всегда мог быть расторгнут в одностороннем порядке, причем как мужем, так и женой. Туземки в любой момент могли вернуться в родительский дом, а затем найти нового покровителя или выйти замуж за местного мужчину.
Был в этом деле у Гогена и практический интерес. Туземцы сами добывали фрукты в горах, ловили рыбу и охотились на диких свиней. У художника же не было ни времени, ни навыков, чтобы обеспечить себе пропитание, и он был вынужден покупать баснословно дорогие консервы в местном магазине. А ваине и ее родственники могли обеспечить его свежими фруктами, мясом и морепродуктами бесплатно.
Однако нельзя утверждать, что Гоген женился на Теха’амане только из меркантильных соображений. Он был к ней привязан и по-своему даже любил девушку. Она была его вдохновением, его экзотической нимфой, воплощением древних легенд о прекрасных богинях.
Большая часть книги Гогена «Ноа Ноа», как и сюжеты его картин, представляла собой идеалистические выдумки. Не забывал он и о письмах к Метте. В декабре 1892 года художник пишет ей: «Я нарисовал обнаженную молодую девушку. Ее поза почти непристойна. Но мне хотелось изобразить ее именно так, мне были интересны линии и движения. Поэтому я решил придать ее лицу испуганное выражение». Гоген, конечно, ни словом не упоминает о том, что девушка на картине – его «жена».
В письмах друзьям художник рассказывает довольно романтическую историю о том, как, придя домой поздно вечером, обнаружил Техуру, парализованную страхом. По его словам, суеверная девушка очень боялась темноты, в которой могли скрываться духи и призраки. Однако в книге «Ноа Ноа» он пишет о другом страхе Теха’аманы: «Неподвижная, обнаженная, лежащая на кровати лицом вниз, она смотрела на меня расширенными от страха глазами… Возможно, она приняла меня с моим страдальческим лицом за одного из тех демонов или призраков, населяющих бессонные ночи ее народа». Некоторые исследователи считают, что Гоген не случайно представил себя в качестве причины ужаса девушки. Его отмеченное многими агрессивное поведение распространялось на всех без исключения, а страх Техуры, по их мнению, мог лишь подстегивать его сексуальное желание.
Описывая друзьям свою жизнь с Теха’аманой, художник трогательно рассказывал о том, как ночами напролет слушал ее пересказы местных легенд и описания религиозных ритуалов. Однако позже шведский антрополог Бенгт Даниельссон решительно опроверг все истории, рассказанные Гогеном якобы со слов его ваине. По убеждению ученого, к концу XIX большая часть мифов была забыта таитянами (в основном в результате колонизации), к тому же их держали в тайне от женщин.
Но один из таких мифов, реальный ли, придуманный ли Техурой, а то и самим Гогеном, лег в основу нескольких его картин, написанных в первый таитянский период. В «Ноа Ноа» художник пересказывает эту легенду так: «Оро, величайший из богов, решил однажды избрать себе подругу среди смертных… Много дней прошло в тщетных усилиях, и он уже собрался было возвращаться на небеса, когда заметил молодую девушку, чрезвычайно красивую. Она была высокой, статной, солнце блистало в золоте ее кожи, и в ночи ее волос дремали все тайны любви. Вайраумати – так звали девушку… Вайраумати тем временем приготовила для его приема стол, уставленный плодами, и ложе из самых тонких циновок и самых роскошных тканей… После смерти бог был вознесен на небо, и Вайраумати сама тоже заняла место среди богинь».
Вполне возможно, что легенду об Оро и Вайраумати Гоген отождествлял с собственными любовными отношениями с Техурой: неприкаянный «дикарь» в конце концов находит прекрасную возлюбленную с золотой кожей.
В первый раз Гоген прожил на Таити совсем недолго. Он решил вернуться в Париж с новыми картинами, чтобы продать их и поселиться на острове насовсем. Снова приехав на Таити в 1895 году Гоген пытался вернуть Теха’аману с помощью щедрых подарков и украшений, но девушка его отвергла. В частности, из-за того, что тело художника было покрыто сифилитическими язвами. Это, впрочем, не помешало Гогену завести троих новых ваине.
В 1898 году изнуренный нищетой и болезнью, сломленный известием о смерти любимой дочери Алины, художник понимает, что в этом мире его больше ничего не держит. На прощание он решает создать настоящий шедевр – полотно «Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идем?». Когда работа над картиной была завершена, Гоген отправился в горы умирать. И потом клял себя последними словами за то, что не сумел даже отравиться правильно и принял слишком большую дозу мышьяка.
После этого «второго рождения» жизнь Гогена удивительным образом начала налаживаться. Болезнь на какое-то время отступила, а в Париже наконец-то начали продаваться его картины. Художник перебрался на Маркизские острова, построил здесь большой дом и собственноручно украсил его деревянной резьбой. В Гогене неожиданно проснулся унаследованный от отца талант журналиста, но он ни на минуту не забывает о своем истинном призвании и продолжает писать.
Поль Гоген был найден мертвым в своем «Доме удовольствий» в возрасте 54 лет. На тумбочке возле его кровати стоял пустой флакон из-под опийной настойки. Похоже, в этот раз он все сделал правильно. Последний побег удался.
Жорж Сёра: художник, который поставил точку
А что, если бы Жорж Сёра прожил не 31 год, а хотя бы раза в два больше? Неоимпрессионизм вспыхнул и быстро погас, но стал одной из причин важнейших перемен в мировой живописи. И дело не только в технике нанесения точек, которую с легкой руки изобретателя пуантилизма применяли многие известные художники, но и в том, что Сёра (как и Ван Гог) вышел из импрессионизма, при этом ознаменовав завершение его эпохи.
Очень немногие художники отличались дружелюбным нравом и общительным характером. Но Жорж Сёра даже на этом фоне выделялся чрезмерной замкнутостью и нелюдимостью. К примеру, о наличии у него жены и сына художник сообщил собственным родителям, буквально находясь на пороге смерти. Ему шел 31-й год, у него обнаружили менингит, и он «сгорел» буквально за три дня, успев рассказать родным, что модель Мадлен Кноблах, изображенная на картине «Пудрящаяся девушка», родила ему сына. К сожалению, ребенок умер вскоре после отца.
О его жизни вообще известно немного. В отличие от большинства импрессионистов, Сёра не пришлось столкнуться с финансовыми проблемами, он был выходцем из обеспеченной семьи, мать его обожала и готова была оплачивать любые увлечения сына. В детстве Жорж с матерью жил в Париже, а отец, бывший министерский чиновник – в загородном доме. Преодолевать сопротивление семьи, чтобы учиться живописи, Сёра не пришлось, как и трудиться ради заработка.
Сложностей с поступлением в Школу изящных искусство у Сёра не возникло, но учился он вовсе не блестяще и выдержал в школе лишь два года. Главным плюсом учебы для него был доступ к научной литературе. В частности, Сёра тщательно проштудировал работу тогдашнего директора школы Шарля Бланка «Грамматика искусства рисования». Бланк описал законы цвета и света, из которых Сёра и вывел свой метод – пуантилизм.
Художник невысоко ценил значение индивидуальности, считая, что искусство нужно теоретизировать, вычленить определенные закономерности, а дальше абсолютно любой сможет создавать шедевры. С этим он, конечно, ошибся, равно как и с «научным» подходом к цвету и линиям, но ошибка удалась на славу.
Впервые Сёра представил пуантилистскую картину – «Купание в Аньере» – Салону в 1883 году. Жюри отклонило полотно, а обидчивый художник навеки отклонил официальный Салон, не желая больше никогда о нем слышать, и подался к «независимым».
Современники сходятся в одном: нелюдимый и необщительный Сёра мог на протяжении всего вечера в шумной компании молчать, отвлеченные разговоры его вообще не интересовали. Но едва затрагивалась тема живописи, он становился агрессивным, даже диким, и в далеко не тактичной манере пояснял окружающим, «как оно на самом деле», а любые альтернативные мнения считал неуместными и приходил от них в настоящую ярость.
Свой подход он полагал научным и был художником-интеллектуалом, его кистью управляли разум и метод, а не инстинкт и сердце.
«В Париже есть сейчас только один молодой человек, который пишет так же хорошо, как я, – Жорж Сёра», – говаривал Гоген. Сёра же вообще предпочитал никого не хвалить. Да и распространение его методики автора отнюдь не радовало. С одной стороны, он, конечно, ратовал за научный подход и высказывался насчет того, что личность не имеет значения. С другой – очень злился на последователей за то, что они «воруют» его метод.
15 мая 1886 года на улице Лафитт в Париже открылась Восьмая выставка импрессионистов. В каталоге работ значились только две фамилии из того объемного списка художников-импрессионистов, которые участвовали в первых выставках больше 10 лет назад – Эдгар Дега и Берта Моризо. Причин для массового отказа остальных было много, но главная – все рассорились из-за того, что в выставке участвовал Жорж Сёра со странной и вызывающе огромной картиной. За несколько дней до открытия по Парижу пронеслись слухи: гарантированной сенсацией этой выставки будет полотно 2 на 3 метра, написанное всего тремя красками.
Видя в новом течении лишь «упражнения вычурных виртуозов», от участия в Восьмой выставке отказались Моне, Ренуар, Кайботт и Сислей. Для картин, словно вышедших из лаборатории усердного исследователя цвета, решено было выделить отдельную узкую комнату. Их развесили настолько низко, что иногда зрителям приходилось становиться на колени, чтобы рассмотреть и оценить новую, никогда раньше не использовавшуюся живописную технику. Картины Жоржа Сёра, Поля Синьяка, а вместе с ними и страстно увлеченного новым стилем Камиля Писсарро и его сына Люсьена, были написаны мелкими точками чистых цветов. Техника была настолько новой и непривычной, что зрители не различали, где тут Синьяк, а где Писсарро. Словом, мало кто понял и разобрался.
А той самой сенсационной картиной Сёра был легендарный «Воскресный день на острове Гранд-Жатт».
На Гранд-Жатт в воскресенье собирался высший свет. Однако этот остров облюбовали и жрицы любви: в спокойной и безмятежной атмосфере им было проще подыскивать себе клиентов. А светские франты, соответственно, легко находили себе девушек для развлечений. Гранд-Жатт даже называли островом любви.
Контекст того времени сразу проясняет, что именно изобразил Сёра. Прогуливающаяся пара кажется респектабельными буржуа. А если приглядеться к тому, что на поводке у дамы вовсе не собака, а обезьянка? А если знать, что обезьяна считалась символом развратности, и на парижском жаргоне так именовали проституток?
Сёра не стремился прописывать детали: «Художник должен научиться изображать не предмет, а сущность предмета. Когда он пишет лошадь, это должна быть не та конкретная лошадь, которую вы можете опознать на улице. Камера создает фотографию; нам же следует идти гораздо дальше».
«Воскресный день на острове Гранд-Жатт» – преобразованная на современный лад цитата картины Пюви де Шаванна «Священная роща». Сёра заимствовал у Шаванна ощущение застывшего времени, но у его вечности совсем иной вкус. У Пюви изображено происходящее на далеком мифическом острове, но у Сёра на смену его музам пришли проститутки. Наверное, так могла бы выглядеть священная роща 1884 года.
После нашумевшего «Воскресного дня на острове Гранд-Жатт» Сёра увлекся морскими пейзажами. Каждое лето, начиная с 1885 года, он ездил к морю и рисовал его. Но и здесь Сёра не пошел по одному пути с импрессионистами, для которых юг Франции был благословенным местом. Сёра уезжал на лето на холодное побережье Нормандии, с его блеклыми красками и сумрачностью. Морские пейзажи Сёра погружены в сказочную дымку, они действительно могли быть написаны только здесь, где природа не кричит, а шепчет. Сёра говорил, что упивается светом в Нормандии.
Солнечный свет здесь совсем не такой безудержный и палящий, как в Арле, не праздничный, как в Ницце, он мягкий и глубокий, кажется, на него можно смотреть невооруженным глазом. Длинные, пустынные пляжи, бесконечный горизонт, прозрачное небо, преображенные кистью Сёра, создают ощущение почти невероятной гармонии. Пейзажам Сёра, как и практически всем его работам, присуще ощущение застывшего времени.
Пожалуй, точнее всех эти нормандские картины охарактеризовал художник Амеде Озанфан: «Сёра такой же изысканный, как сухое шампанское. Любите ли вы шампанское? В противном случае не буду вас переубеждать. Каждый волен выбрать лимонад, ведь мы живем в демократическом обществе».
Анри Матисс: художник, упростивший искусство
Матисс был далек от снобизма, свойственного как академикам, так и многим авангардистам. Он не из тех, кто предъявляет потенциальному зрителю длинный перечень, в котором каждое предложение начинается словом «должен». Он считал, что это как раз искусство «должно» быть понятно и доступно любому человеку: «Искусство не должно беспокоить и смущать. У меня нет никакой теории». Подарить отдохновение усталому человеку – вот достойная задача. Тот, кто умел писать счастье и изображал его в каждой своей картине, имел право так говорить.
Анри Матиссу, сыну торговца зерном и модистки, прочили карьеру юриста. Заниматься следует делом, от которого будет толк – такова позиция отца, и Анри нечего было ей противопоставить. Случай вмешался в виде… аппендицита, который Матиссу удалили в 21 год. Операцию он перенес не очень хорошо, долго восстанавливался. Чтобы развлечь сына, мать принесла ему коробку красок и альбом. «Когда я начал рисовать, мне казалось, что я попал в какой-то рай», – вспоминал позже Матисс. Да и отец неожиданно смягчился – кто-то подсказал ему, что сына можно отдать учиться к самому Бугро!
Салонный живописец казался Эмилю Матиссу олимпийским небожителем, поэтому он снабдил сына средствами для переезда в Париж, где Анри должен был готовиться к поступлению в Школу изящных искусств в мастерской Вильяма Бугро. У Бугро с Матиссом с первой же встречи возникла взаимная антипатия. К великому разочарованию отца, Анри ушел из мастерской и продолжил подготовку в Школе декоративных искусств. Впрочем, в святая святых, Школу изящных искусств, его не приняли, зато Анри нашел первого настоящего учителя – Гюстава Моро. Тот отправлял своих учеников в Лувр – копировать классиков, нарабатывать технику, говорил: «О цвете нужно мечтать», – и предсказывал Матиссу, что тот «упростит живопись».
У художника было особое отношение к разнообразным тканям – сказывалось, конечно же, его происхождение. Матисс был родом из Боэна, города, который на всю страну славился искусными ткачами и великолепными тканями. Здесь производили шелк и парчу, бархат и кашемир, французский твид и прозрачный тюль. Еще ребенком Матисс любил наблюдать за работой ткачей, за тем, как они добиваются тончайших оттенков, складывая их в узоры на своих станках, подобно художникам за мольбертом.
Позже, во время учебы в Париже, он тратил последние деньги на покупку маленьких лоскутов ткани у старьевщиков – фрагментов старинных гобеленов и вышивок для своего «музея ткани». А гораздо позже ему доведется писать моделей в роскошных нарядах самых модных столичных домов, сшитых из тканей, изготовленных мастерами его родного города. И часто именно ткани и узоры на них становятся объектом его пристального интереса, затмевая даже внешность или какие-либо части тела натурщиц. И если с любовью Матисса к тканям все понятно, то с коврами дела обстоят несколько сложнее.
Матисс известен любовью к арабской культуре и искусству в целом, а также к восточным орнаментам и арабескам в частности – а где же еще, как не на коврах, их всегда в избытке? Но с коврами связана еще и мистическая история, которую художник любил рассказывать и которая стала для него знаковой. Матиссу было 15 лет, когда в Боэн приехал с сеансами бельгийский гипнотизер Донато. На выступлениях он внушал добровольцам из зала различные образы, под действием которых они начинали, к примеру, пытаться собирать воображаемые цветы или пить воду из ручья, которого в действительности не было.
Когда настал черед юного Анри, что-то пошло не так. Постепенно через внушенные гипнозом образы, через зелень травы начал проступать обычный ковер. «Нет! Я вижу ковер!» – закричал юный Анри. Этот случай стал для художника поворотным и определил будущие эстетические поиски: «Как бы далеко ни уносила меня фантазия, – любил повторять он, – я никогда не терял из виду ковер».
Брак Матисса был заключен по большой любви. У Матиссов было двое сыновей. Кроме того, внебрачная дочь французского художника Маргарет, которую до встречи с Амели родила одна из его натурщиц, тоже жила в семье. Амели мечтала помогать мужу во всем, быть с ним рядом, она хотела, чтобы и в творчестве Анри Матисса, и в их доме звучало «мы». Но если в начале их брака так и было, то со временем она поняла, что не сможет занять в сердце мужа место хотя бы такое же, какое занимает живопись. А уж если у него что-то не ладилось в работе, то мало не показывалось никому… Увлечения Матисса «одалисками» тоже брак не укрепляли.
Когда в 1932 году порог их дома переступила претендентка на роль помощницы и секретаря, русская эмигрантка Лидия Делекторская, мадам Матисс оставалась совершенно спокойна – светловолосая голубоглазая Лидия совсем не в его вкусе. Художник всегда предпочитал брюнеток, такой была и сама Амели, и многочисленные «одалиски». Когда через некоторое время мадам Матисс понадобилась компаньонка и сиделка, она сама вспомнила об этой русской. Лидия за ней ухаживала, а Амели жаловалась на разлад отношений с мужем. Однажды Матисс зашел в комнату жены, что-то говорил, о чем-то спрашивал, взгляд его привычно скользнул по Лидии, и вдруг… «Не двигайтесь!» Вышел за альбомом и начал рисовать. Он словно впервые увидел ее, а мадам Матисс – впервые ощутила опасность от присутствия этой голубоглазой красавицы.
Жена художника долго, очень долго молча смотрела на портрет Лидии. Затем тихо сказала: «Или я, или она». Анри Матисс выбрал семью. Лидия ушла. А художник обнаружил, что без нее уже не может ни жить, ни работать. Лидия вернулась, и тогда ушла Амели. В 1940 году они развелись.
Матисс берег Лидию от молвы, упоминал о ней исключительно как о «своем личном секретаре», но не рисовать ее не мог. Он писал ее все время, мог разбудить среди ночи и потребовать позировать, не отходил от нее ни на мгновение. И любой карандашный набросок выдавал все об отношении мастера к этой странной светловолосой русской, так не похожей на любимых им смуглых одалисок.
Словно в молодости, когда простился с неоимпрессионизмом, художник заново открывал свойства линии. Он рисует линии – и каждая из них выдает безудержную, кажется, всю жизнь копившуюся нежность к Лидии. Один из критиков, глядя на рисунок, где несколькими штрихами изображена Лидия, облокотившаяся на руки, воскликнул: «Эти руки – само объятье, здесь только женская голова и руки, но они созданы для того, чтобы обнимать мужчину!» Лидия была рядом до последнего его дня. На момент их знакомства Лидии исполнилось 22 года, Матиссу – 62.
В конце января 1912 года Анри Матисс вместе с женой Амели отправляется в Марокко. Культурой Востока Матисс увлекся еще до этого путешествия. Он специально ездил в Мюнхен на выставку исламского искусства, где часами напролет любовался коврами, керамикой, резьбой и старинными монетами. Поэтому путешествие в Танжер было для художника не только хорошей возможностью поработать над заказами для коллекционера Ивана Морозова, но и поближе познакомиться с интриговавшей его культурой.
По приезде на место все пошло немного не так, как ожидалось. Помимо того, что мало кто из местных соглашался позировать приезжему чужеземцу из-за строгих мусульманских порядков, чета Матиссов выбрала крайне неудачное время для поездки. Первые две недели февраля 1912 года непрерывно шел дождь, улицы города заливало реками грязной воды, и выйти из гостиницы было довольно затруднительно. Да и та оставляла желать лучшего: «Вилла де Франс» могла похвастаться лишь отличным видом на старый город, а номера в ней были темными, маленькими и не особо чистыми.
Лишь после двухнедельного заточения, с трудом удержавшись от соблазна отбыть домой, Амели и Анри Матисс наконец смогли выбраться на прогулку в город и насладиться красотой экзотических окрестностей. «Едва дождь прекратился, из земли появились дивные цветы, – вспоминал художник. – Все холмы в окрестностях Танжера, прежде имевшие цвет львиной шкуры, покрылись изумительной зеленью, а небо затянуло тучами, словно на картинах Делакруа. Благодаря необычному свету, все вокруг выглядело совсем не таким, как на Лазурном Берегу».
В Танжере художник планировал выполнить заказы не только для Ивана Морозова, но и для коллекционера Сергея Щукина, который намекнул, что отдает предпочтение работам с фигурами. Но с поиском моделей дела здесь обстояли чрезвычайно сложно. Согласно мусульманским обычаям женщинам было не только запрещено позировать, но и вообще открывать лицо (этот закон не распространялся на проституток).
Лишь два месяца спустя усилиями местных французов – владельцев отеля, в котором остановился художник, – получилось отыскать натурщицу. На тот момент Зоре было не более двенадцати лет – еще совсем ребенок по европейским меркам, но в Марокко она считалась достаточно взрослой, чтобы выходить замуж или начать заниматься проституцией. Но позировать чужеземцу девушка смогла недолго: «Появился ее брат, – писал Матисс. – Думаю, он убил бы ее, если бы узнал, что она позирует».
Ему удалось возобновить сеансы с Зорой уже во время второго визита в Танжер почти полгода спустя. Когда ее разыскали, она трудилась в публичном доме. Поэтому девушка позировала Матиссу на крыше борделя, куда поднималась в перерывах между приемом клиентов. В общей сложности марокканка стала героиней трех работ Матисса. Не зная истории написания картины, совершенно невозможно догадаться о роде занятий Зоры, настолько скромной и целомудренной она выглядит.
Но мало Матиссу было затяжного дождя и несговорчивых натурщиков. Во время его пребывания в Танжере усилилось напряжение между местным населением и французами в связи с подписанием султаном договора о переходе страны под протекторат Франции. Матисс поспешно покинул Марокко и уже в Париже узнал о страшной резне, учиненной повстанцами, в которой погибли многие французы, оставшиеся в городе. К счастью, художнику удалось избежать столкновений и вывезти из мятежного Танжера все написанные там работы. Почти все они впоследствии уехали в Россию и осели в коллекциях Морозова и Щукина.
В 1940 году нацисты оккупировали значительную часть Франции, и многие жители спасались бегством из Парижа, где начались бомбардировки. Художнику вместе с его тогдашней компаньонкой Лидией Делекторской удалось сесть на переполненный поезд до Бордо, а чуть позднее перебраться в Ниццу, где у Матиссов был дом с мастерской.
Вымотанный разводом с Амели и разделом имущества, незадолго до страшных событий Матисс планировал отправиться в Бразилию, чтобы немного отдохнуть среди колоритных пейзажей Южной Америки и поработать в обстановке, где в окружающей среде присутствует так много ярких красок, созвучных его палитре. Уже получив бразильскую визу, он так и не смог покинуть страну. «Я должен был выехать 8 июля, – писал художник своему сыну Пьеру. – Увидев все своими глазами, я отказался от поездки. Я чувствовал бы себя дезертиром. Если все, кто на что-то способен, удерут из Франции, то кто же останется?»
В Ницце Матисс держал в специальном вольере три сотни экзотических птиц, которые немного развеивали тревогу тех дней. Но когда к осени начались перебои с поставками продовольствия и товаров, пришлось начать постепенно распродавать пестрых питомцев. Специальный корм для них, который ранее привозили из Нидерландов, теперь был недоступен.
У художника начались перебои и с вдохновением, особенно при работе с неживой натурой. Ему было сложно сосредоточиться на цветах, фруктах или распахнутых окнах из-за постоянной тревоги о близких. Его дочь Маргарет как участница французского Сопротивления была угнана в концентрационный лагерь в Германию, а мадам Матисс за печать листовок приговорена к шести месяцам тюрьмы. «Я чувствую страх перед началом работы с предметами, одушевление которых должно исходить от меня, от моих собственных чувств, – писал Матисс сыну Пьеру. – Поэтому я сговорился с местным агентством статистов кино, чтобы они мне присылали самых красивых девушек; если те мне не подходят, я даю им десять франков и отпускаю. Они удерживают меня среди моих цветов и фруктов, с которыми мне удается установить контакт, почти не отдавая себе в этом отчета… и все, что мне остается делать, – это ожидать вдохновения, которое не замедлит наступить».
В 1941 году Матисс перенес тяжелейшую операцию, у него обнаружился рак кишечника. Как выяснилось после – шансов на удачный исход было крайне мало. Матисс просил доктора подарить ему еще хотя бы года три-четыре – столько планов хотелось реализовать! Он прожил еще 13 лет. Во время болезни за ним ухаживала монахиня, которая попросила подправить ее эскизы витражей для монастырской Капеллы Четок в Вансе. Матисс увидел в этом предзнаменование и разработал полностью оформление капеллы. «Верю ли я в бога? Да, когда работаю!» – заявил он. Когда состояние здоровья более не позволило вставать к холсту, он прикреплял уголь к палке и работал таким образом. Оформление капеллы он считал своим главным достижением и сбывшейся мечтой.
1 ноября 1954 года у Матисса случился микроинсульт. А на следующий, предпоследний день его жизни Лидия Делекторская пришла к нему в высоком тюрбане и, глядя на осунувшегося Матисса, с грустью и нежностью пошутила: «В другой день вы бы сказали: давайте карандаш и бумагу». Мастер улыбнулся и велел: «Давайте карандаш и бумагу».
Анри де Тулуз-Лотрек: монмартрский аристократ
Образ Анри де Тулуз-Лотрека окружает такое количество легенд, что часто биографы тратят сотни страниц на их развенчание. Взамен же предлагают жалкие оправдания гению: был алкоголиком, потому что калека, жил в публичных домах, потому что карлик, и художником, в конце концов, стал потому, что был ужасен собою. Сам Лотрек наверняка предпочел бы парочку легенд этим неостроумным оправданиям.
Тулуз-Лотрек всегда носил в кармане мускатный орех – чтобы добавить в придуманный на ходу алкогольный коктейль. Он получал огромное удовольствие, накачивая друзей виртуозными смесями портвейна с абсентом, например. Друзья в ответ приглашали его барменом и декоратором на свои вечеринки. Он десятки раз был влюблен, взаимно и безответно, и всегда находил способ проявить свои чувства, прямо или эксцентрично. Не смея говорить и мечтать, он придумывал, как обладать по-другому: на ступнях Мизии Натансон, жены известного издателя Тадэ Натансона, он мог часами рисовать воображаемые пейзажи сухой кистью. Она все это время делала вид, что читает, прижавшись к дереву в саду.
Проститутки из лучших домов терпимости носили цветы ему в мастерскую и позволяли рисовать себя в любое время дня и ночи – спящими, задумчивыми, скучающими в ожидании клиентов, играющими в лесбийские игры, нежными и вызывающими. Он был их принцем из сказки и устраивал завтраки с дорогим вином и сладостями.
Художника смешило, когда рядом с ним по парижским улицам прогуливался кузен сантиметров на 40 выше его. Он любил высоких крепких мужчин и женщин с рыжими волосами.
Тулуз-Лотреку было 23 года, когда он встретил Кармен Годен. Юный и неуверенный в своих силах, Анри еще учился в мастерской Фернана Кормона и ответственно следовал всем советам учителя. На утренних занятиях Кормон, вдохновленный последними археологическими находками, пытался увлечь учеников монументальными сценами из жизни первобытных людей, а завершая урок, советовал выходить на улицу и делать зарисовки прямо в гуще монмартрской повседневности. Внеклассные задания Кормона нравились Лотреку куда больше, чем академические студии.
Выполнять домашние задания было исключительно приятно – старшие друзья-художники щедро делились с новичком Лотреком списком отборнейших злачных мест и закоулков Монмартра, где жизнь просто кипела. Однажды, выходя из ресторанчика, Лотрек заметил худенькую девушку с огненно-рыжими волосами и не удержался: «Как хороша! Типичная шлюха! Вот бы написать ее!» Кармен Годен оказалась не шлюхой, а простой работницей, смирной и скромной, а потом еще и ответственной натурщицей, моделью как минимум четырех портретов Лотрека. Анри писал матери, что нашел девушку с волосами из чистого золота, рассказывал друзьям, что рыжие женщины – это для венецианцев, и был страстно увлечен Кармен.
Лотреку все женщины были ангелами – он смотрел на их волосы цвета золота снизу вверх. Он был ниже тех женщин, которых писал и в которых влюблялся. Но уже тогда, в последние годы ученичества, он рассмотрел в них внутреннюю бурю, пронзительную печаль и неизбывное одиночество.
В 1896 году Тулуз-Лотрек задумал альбом литографий, который оказался одним из самых провальных прижизненных проектов художника и который арт-дилеру Амбруазу Воллару приходилось разделять на отдельные листы, чтоб хоть как-то продать. Тираж был достаточно большим – 100 пронумерованных экземпляров с личной подписью Лотрека на каждом листе. Но для любителей фривольных картинок альбом «Они» оказался недостаточно пикантным, а для любителей искусства – недостаточно красивым. Здесь не было портретов звездных певиц и танцовщиц, которые могли бы привлечь поклонников. Среди изображений безымянных тружениц публичных домов оказалась только одна звезда, клоунесса Нового цирка и танцовщица кабаре Оллера – мадмуазель Ша-Ю-Као.
Ша-Ю-Као восхищала Лотрека и была одной из любимых моделей. Он рисовал ее долго и много, чаще всего именно в сценическом клоунском наряде. Уверенная, свободная и искренняя, Ша-Ю-Као выбрала профессию клоуна, в которой даже во времена победившего феминизма встретишь немного представительниц женского пола, а в XIX веке это был тем более исключительно смелый выбор для дамы. Ни от кого не скрывала клоунесса и своих лесбийских наклонностей, чем привлекала Лотрека еще больше. «Женщина, влюбленная в другую – самое безумное существо», – говорил художник и с восторгом писал это безумие.
Проститутки, лесбиянки, танцовщицы, исполняющие фривольные танцы и выставляющие напоказ сразу все части тела, певицы и клоунессы – все эти женщины полусвета, выброшенные за пределы приличного мира, участвовали вместе с Тулуз-Лотреком в рождении нового типа привлекательности и красоты в искусстве. В чулках, колпачках, перчатках, корсетах, смешных воротниках, в гриме и без, в смешных и неестественных позах они себе редко по-женски нравились на картинах Лотрека, но доверялись его чутью и таланту. Он умудрялся в их часто гротескных портретах передавать такую внутреннюю силу и особость, которая была лестнее внешней красивости.
Звездных актрис и модных певиц принято было изображать лестно, во все времена: мягкий овал лица, соблазнительная улыбка, блестящие глаза. В конце XIX века, когда цветная печать становится невероятно популярной, на афишных тумбах ежедневно расклеиваются десятки новых плакатов. Концерты, кадрили, певцы и певицы – похожие лица одинаково заманчиво улыбаются прохожим. Уже завтра их сменят другие – такие же привлекательные и праздничные. Но Иветт Гильбер, певица кабаре «Мулен Руж», не нуждалась в лести. Ее привлекательность была другого сорта: «Больше всего я хотела бы быть своеобразной. Это дало бы мне право на любой риск», – писала Гильбер. В истории с Тулуз-Лотреком она отважилась быть некрасивой – и оказалась особенной.
Иветт Гильбер была высокой и худой, длинная шея и узкий вздернутый нос, ярко-рыжие волосы и нервные жесты, бледные щеки без румян и тонкие губы. Исполняя грубоватые, дерзкие песни о несчастной любви, трагедиях и нищете (часто – собственного сочинения), она стояла на сцене неподвижно. Только руки в неизменных длинных черных перчатках взлетали вверх и вперед в плавных выразительных жестах.
Иветт Гильбер потрясла Лотрека. Он рассказывал друзьям о новой невероятной певице «Мулен Руж» и водил их на концерты, сам не пропускал ни одного выступления. Однажды Тулуз-Лотрек набросал углем на бумаге эскиз афиши для Гильбер и отправил ей с предложением о сотрудничестве. Этот набросок был жестоким и эффектным, оскорбительным и чутким – это был намек на неповторимый вызывающий образ, отдельный от сценического, намек на большую новую роль, гениально придуманную специально для нее. Гильбер была готова печатать афишу, но оказалось, что готова лишь она одна. Друзья, родные были оскорблены этой уродливой, гротескной карикатурой, антрепренер угрожал разорвать контракт. В ответном письме художнику она напишет: «Мы еще вернемся к этой теме. Но, ради создателя, не изображайте меня такой ужасающе уродливой! Хоть немножко привлекательнее!.. Сколько людей, которые приходили ко мне, глядя на ваш эскиз, возмущались и негодовали… Ведь многие – да, да, очень многие! – не в силах понять искусство…»
Скоро они познакомятся лично – и Гильбер согласится позировать Лотреку. Он задумал 14-страничный альбом литографий, посвященный ей одной. Альбом выйдет скандальным – на этот раз Иветт даже порекомендуют подать на Лотрека в суд. Но она уверена, что все делает правильно, – и ставит свою подпись на каждом из ста отпечатанных альбомов.
Иветт Гильбер проживет больше 70 лет и получит самую высокую французскую награду – орден Почетного легиона. Устав от трагических песен о любви, она начнет изучать средневековый французский фольклор – и исполнять эти старинные народные песни. Французское правительство отметит орденом именно эту ее исследовательскую и популяризаторскую работу.
Ее программы с восторгом принимают в Германии, Англии и США, среди ее горячих поклонников были Зигмунд Фрейд и Бернард Шоу. Она снялась в нескольких немых фильмах, преподавала пение и написала несколько книг. На фотографиях, в молодости и даже в зрелом возрасте, Гильбер выглядит привлекательно и даже аристократично. Но вряд ли кто-то вспомнил бы сейчас о ней, если бы не уродливые, жестокие, потрясающие изображения Тулуз-Лотрека.
Друзья, которые давно знали и любили Анри, переставали замечать его внешнюю особость. Им было странно и досадно, когда какой-нибудь задиристый щеголь посмеивался или пялился на художника. Да он и сам мог врезать пощечину или забористо обругать человека, в глазах которого видел насмешку.
На самом деле, стоило с Лотреком сойтись поближе – и всякие границы и необходимость в жалости исчезали. Он рисовал самые остроумные карикатуры на себя самого, придумывал шутовские фотосессии и завел собаку, толстенького кривоногого бульдога, в котором даже самые заботливые друзья обнаруживали сходство с хозяином.
Лотреку оставалось жить несколько месяцев, он приехал умирать к матери, графине Адель, после дорогого сумасшедшего дома для богатых, после приступов белой горячки, паралича и полного отчаяния. 37-летний художник тогда уже практически не мог писать, садился отдыхать после каждого мазка. «Живопись не сделала мои ноги длиннее», – мрачно заявлял он. Да, все было с точностью до наоборот: это короткие ноги сделали живопись Лотрека уникальной и открыли новый взгляд на внешнюю привлекательность в искусстве.
Группу французских художников «Наби» сложно вписать в крупное художественное направление вроде импрессионизма, экспрессионизма или модерна. Хронологически совпадая с каждым из этих мощных течений, художники-набиды проложили узкое, извилистое, стремительное русло для собственного искусства где-то посередине.
«Наби» переводится с древнееврейского как «пророк». Это название предложил группе молодых художников поэт и специалист по древневосточной словесности Огюст Казалис, когда в 1888 году они впервые заговорили об общих художественных целях. Основатели группы Поль Серюзье, Пьер Боннар, Жан Эдуар Вюйар и Морис Дени верили в совершаемый ими переворот в искусстве, но к званию «пророков» относились со здоровой иронией. «Наби прекрасных икон» называли Мориса Дени, «Очень японским наби» – Боннара, «Еще более японским, чем японский наби» – Рансона, «Интимным наби» – Вюйара, а Серюзье – «наби со сверкающей бородой». Набиды признавали, скорее, мистическую роль художника как священника, посредника, раскрывающего невидимое.
Частная художественная академия Жюлиана, в которой познакомились и учились Поль Серюзье, Морис Дени, Жан Эдуар Вюйар, Поль Рансон и Пьер Боннар, была в конце XIX века самым серьезным конкурентом парижской Академии изящных искусств. Но конкуренция эта вовсе не была идеологической – здесь преподавали те же академики, которые отбирали картины для Салона. В Париже уже прошли все восемь выставок импрессионистов, Гоген скоро отправится в Полинезию, Ван Гог написал в Арле почти все «Подсолнухи», а в академии Жюлиана все еще пишут амуров, мифологические и исторические сцены. Будущим набидам всем около 20, они честно выполняют программу академии и почти ничего не знают об импрессионистах. Пока однажды Поль Серюзье не встретился с Полем Гогеном.
В 1888 году Гоген и Серюзье вместе пишут в городке Понт-Авен в Бретани, говорят об искусстве, накладывают краски чистых цветов прямо из тюбиков, не смешивая на палитре, и курят сигары. Здесь Гоген дает юному коллеге несколько ценных уроков: «Какими вы видите эти деревья? Они желтые, поэтому накладывайте желтый, а эти тени скорее голубые – так пишите их чистым ультрамарином. А эти красные листья? Накладывайте киноварь». На картонной крышке от коробки с сигарами Серюзье набрасывает этюд, следуя этим рекомендациям, а по приезде в Париж называет его «Талисманом» и показывает друзьям из академии Жюлиана, объясняя наглядно основы синтетизма Гогена и субъективного взгляда на природу. Морис Дени вспоминал, что и он, и его друзья в этот момент почувствовали себя «свободными от ярма, в которое идея копирования загоняла их художническое чутье».
Набиды собираются вместе в одной из мастерских, чаще у Рансона – и к урокам Гогена добавляются долгие беседы о философии Плотина, чтение стихов Малларме и древней семитской литературы, погружение в неокатолический мистицизм, увлечение живописью символиста Пюви де Шаванна, замешенной на декоративности, аллегориях и ренессансных идеалах.
Автор книги о «Наби», британский историк искусства Катрин Куензли, говорит, что набиды замахнулись переформатировать отношения художника одновременно и с художественной традицией, и с субъективным восприятием, и с объективной окружающей реальностью. Художники «Наби», по ее мнению, сосредоточились на нескольких важных задачах: «во-первых, пересмотр отношений между ощущением и воображением в попытке сделать современное искусство более жизнеспособным; вовторых, попытка выйти за рамки станковой живописи и задуматься об искусстве как части жизненного пространства; втретьих, мечта связать человека с какой-то формой общественного идеала или опыта; и вчетвертых, попытка синтезировать современность с традицией».
Первые небольшие выставки группы «Наби» проходят в мастерской Поля Рансона, где кроме художников собираются поэты, владельцы журналов и театров. Но при этом личный стиль каждого художника развивается свободно, а принадлежность к группе не делает его заложником общих концептуальных выставок и принципов. К группе присоединяются Феликс Валлоттон, Кер-Ксавье Руссель и Аристид Майоль.
Парижские арт-дилеры и издатели прогрессивных художественных журналов, за 20 лет воспитанные импрессионистами, постимпрессионистами зорко различать значительные новаторские течения, принимают «Наби» сразу же. Амбруаз Воллар покупает их картины в личную коллекцию и устраивает выставки в галерее на улице Лафитт. С профессиональным интересом и личным восхищением работы набидов принимает в магазин «Дом нового искусства» немецко-французский арт-дилер Самюэль Зигфрид Бинг. Это он пару десятков лет назад одним из первых начал продавать в Париже японские гравюры, нэцке, ширмы и кимоно и, в свою очередь, возить в Японию новое французское искусство. Теперь к его страстным увлечениям добавились художники «Наби», а позже будет ар-нуво.
Но главные покровители «Наби» – братья Натансон, издатели авангардного журнала La Revue blanche. Это издание, в котором впервые появился восторженный отзыв о Сезанне, в котором пишут Марсель Пруст и Поль Верлен, Клод Дебюсси и Гийом Аполлинер.
В каждом номере La Revue blanche печатают литографии художников-набидов, а Морис Дени пишет несколько статей, из которых складывается стройная теоретическая основа всех исканий «Наби». Один из его афоризмов в качестве самого наглядного подхватывают позже многие историки современного искусства: «Картина – прежде чем стать боевым конем, обнаженной женщиной или какой-то историей, – по сути, плоская поверхность, покрытая цветами в определенном порядке». Сейчас может показаться, что в этом выводе нет никакого откровения, что это позиция чуть ли не всех авангардных «измов». Только до подобных высказываний Василия Кандинского еще должно пройти лет 20, а до схожих размышлений Казимира Малевича – около 25.
Историк-исследователь «Наби» Шарль Шассе объясняет, к чему стремились художники, члены группы: «Картина имела смысл только тогда, когда она обладала «стилем». То есть когда художнику удалось изменить форму наблюдаемых объектов и наложить на них контуры или цвет, выражающие его личность».