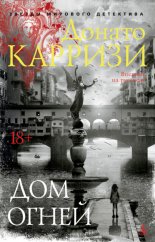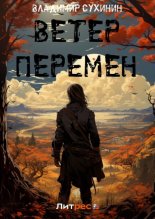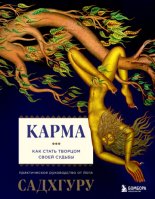Наследие Сорокин Владимир

– Ты думаешь, мы, зэки, не люди, бля? Мы мусор? Пыль подножная? Плесень, бля, подзалупная? Нет, нах! Я ещё на твоей могиле просрусь, нах! Сюда иди, нах! Иди, штабист!
Гера пошёл вперёд. И стал бить – неточно, прямолинейно.
Жека отмахивался. И бил снизу вверх, когда получалось. Герин кулак Жеке в глаз ткнулся.
– А, блядь-сука! – тот выругался и на Геру с рёвом бросился:
– На, бля! На, бля! На, бля!
Удары на Геру посыпались. И один – снова в ухо пораненное. Гера ответно Жеке – в голову, в плечо, в голову. Кровь и слюна в стороны полетели.
Отпрянул Жека, на ногах присел, кулаки сжав угрожающе. Он дышал тяжело, хрипло. Гера стоял, стойку боксёрскую держа. Глаз его заплыл слегка, из уха кровь сочилась. У Жеки глаз заплыл сильно, кровь изо рта разбитого на стол капала.
Постояли бьющиеся время некоторое, в себя приходя.
И Жека вперёд кинулся:
– Хы, бля! Хы, бля! Хы, бля!
Удары его отчаянные, беспорядочные на Геру посыпались. Защищался тот как мог. Попал Жека снова по уху, нос задел и по голове вскользь. Гера ударил ответно – раз, другой, третий. Отпрянул Жека. Стало заметно, что устал он: дышал тяжело ртом разбитым, лицо раскраснелось. Гера высморкал кровь из носа расквашенного. Жека вперёд кинулся, махая руками из последних сил:
– Хи, бля! Хи, бля! Хи, бля!
Увернулся Гера от двух ударов, сам ударил Жеку в челюсть. И попал. Отшатнулся тот, попятился и задницей плоской на стол присел. Гера добивать не стал – замер над севшим, кулаки окровавленные у груди держа. Жека сидел на столе, кровавый рот открыв, дыша тяжело.
Гера ждал.
Хван одобрительно зубом цвиркнул.
– Вставай! – Гера произнёс.
Заворочался Жека, на карачки встал, потом приподнялся. Руки поднял. Но едва занёс руку для удара, как Гера ему точно в лицо врезал – раз, другой, третий. Круглая голова Жеки, как дыня, назад мотнулась. Зашатался Жека и со стола на пол полетел, обрушился:
– Ой, бля!
Точка красная лазерного прицела пистолета Хвана ему в лоб упёрлась.
– Стреляй, падло… – Жека разбитым ртом прохрипел.
Но – Хван руку свою поднял.
Все замерли.
Минуту-другую в пещере тишина висела.
Затем заговорил Хван:
– Вы достойно бились. Не как барсуки и лисицы. Не как уёбанцы. Отпускаю вас обоих. Убирайтесь!
Заёбанцы загудели одобрительно.
– Дайте им одежду, – Хван приказал.
Байрак ватники и шапки Геры и Жеки принёс. Гера со стола спрыгнул, оделся, вынул платок, женой расшитый, громко кровью высморкался, лицо обтёр, платок к уху пораненному приложил. И пошёл сквозь толпу заёбанскую к двери. Жека на полу заворочался, глазами вокруг шаря, словно не веря. И снова лёг на спину.
– Встать! – Лахава Жеку сапогом ткнул.
Тот встал с трудом, за локоть от падения разбитый схватился, застонал:
– Ёбтвою…
– Пошёл отсюда! – Лахава пистолетом махнул.
Жека приподнялся с трудом. Встал. Лицо его побагровело, глаз заплыл, рот кровью блестел.
Нахлобучил шапку свою. Морщась, за локоть держась, накинул ватник на спину. И побрёл, шатаясь, за Герой.
Заёбанцы расступились.
Пошли сквозь них Гера с Жекой. И вышли сквозь дверной пролом на волю.
Хван свой прищур на женщин устремил:
– А теперь – смертельная бабья пляска! Женщины переглянулись напряжённо.
– А перед пляской скажу я пару слов о вашем роде. Что есть баба? Второй номер. Из ребра мужика создана. Полна слабостей. Вместо мышц – сиськи. Вместо ума – хитрость кошачья. Или лисья. Вместо героизма – змеиная повадка. Вместо хуя – пизда. Что есть пизда? Рана на теле. В эту рану слабые мужики хуй свой засовывают. И становятся бабьими рабами. И прилепляются к ним. И теряют себя. А мы, заёбанцы, – не бабьи рабы. Мы сами по себе. А вы – помеха. И слабость. А слабость, которая ещё и помеха, – мы давим. Беспощадно. Но я дам вам шанс. Сейчас каждая из вас разденется догола, влезет вот на этот стол. И спляшет нам танец победителей. А мы его оценим. Если плохой танец будет – пуля в лоб от Лахавы. Спляшет хорошо, по-победному – свобода.
В укрывище напротив толпы заёбанцев стояли четверо женщин – полногрудая, дородная Анфиса-повариха, Тьян субтильная, старуха Ма-рефа и Аля.
– Первая – на стол! – Хван на Анфису указал.
Анфиса с другими женщинами переглянулась и стала раздеваться нехотя. Раздевшись донага, на стол влезла, встала. У неё было тело полное, белое: большая грудь, крутые бёдра розовые, ноги полные, ступи крепкие.
Хван плеткой по столу ударил. И все набившиеся в укрывище заёбанцы стали ритмично в ладоши хлопать. Озираясь по сторонам напряжённо, Анфиса начала на столе пританцовывать. Хлопки партизан в гул слились. Наполнил он пещеру. Анфиса приплясывала под этот рокот всё сильнее, ногами полными по столу притопывала, руками разводя. Пляска её была русской. Груди её большие в такт танцу качались, зад объёмистый колыхался.
Заёбанцы хлопали.
И вдруг Хван руку поднял. Хлопки стихли. Анфиса плясать перестала. Хван усмехнулся. По толпе гудение разочарования прошло. Анфиса стояла на столе, растерянно руки разведя. Глянул Хван на своих: как?
Замотали головами, рты подковами выгнули: никак!
Хван двумя пальцами соединёнными показал “О” Анфисе.
Точка красная лазерная на лоб её смертельной мухой легла.
Выстрел.
Пуля в голову впилась.
Анфиса назад отшатнулась, как от толчка по лбу, и повалилась на стол навзничь. Загудел стол от веса её.
– Не вышло у ней победной пляски! – громко Хван объявил.
Труп Анфисы со стола стянули.
– Ты! – Хван на Тьян указал.
Та тут же проворно с себя одежду скинула, легко на стол вскочила. Её тело худое с маленькой грудью и узкими плечами-бёдрами на столе замерло.
Хван плеткой ударил. Захлопала толпа партизанская.
Тьян словно ждала того: затанцевала, завертелась, замахала руками. Танец её был китайским. Прыгала она, ногами быстрыми воздух пещерный простригая, руками над собой чертила, прогибаясь и на колени падая, вскакивала, семенила по столу, как трясогузка, подпрыгивала, прогнувшись, припадала к столу по-тигриному, извивалась змейкой, веретеном крутилась.
Хлопали и хлопали заёбанцы.
Глядел и глядел Хван на пляску Тьян. И вдруг руку поднял.
Стихли хлопки.
Но Тьян умная продолжала.
Три сотни глаз за её пляской следили.
А она танцевала, танцевала не останавливаясь, движения убыстряя. Пляска длилась и длилась. Голое худое тело извивалось на столе, вертелось, прыгало, падало, восставая снова и снова. Это продолжалось и продолжалось.
Стали переглядываться заёбанцы.
Командир с их глазами встретился своими.
И выгнулись подковами лица небритые, зимними ветрами обсосанные.
Хван “О” из пальцев сложил. Но Тьян его не различила – в танец погружена была.
Зато Лахава понял.
Выстрел.
Крутясь вокруг оси своей, Тьян на стол осела. Тело её быстрое сложилось, тельцем бессильным становясь. И обездвижилось.
Сдёрнули китаянку мёртвую со стола, как куклу тряпичную.
– Ты! – Палец Хвана на старуху указал.
Запела Марефа на языке шаманском – глухо, хрипло, – слова русские, китайские и якутские, перемешивая, словно в котле – варево. Стащила с себя одежду засаленную, протёртую. На стол с трудом вскарабкалась.
Тело её – старческое, с грудями и задом обвислыми, с рёбрами, сквозь кожу дряблую проступающими, с ногами, подагрой обезображенными, с длинными ногтями жёлтыми на руках-ногах.
Захлопали ей.
– Яха моро хьен варо, яха моро шьян дары, яха моро шан мараф! – запела на столе Марефа и небыстро закрутилась на месте, ногами уродливыми по столу притоптывая.
Руки в стороны развела, локти – вверх. Словно ворона старая.
Хван зубом цвиркнул. Губы выгнул презрительно.
Лахава сразу командира понял.
Выстрел.
Марефа вскрикнула хрипло, словно каркнула. И со стола на пол повалилась, кости старческие ломая.
Смолкли хлопки.
– Не победный танец! – Хван произнёс жёстко.
И тут же – палец на Алю:
– Ты!
Аля разделась спокойно, словно и не приказывали ей. На стол влезла. Встала. Руки на груди скрестила. И лицо своё красивое вверх подняла.
Хван по столу плёткой стеганул. Захлопали все.
Но Аля не пошевелилась. Хлопать стали сильней. И ещё сильней. Гул хлопковый по пещере волной пошёл.
Аля стояла, глазами в потолок земляной вперившись.
Хлопали заёбанцы. Сильней! Сильней!
Аля стояла, как скала маленькая, под волной хлопков.
Длилось это и длилось.
Хван руку поднял. Смолкло.
Тишина мёртвая в пещере повисла.
Вдруг Аля ногой в стол топнула, руки вверх вскинула и возопила изо всех сил:
– Побед!!!
Открылись рты у заёбанцев.
Лицо Хвана словно застыло. Но ненадолго. Губы жестокие разошлись. И рассмеялся довольно командир партизанского отряда ЗАЁ.
И засмеялись все, захлопали: победа!
Аля на столе стоит. А вокруг – гул и шум победный.
Стали скандировать:
– Победа! Победа!
Доволен Хван, довольны партизаны.
Поднял командир руку. Стихло всё.
– Сплясала нам эта девка танец победный, – Хван произнёс. – За это – жизнь и свободу ей дарим. Слезай!
Слезла Аля со стола.
– Одевайся и уходи.
Аля через труп Тьян переступила – и к Хвану. Упала на колени, снова руки на груди скрестив:
– Баратец! Баратец моя! Отпуст со мной, пжлст!
– Брат? – Хван на обслугу уёбанскую глянул.
Оле к сестре пошёл, прихрамывая.
– Баратец!
– Забирай своего братца.
– Спсб! Спсб! – Аля склонила голову, булыжников пола касаясь.
Оле стал помогать ей одеваться. Аля на инвалида, вместе с обслугой притулившегося, взглянула. И снова – на колени перед Хваном:
– Пжлст!
– Чего ещё?
– Дедушко! – пальца обрубком на инвалида указала.
– Чего – дедушко? – Хван недовольно губу выпятил.
– Докатор! Он Оле лечите будет! Нога!
Хван глянул на старика белобородого и безногого. Его опухоль в пол-лица вызвала у командира лёгкой брезгливости гримасу.
– Забирай и его!
Через несколько минут Аля, Оле и инвалид выбрались из развороченного взрывом входа в пещеру уёбанскую. И на лёд реки замёрзшей ступили.
Остановилась Аля. Руки к лицу прижала. Заплакала и на лёд села бессильно. Оле ей руку на голову положил:
– Ад ноупле свобода.
Вздохнул и добавил:
– Хрипонь спасибо тебе пристошон.
Аля плакала. Инвалид, от льда руками отталкиваясь, подволок своё тело.
– Хотели они, чтоб ты сплясала. А твоя пляска – свободе смазка. Так сплясать – не потрохом потрясать. Низкий тебе мормон… поркон… нет, – поклон с четырёх сторон!
Он склонил свою голову, бородой седой льда касаясь.
Аля схватила брата руку, прижала к лицу своему и разрыдалась.
– Ну, пристошон торфэ… – Оле пробормотал, носом шмыгнув.
Инвалид шапку на голову нахлобучил:
– Сделало твоё тело великое дело – оно им правду сказало, да всё рассказало, поверили они тебе, да и отпустили тебя на бролю, хролю… на волю, потому как правда – глаза колет. Правду на хлеб не намажешь, в магазине не закажешь. Правда ночи… очи всем ест, кто окрест. А нам всем теперь – святой крест!
Инвалид перекрестился. Из пролома пещерного глухие выстрелы раздались.
– Добивают ненужных, им непотужных. Поспешимте, милые, пока не запахло завилами… давилами… могилами.
Они двинулись по льду, прочь от пещеры.
Меж тем погода испортилась: солнце, утром на небе февральском сияющее, за тучами скрылось. Ветер задул, мокрый и крупный снег принёс. Трое прошли по льду, но потом предложил инвалид:
– Надобно к железной дороге идти. Там есть пути. А тут кругом – мес, лес, деревья да зверья-поверья…
Сошли со льда и двинулись по снегу. И различили в снегу следы Геры и Жеки.
– Двое драчунов к дороге пошли! Пойдёмте за ними, пока нас не нашли! – инвалид предложил.
– Ад ноупле точно, – Оле кивнул.
Двинулись по следам.
В снегу инвалиду стало тяжело тело своё на руках перетаскивать. Аля и Оле стали помогать ему.
Гера услышал крик Жеки уже в лесу, когда от реки отошёл пару вёрст. Остановился он, обернулся.
– Погоди! – хрипло Жека прокричал.
Гера подождал. Жека брёл, за локоть разбитый держась. Из-под шапки лицо расквашенное глядело, с глазом заплывшим. Гера сигареты достал, закурил.
– Погоди. – Жека дошёл, запыхавшись.
– Ну? – Гера холодно на него глянул.
Жека тяжело дышал молча. Пожевал разбитым ртом, сплюнул кровью на снег.
– Дай закурить.
Гера протянул ему пачку полупустую. Тот вытащил сигарету, сунул в губы распухшие:
– Огня нет у меня.
Гера зажигалку протянул. Закурил Жека. И сразу по привычке дым в рукав ватника выпустил. Гера курил молча, на Жеку не глядя.
– Давай это… в натуре… – Жека пробормотал.
– Чего?
– Ну, без обид.
Гера хмыкнул. Помолчали.
Снег, начавший падать с неба низкого, серого, густился.
– Ты к железке?
– А куда ещё?
– По их следу вчерашнему?
– Позавчерашнему.
Жека на небо глазом своим здоровым глянул:
– Валит. А коль следы завалит?
– Не завалит. Вон колеи какие.
Жека глянул под ноги:
– Ну да…
Сплюнул кровью на санный след:
– Да, бля…
Они курили молча. Жека рассмеялся устало:
– Бля… это… пиздец!
Молчал Гера, дым пуская.
– В общем, ты это, братан…
– Чего?
– Ну… благодарю.
– За что?
– За то, что меня отпиздил.
Гера смотрел, с сигаретой в зубах.
– Если б не отпиздил, не шли бы мы с тобой здесь.
Гера потянул разбитым носом. И промолчал.
– Так что… вот.
Жека руку Гере протянул. Помедлив, Гера свою протянул. Они рукопожатием обменялись.
И пошли дальше по санному следу, снегом мокрым засыпаемому.
Оле, Аля и инвалид медленно двигались по следам Геры и Жеки. Снег усилился.
Вошли в лес и остановились передохнуть.
– Мне бы эти… мрыжи… лыжи какие-нибудь, – инвалид тяжело дышащий пробормотал. – Тяжко снег месить. Это как свечи чёрныя гасить.
Оле огляделся, хромая, в лес пошёл. Аля стояла с инвалидом, разглядывая его необычное, раскрасневшееся от движения лицо с багрово-фиолетовой опухолью.
– Вы в Хабарск идти?
– Дойдём до поездов, сяду на какой-нибудь.
В Хабаровск… нет. Там ничего нет. Ничего.
– А где дом ваше?
– Нету у меня дома. А ваш дом где?
– Сгорело.
– И куда вы двинетесь?
– Не знай. Может, Красноярск. А вы куд?
– Да могу в тот же Хызыл Чар, как и ты. Не смешил ещё… не решил ещё.
Он устало скривил губы мясистые, чтобы рассмеяться, но вдруг заморгал, задёргался лицом и замер.
Аля на него смотрела. Снег падал.
Через время некоторое Оле из леса выволок макушку высохшей берёзы.