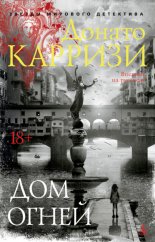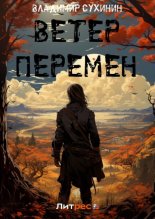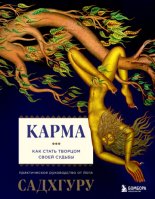Наследие Сорокин Владимир

Солнце уж всю долину затопило, снег плотный блестит рафинадом, небо голубое, высокое.
Стоны, вскрики, вопли.
И рычание победное.
Возле паровоза на снегу – гуртом сидят лишние, человек двадцать. Ждут очереди.
Командир с комиссаром – к ним.
Пальцами – ты! И ты!
На Жеку палец комотра показал, на Геру – комиссара. Жека со снега встал, быстро штаны приспустил:
– Командир, у меня в жопе алмазы.
– Чего?
– Алмазы якутские. Уд по ходу ободрать можно.
Повернулся Жека: на его ягодицах поджарых татуировки – два чёрта с лопатами совковыми в руках. А в лопатах – алмазы блестят. Наклонился кочегар, ягодицами задвигал, как при ходьбе. От движения черти стали алмазы ему в верзоху закидывать.
Командир усмехнулся:
– Шутника в обоз!
И на Геру:
– Встать!
Гера сидит спокойно:
– Не дамся. Стреляйте.
– Ты кто?
– Разжалованный штабс-капитан ВДВ ДР.
– Десантура? Штабной? В обоз его! Пригодится.
И на пленного солдата:
– Ну-ка, становись к паровозу, служивый!
Русоволос солдат, с простым лицом русским, нос картошкой рязанской. Встал, покорно штаны скинул.
Комиссар выбрал себе мужика попухлявей, из пассажиров. Похоже – купец. Перепуганный, крестясь и подвывая, порты спускает.
– К паровозу! Становись!! – Голос комотра воздух сверлит.
Двое со штанами спущенными к тендеру тёплому встали, оперлись. У солдата задница плоска, как доска, у купца – каравай пшеничный.
У комотра уд жилистый, кривой, недлинный. У комиссара – дубина мясная.
Вставили.
Купец завопил.
Солдат застонал.
Комотр и комиссар и ебут по-разному, как и говорят: один быстро, жадно-напористо; другой – протяжно-обстоятельно.
Сладка зимняя ебля под газом! Быстро не кончается. Крики, стоны, рычания.
Идёт дело горячее.
Уж и кровь на снег брызжет, и бесчувственные валятся, а новые из лишних к поезду встают. Уж и до смерти заёбанные с насыпи катятся, и кости трещат, и связки горловые от крика садятся, а партизанские тела всё раскачиваются жадно:
еть!еть!еть!еть!еть!
Ненасытны адские уссурийские ёбари.
Потому как – этим и живут.
Эту страсть в себе и носят, месяцами по сопкам перекатываясь.
Купчина комиссаров, навизжавшись, замертво валится. Елда мясная, окровавленная на солнце блестит.
– Следующий раб Божий!
Перст указующий комиссаров неумолим.
Следующего пассажира к тендеру ставят. Это есаул Гузь из Ши-Хо. Под дулами партизанскими вся СБ-спесь с него сошла. Глянув на кровавую дубину комиссара, сделал вид, что сознание теряет. Но Оглоблина не проведёшь:
– Девять грамм симулянту!
Выстрел.
– Следующий!
Женщина дородная, как и комиссар. Сибирячка. Встала покорно, юбку задрав. Крепкими руками о тендер оперлась.
– Матушка, одарил Вседержитель тебя охлупьем знатным! – одобряет комиссар, елду направляя.
Вошёл.
И – молча приняла в себя дубину Комиссарову, только тубу прокусила.
Кровь на рельс стылый капнула.
– Достойна ты, баба, проебстивой быть!
Но и она вскоре без чувств валится.
– Следующий!
Идёт дело сочное, упругое.
Комиссар уж четырех заёб. Повалился без чувств и солдат русский, терпеливый.
Четыре часа без малого ебля адская продолжалась. Солнце уж в зенит встало, тендер паровоза остыл. Большую часть пассажиров, как и всегда, насмерть заебли партизаны. Покалеченных – с насыпи в овраг.
Барахло из поезда – на сани.
Пленных полезных с десяток-другой – в обоз. Туда и Гера с Жекой попали, и девочка Аля, и Тьян, и старик безногий, доктором назвавшийся. Рабочие руки нужны отряду: еду готовить, исподнее стирать, раны перевязывать.
– По саня-я-я-я-ям!!!
Голос командира – хоть пронзительный, но удовлетворённый. Победа!
– С нами Бо-о-о-ог! – Комиссар раскрасневшийся всех крестным знамением осеняет.
Дёрнули вожжи мёрзлые, заскрипели полозья.
Домой! В лес!
Но девочка Аля – с саней и – тягу.
– Стоять! – Очередь автоматная перед ней по снегу фонтанчиками.
Встала Аля, руки подняла.
– Что за девка прыткая – третья попытка!
– Я братца иещу! – заплакала.
– Мы таперича твои братцы! Ходи назад!
Подошла. Партизан Ерохин её – живородящей верёвкой за ногу, как курицу.
– Садись, не гневи наши сердца!
Села Аля, делать нечего.
– Прыткая – это хорошо. – Комотр Налимов в медвежью полость кутается. – Будет у меня сегодня ночью дрочей!
– Дело почётное, Иван!
– И ответственное, Богдан!
Улыбаются друг другу, рядом сидючи, комотр с комиссаром. Победа! Не каждый день в жизни партизанской это слово говорят.
– Н-н-но, привередливыя!
Вожжи куржавые по крупам конским прошлись. Сани дёрнулись.
В стан добрались к закату, когда солнце уж за сопки упало. Логовище партизанское хитро обустроено: в обрыве береговом реки Сунгари вырыты пещеры обширные, достаточные. Туда с реки замёрзшей с ходу сани вползают. Там и конюшня, и кладовая, и оружейная, и нары спальные, и трапезная.
Встречают партизан их помощники – поварихи, кладовщики, оружейники, конюхи. Все они – пленными оказались, каждый в своё время, а потом в отряде остались.
Добычу – в кладовую да на кухню.
Есть партизанам хочется, оголодали после дела. Ну так на что повара-поварихи? Всё готово уж. В трапезной все рассаживаются рядами тесными. Комиссар молитву читает. И – чаши с кулешом – по рукам. Хорош кулеш партизанский! С пшеном, морошкой, мясом-салом кабаньим. Кабанов в лесу достаточно. Есть и олени, и косули, и медведи. Во время войны зверь расплодился – бить некому, стрелки на фронте! Волки по ночам воют. Так что обед адских ёбарей без мяса – редкость.
Отобедав, остатки еды пленным отдали.
Аля с инвалидом рядом, из одной чаши едят. Он ест спокойно, словно и не произошло ничего в его жизни нового. Она – по брату всё печалится, слёзы в кулеш роняет. У инвалида тоже слеза покатилась, опухолью выдавленная. Застонал.
– Болит, дедушк?
– Не болит, а ноет, словно зуб.
– Мама говорила, от зубной боли свиное сало помогай.
Усмехнулся:
– Попробуем!
Вытащил из кулеша кусочек кабаньего сала, к опухоли приложил. Аля рассмеялась, слёзы утирая.
После трапезы партизаны отдыхать пошли. А пленных распределили. Аля и Тьян на кухню попали. Там ещё пятеро женщин разных. Кухня большая, в пещере отдельной. Свод пещеры, как в шахте, деревянными столбами подопрён. Пол галькой да камнями речными выложен. Четыре печи больших, из валунов и глины сложенных. Трубы жестяные – в потолок. Котлы на печах большие, чугунные, банные. В них пищу партизанам варят, моют посуду, кипятят инструменты для доктора партизанского. А на одной печи отдельно – медный котёл. Огромный. В нём варится хлёбово. У котла старуха и баба молодая, Анфиса краснолицая. Старуха Марефа в лохмотьях, в ожерельях из черепов змеиных и ястребиных. Анфиса варево мешает, старуха сыпет туда сушёные грибы, жучиный порошок, кидает корень женьшеня, вяленую гадюку, травы болотные, бормочет заклятие:
– Варись, хлёбово-ёбово, варись, хлёбово-ёбово…
Алю и Тьян определили к другим посудомойкам. Стали чашки и ложки в тёплой воде с китайским гелем мыть.
Инвалида безногого к доктору направили. Доктор в отряде – монгол Сэнгюм Баасанжав, бывший фельдшер, крещённый в православие под именем Сергей. Но зовут его все по-прежнему – Сэнгюм. В отряде все – православные. Даже приставшие четверо китайцев в Православие комиссаром окрещены. Таков порядок для бойцов: православный отряд. Посудомойки, уборщицы, медсёстры – другое дело.
Но Сэнгюм сам захотел православным стать.
Спрашивает инвалида:
– Назвался доктором?
– Был.
Глянул на опухоль багровую в пол-лица:
– Тебе самому доктора надо.
– Уже не надо.
– Раны умеешь врачевать?
– Умею. И не только раны.
Зовёт Сэнгюм бойца Авдеенко, на казахской мине подорвавшегося.
– Сделай перевязку.
– Мытьё рук.
Обеспечили. Долго мыл с мылом инвалид свои руки большие. Затем занялся сложной раной бойца. Да так всё классно сделал, что Сэнгюм родной язык вспомнил:
– Сайн Хийлээ![17]
Зачислили инвалида в медчасть.
Комотр Налимов Геру допрашивал: кто, откуда, звание, биос, бои. Чётко отвечал Гера.
Последний вопрос:
– Как к Иссык-Кульскому мирному договору относишься?
– Считаю изменой и предательством.
– А к газу?
– Наркотических веществ не употребляю.
– Православный?
– Так точно.
– Готов служить в УЁ?
– Выбора нет.
– Будешь помогать нашему каптенармусу Морозевичу. Изменишь – пуля в затылок.
– Измена – не моё ремесло.
– Вот и хорошо.
Жеку хитрожопого Налимов допросил, тот ему всю свою цветистую биографию поведал.
– Истопником!
– Слушаюсь, начальник!
После трапезы бойцы спать завалились. Налимов, дозоры выставив, тоже прилёг. Толстяк Оглоблин давно уж храпел.
Аля на кухне работала: мыла с другими женщинами посуду, потом котлы, потом пол в трапезной. Проходя мимо двух печей, куда Жека с другим истопником дрова швыряли, заметила кучу хлама с поезда на растопку: картонки, обёртки, сумки пустые и… книжку. Ту самую – “Белые близнецы”.
Остановилась.
– Тебе чего? – Жека рот свой полуоткрытый на Алю наставил.
– Дядя, почитай мне кынижка, пжлст.
– Чего?
– Кынижка вот ета почитай.
Жека с истопником переглянулся. Рассмеялись.
– А мне что за это?
Аля вынула из кармана халата десять юаней, протянула.
Жека хмыкнул:
– Деловая, бля.
И к напарнику:
– Семёныч, побросай пока, трёха с меня.
Тот кивнул.
Жека книжку взял, к печи тёплой присел. Аля место в книжке показала.
Жека читать стал. Быстро и правильно. На зонах он книжки почитывал. Голос его, хрипловатый, жёсткий, Але понравился:
Ярмарочный народ посмеивался над частушками, но не мог глаз оторвать от рук детей. А те действительно творили чудеса с умным молоком: один ву сменял другой, и разнообразию форм их не было конца.
Дома Лена хохотала от счастья, подбрасывая в шапке мужа полученные деньги:
– Бизнес пошёл!
Вернувшись в дом, близнецы снова засели за умное молоком.
– Кушать, кушать! – захлопала в ладоши Лена.
– Не мешай им, они делом заняты, – мудро изрёк Ксиобо.
Кухарка поставила возле близнецов тарелки с едой. Те не обратили на еду внимания.
Зато опекуны устроили куанхуан по случаю первого и удачного выхода на ярмарку. За громадным грубым столом, уставленным деревянными бадьями с простой пищей Ксиобо и тарелками с затейливой едой Лены, супруги, как всегда, сидели рядом, жена – на своём высоком стульчике, муж – на огромной табуретке.
Лена подняла стаканчик с китайской водкой:
– Мой план невъебенный, потому что охуенный, что задумала – сбылось, обломашки не стряслось, потечёт рекой бабло, только открывай ебло!
Ксиобо поднял свой ведёрный стакан, подумал и произнёс с улыбкой:
– Мудрая ты.
– Родили глупой, а стала такой!
Они чокнулись и осушили свои стаканы. После третьего фантазия Лены разыгралась:
– Можем на ярмарке свой балаган построить. Твои братья придут, вы это всё за день захуячите. В балагане на входе посадим Сяолуна, он парень честный, будет билеты продавать, внутри красоту наведём, детей приоденем, блюдо им большое закажем, а может, три блюда сразу, они в них сразу три ву запиздячат, понял? Или даже – четыре, а? И начнётся у нас с тобой не жизнь, а вечный дзяци!
– Пушку купим. – Ксиобо неторопливо и мощно пережёвывал свинину с тушёными овощами.
– Да мы десять пушек купим., ебать мой пупок! – захохотала опьяневшая Лена. – Новый свинарник отгрохаем, солнечную теплицу, возьмём дальнее поле, распашем к ебеням, засеем гаоляном, будем свою водку гнать, на рынке продавать, а на этикетке буду я… вот так стоять!
Лена вскочила на стол, подняла юбку и показала Ксиобо свои маленькие упругие ягодицы с иероглифами “желание” и “покорность”.
Ксиобо громоподобно захохотал, брызгая едой, и одобрительно закивал громадной головищей.
Под утро, построив самый сложный ву, близнецы вынули руки свои из умного молока. Ву им так понравился, что они долго сидели, рассматривая его.
– Так это, – пробормотал Хррато.
– Большое. – Плабюх приблизила своё лицо к ву и вдруг рассмеялась.
– Ты сама там, как это… так?
– Я так!
Плабюх радостно смеялась, шевеля пальцами над изгибами ву
– Так вот, – кивнул, соглашаясь, Хррато и заметил еду. – Это?
– Ага.
Он взял тарелку и стал жадно есть, загребая с неё еду рукой. Плабюх взяла свою тарелку и тоже стала есть. Опекуны приучали детей есть палочками, но сейчас те забыли про них.
Они съели всю еду.
– Охота, – произнёс Хррато.
– Охота, – повторила Плабюх и радостно засмеялась.
Хррато встал, снял с гвоздя свой колчан с луком и стрелами:
– Охота!
– Охота! – встала Плабюх.
Сестра понимала его и без слов. Она так соскучилась по охоте!
Сбросив с себя одежду, они вышли из дома. В своём лесу, когда всё было зелёным, они любили охотиться голыми. Брезжил рассвет, горели редкие звёзды и висела бледная луна над полем озими. Близнецы пошли к лесу на голоса проснувшихся птиц.
И началась охота. Хррато крадучись двигался, с луком наготове. Плабюх длинными и мягкими прыжками забегала вперёд, подкрадывалась и пугала птиц криком. Они летели в сторону Хррато. А его лук не знал промаха.
Они вернулись домой, когда солнце взошло и хозяева встали и хватились детей. Найдя одежду, они подумали, что дети сбежали.
– Ну вот и пиздец нашему бизу! – верещала Лена, хлопая себя по бёдрам. – Дали тягу приблуды!
Ксиобо угрюмо обшаривал дом. Скотник Андрей был послан на поиски. Но едва он подошёл к лесу, как голые близнецы вышли ему навстречу. В руках они несли добычу – тетёрку, двух соек и белку. За спиной у Хррато висел его лук. Завидя детей, Лена хотела было разразиться бранной матерной тирадой, но вид этих необычных приблуд остановил её. Освещённые солнечными лучами, они шли к дому. Их стройные фигуры из-за белой шерсти были словно облиты золотом.
– Что ж это вы… – начала Лена, но затрясла головой от злобного восхищения, – за… за переуебаны такие?! Золотые? Шерстяные? Невъебенные?!
Близнецы подошли к ней со своей добычей. И молча встали, вперившись в Лену своими сапфировыми глазами. Она тоже уставилась на них, словно увидела впервые. Сзади к ней подошёл Ксиобо.
Дети бросили добычу на землю. И вдруг начали танцевать вокруг убитых ими животных. Движения их были то плавными, то резкими, порывистыми. Они кружили, извивались, наклоняясь над убитыми и распрямляясь. Танец был настолько необычен, что Лена, Ксиобо и стоящий рядом Андрей замерли, заворажённые им. Голые, золотистые от солнца детские фигуры совершали свой танец.
И вдруг резко прекратили. И молча пошли к дому, оставив на земле трофеи. Зрители стояли в оцепенении. Лена очнулась первой. Выдохнула задержанный в лёгких воздух и указала Андрею на дичь:
– Прибери.
Дома близнецы повесили лук на гвоздь, надели свою новую одежду и снова сели к блюду с умным молоком, погрузили в него руки. Опекуны вернулись и нашли детей в их комнате.
Лена хлопнула в ладоши. Близнецы уставились на неё.
– Вы… не должны уходить без спроса, – сказала им Лена по-китайски.
И повторила это же по-русски и по-алтайски.
Дети смотрели.
– Дорогой, скажи им громко, чтобы поняли!
Ксиобо думал. Лена думала быстрее:
– Вот что! Надо просто запирать их на ночь!
Ксиобо кивнул:
– Да
Лена присела, обняла Плабюх:
– Спасибо за дичь. А теперь – завтракать, мать вашу!
Плабюх перевела взгляд с ву на Лену.