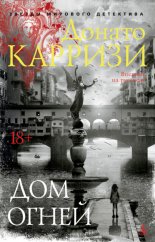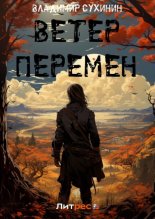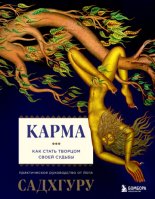Наследие Сорокин Владимир

Подпоручик одеревенел.
Аля снова воспользовалась салфеткой, отерев раскрасневшиеся губы. Встала, протиснулась между раковиной и одеревеневшим подпоручиком, открыла дверь и вышла. По коридору в другой конец вагона уходил мужчина. Аля вышла в тамбур. Подпоручик, застёгиваясь на ходу, поспешил за ней. Обогнал, схватив ручищами за плечи, приостанавливая, и затопал по винтовой наверх:
– Следуйте за мной!
Аля поднялась по лестнице.
Второй, милитари-этаж транссибирского экспресса № 4 занимал пространство над двумя вагонами первого и второго классов. В пространстве над первым классом располагались башня с двумя двадцатимиллиметровыми пушками и два пулемёта. Башней в данный момент управлял сержант Тлытин, пулемётами – ефрейтор Пак, однофамилец начальника поезда. Они сидели в своих кабинах, оборудованных необходимыми приборами наблюдения, ведения огня, и несли вахту. Над вторым классом располагалась казарма охраны поезда и сменщиков Глытина и Пака. Офицерский отсек был обустроен между боевой частью и казарменной. Подпоручик провёл Алю сюда. В отсеке на двух диванах сидели капитан Пак и старшина Миллер. Между ними на столе лежал лист умной бумаги, с висящей над ней голограммой четвёртой версии “Robbers”, в которую на деньги играли Пак, Миллер и подпоручик. Здесь же на столе стояли три пустые четвертинки водки “Ушкуйникъ” и полбутылки японской шо-джу, рисовая посуда с закусками и нарезанными фруктами. Приглушённо звучал русскоязычный шансон. На краю стола лежала ЖЖ[16]. ЖЖ была белая, гладкая, размером чуть больше среднего. Её устало сёк прутом рядовой Авдеенко. ЖЖ периодически смешно выпускала газы, пахнущие розовым маслом. Видно было, что Авдеенко делает это уже давно и порядком устал. Свою правую руку он поддерживал левой.
Пак был пьян, Миллер – выпивши. Из их расстёгнутых кителей выглядывало телесного цвета исподнее.
– Господин капитан, вот эта леди! – отрапортовал подпоручик, подводя Алю к столу. – Брат у неё запропал.
Пак сфокусировал на Але осовелый взгляд бесцветных глаз:
– А!
Аля кивнула ему.
– Без тебя, Иван, у меня попёрло, ёпт! – рассмеялся старшина, привычно дёргая себя за обвислый, замаслившийся от еды ус. – Семнадцать юаней хапнул.
– Умным везёт или дуракам? – проговорил Пак, глядя на Алю. – Как вы думаете?
– Добырым, – ответила Аля.
– Добрым? – пьяно усмехнулся Пак. – А я думал – злым! А, Иван?
– Злым, господин капитан, на войне больше везёт, это точно, – ответил подпоручик, усаживаясь на диван рядом со старшиной. – У нас в батальоне был один прапор, раненых казахов своим катана добивал всегда. В шею косым ударом. А каждому пленному харкал в левый глаз. Говорил: чтоб всегда мазал. Говорят, и ещё двух пленных зарезал. И ни одной царапины, вернулся в свою деревню.
– А комбат как на это смотрел… конвенция… закон… а? – Пак повернул к нему бледное, неподвижное, блестящее от испарины лицо.
– Смотрел сквозь пальцы, господин капитан, – чётко ответил подпоручик, залезая рукой в голограмму.
– Ну… это… преступление… – недовольно покачал головой Пак.
– Они тоже преступали, – вставил старшина. – Я ж про племяша вам рассказывал.
– Да, – вспомнил Пак. – Рассказывал. Племяш. Но это… совсем не… это… а вот раненых добивать… это как-то… не по-христиански…
Он потряс головой и уставился на Алю:
– Ты… то есть вы чего хотите?
– Голва, – произнесла Аля.
– Да, с головой леди хочет потолковать, – кивнул подпоручик, набирая голографические фишки. – Брат пропал.
– Двадцать юаней, – пробормотал Пак.
И со вздохом взял свой стаканчик с шоджу. Аля вынула из кармана бумажку в пятьдесят юаней и положила на стол. ЖЖ три раза подряд выпустила газы. Авдеенко перестал её сечь, морщась и поддерживая правую руку.
– Секи! – приказал Пак.
– Господин капитан, рука отваливается.
– Левой секи! Или на гауптвахту. Альтернатива, да? Провинность серьёзная у тебя, рядовой.
Авдеенко взял прут в левую руку и принялся неловко сечь ЖЖ.
– Господин капитан, разрешите отлучиться в туалет! – высунулся из кабины пушки сержант Тлытин. – Сменщик – ефрейтор Карась.
– Разрешаю!
Пак глянул под стол, пошарил и достал красный плоский кейс. Поставил на стол.
– Авдеенко, отставить, – приказал он. – Ушёл с жопой.
Облегчённо вздохнув, Авдеенко подхватил ЖЖ и удалился в солдатский отсек.
Капитан Пак открыл кейс. Внутри была плоская чёрная поверхность. Он приложил свою правую ладонь к ней. Прозвучал сигнал. Пак убрал ладонь. Над поверхностью возникла голограмма человеческой головы.
– Заткните ушки, мадмуазель, – приказал Пак Але.
Она заткнула уши пальцами. Пак произнёс код допуска.
– Код принят, – ответила голова.
– Спрашивай! – Пак кивнул в сторону головы.
Аля вынула пальцы из ушей и, не задумываясь, быстро и старательно проговорила по буквам:
– Пехтерев Олег Платонович, GCI 397255» DONNO 130.
– Поиск пошёл, – бесстрастно ответила голова.
Прошло полминуты. Над головой возникла карта. На карте – красная пульсирующая точка. И координаты её. Голова озвучила координаты.
– Оле! – закричала Аля так, что подпоручик вздрогнул, а Пак рассмеялся.
Голова проложила путь по карте до красной точки.
– До вашего брата сейчас сто двадцать два километра, – прищурился Пак. – Жив! А?
– Оле! Оле! Оле! – повторяла Аля, прыгая на месте.
– Нашёлся! – усмехнулся старшина. – Радость, ёпт…
– По ходу поезда, а?! Вообще! – рассмеялся подпоручик. – Вы в Бога верите?
– Оле! Оле!
– Повезло девушке, ёпт. На правильный поезд села!
– Да, справа, по ходу. Но он… это… – Пак раздвинул карту движением двух пальцев. – Не в населённом пункте… это лес. Чего он ночью зимой в лесу торчит?
– Оле, Оле! – повторяла Аля, не отрываясь от пульсирующей точки и зажимая себе рот.
– Охотится? – спросил подпоручик.
– Ночью?
– А чё, с тепловизором, на оленей…
– Или по кабану.
– Браконьер, ёпт. Может, в бегах?
– Сейчас народ деревенский голодает.
– Мясо, ёпт…
– Оле! Оле!
– В общем, вам надо доехать до Хора, сойти и вооот сюда переть. Восемнадцать километров лесом, северо-восток.
– А когыда Хор?
Подпоручик глянул на расписание:
– Утром, в 9:27.
– Оле! – Она качала головой.
– Информация закрытая, скинуть нельзя, ебёныть… – Пак взял салфетку, написал на ней координаты, название станции и стрелкой – направление. – Вот.
Он отдал салфетку Але.
И закрыл кейс. Голова пропала.
– Хор, Хор, Хор, – повторила Аля, приложила салфетку к губам и поцеловала.
– И это… сдачу возьмите. – Пак отсчитал ей тридцать юаней.
– Сыпасб!
– Обращайтесь! – рассмеялся Пак, слизывая языком пот с верхней губы.
И глянул в другую голограмму:
– Так, играем.
Спустившись вниз, Аля спрятала салфетку в карман халата, прошла по коридору и постучала в дверь купе № 7. Ей открыла Тьян. В купе горел синий ночник.
– Мне надо сыпать до девять нол-нол, – сообщила ей Аля.
Тьян молча указала ей на постель и легла на другую. Не снимая халата, Аля легла, накрылась одеялом.
Тьян выключила ночник.
– Оле… – прошептала Аля, нащупывая салфетку в кармане.
Экспресс быстро шёл.
Стучали колеса: ту-дум, ту-дум, ту-дум.
Аля закрыла глаза и тут же заснула.
Ей приснилось, что она проехала Хор. И вышла в каком-то китайском неизвестном городе, где совсем нет людей. Аля идёт по главной улице города, она пуста, двух- и трёхэтажные дома стоят с пустыми тёмными окнами. Она понимает, что это город, покинутый людьми. И с каждым шагом начинает догадываться, почему люди покинули город. Они испугались. И Аля понимает, что люди испугались её матери. А мама здесь, в этом пустом городе, из которого сбежали эти глупые, пугливые люди! Глупые люди испугались большую маму. Просто они никогда не видали больших людей. А мама ведь такая добрая, как можно её бояться?! От радости, что она сейчас увидит маму, которая – жива, жива, – сердце Али начинает сильно биться, она бежит по пустой улице дальше, дальше, дальше – туда, где мама. Мама там, где их огромный, деревянный, резной, бесконечно родной дом с петушком на крыше. Деревянный петушок, вечный дружок! Аля бежит. Дома не кончаются, мамин терем не виднеется среди них, не торчит, но почему?! Он же выше их всех, он такой большой, необъятный, с десятками резных башенок, светёлок, окошек, наличников, а эти дома – убожество по сравнению с ним, родным красавцем. Аля бежит, бежит. И вдруг – проём справа, как бы нет одного дома в улице, а вместо дома этого… совсем маленький терем. Мамин терем! Наш терем! Родной! Высотой с Алю. Подбежала. Терем! Башенки, светёлки, наличники – всё, всё на месте. И петушок, петушок на крыше! Аля трогает петушка. Он – как ёлочная игрушка. А теремок сам – как ёлочка рождественская. Вдруг петушок больно клюёт её в палец. Аля вскрикивает. Петушок косится насмешливо. Он живой, настоящий. И произносит голосом петушиным: “Мама дома!” Мама дома! Сердце Али готово из груди выпрыгнуть. Мама дома! Она не умерла от ран! Она жива! Аля приседает, чтобы открыть дверь входную и войти в дом. Но как войти?! Он же такой маленький. Надо как-то протиснуться, влезть. Как-то изловчиться! Она ложится на тротуар, стучит в дверь согнутым пальцем. О, эта дверь! Она всегда казалась воротами из сказок, была такой огромной, с коваными накладками в виде листьев виноградных и гроздьев. Аля стучит, стучит. Неужели терем пуст? Нет!! Внутри знакомый голос: “Иду, иду!” Егорушка!
Слуга наш! Помощник! Аля дрожит от нетерпения: “Егорушк, отвор!” Дверь отворяется. Со знакомым, знакомым скрипом, знакомым!! На пороге стоит крошечный Егорушка, тот самый, в красном кафтане. Он – с ладонь Али, маленький, со своим вечно чем-то озабоченным и слегка улыбающимся лицом. “Егорушк! Где мамо?” – “Дома Матрёна Саввишна, дома”. Он отступает, освобождая проход и чуть наклоняя свою крошечную, гладко подстриженную голову: “Прошу, барышня”. Аля должна войти. Но как?! Она прижимает лицо к дверному проёму. Из него так знакомо и остро пахнет их прихожей! Прихожая! Аля втискивает, втискивает лицо своё в проём, втискивает до боли. И жадно видит: прихожая! Ковёр на полу каменном, деревянные колонны, мишка, мишка! Медведь у вешалки, чучело медведя с серебряным подносом! Мишка зубастый, когтистый, которому Аля маленькая была по колено, потом – по пояс, потом – по грудь. Мишка! Рядом – скамья широкая, на которую Аля садилась зимой и Егорушка ей надевал и зашнуровывал белые ботинки с коньками, а потом за руку выводил из дома к Оби замёрзшей, огромной, бесконечной, и Аля ехала по льду и смотрела под лёд, чтобы увидеть рыбу. Над лавкой под потолком – люстра деревянная, с лампочками-свечами. Она тоже крошечная, тоже как игрушка на ёлку. Справа – два кресла кожаных и диван, протёртый, старый диван, летом, в жару всегда такой прохладный, на него так было приятно кинуться после прогулки по полям, броситься с букетиком цветов полевых и просто посидеть на прохладной коже, пахнущей аптекой, посидеть, посидеть, цветы в полумраке перебирая и ногами болтая, чтобы через минуту вскочить и побежать наверх по громадной лестнице, наверх, к маме, чтобы показать ей букетик, а мама – где? – мама в гостиной, в столовой или у себя в спальне? Бежать, бежать по комнатам громадным с букетиком в руке, бежать, искать маму, искать, её нет в гостиной, нет в столовой, где стоит её стул гигантский и два стульчика высоких, но маленьких – стульчик Али и стульчик Оле, который сейчас на дальнем газоне играет в лапту с Сёмкой, Родькой, Фомкой, Романом, Серёжкой Ли и Витькой Горбачёвым, но мамы нет в столовой, надо дальше бежать, бежать, вот её спальня, надо налечь на дверь-ворота, чтобы она поехала в сторону без скрипа, на петлях хорошо смазанных, лёгких, чтобы Аля и Оле всегда могли отворять, дверь огромная, высоченная, по маминому росту – отходит вправо плавно, плавно, и спальня, спальня мамина открывается, её кровать, кровать как скирда сена, на ней так приятно попрыгать, подушки огромные, белые, расшитые, и мама сидит в ночной рубашке у трюмо перед зеркалом тройным и чешет свои волосы роскошные, волосы как река Обь, мама чешет эту реку волос костяным гребнем, который как грабли крестьянские из деревни, и надо теперь тихо подкрасться к маме, которая делает вид, что не заметила, как Аля в спальню вошла, подкрасться, подкрасться и, дотянувшись до маминой руки, пощекотать букетом её круглый розовый локоть. “Ой!” – мама вскрикивает пугливо-притворно. И – сразу же надо юркнуть под мамино кресло. И лечь на спину. А мама наверху – станет оглядываться по сторонам: “Кто же это?!” И надо, чуть полежав на паркете прохладном, вылезти спереди кресла. И мама снова вскрикнет: “Ой! Это что за мышка ко мне прибежала?” И мамины руки большие, сильные берут, поднимают, сажают на колено прохладное. “Где была мышка-полёвка?” – “В поля!” – “Что собрала мышка?” – “Букето!” – “Что в этом букете?” – “Колокольчико, иван-чае, ромашк, душиц, василько, клевере, одуванчи, аистника!” Мама улыбается. Лицо её приближается, доброе лицо, оно такое огромное. Мама целует Алю в щёку своими большими губами, которые всегда пахнут мамой. “Егорушк! Егорушк!! Егорушк!!!” – “Я тут, барышня”. – “Дай мене войти!” – “Да входите, ведь отворено”. – “Как мене войти? Дай мене войти!!” – “Да входите, барышня, входите”. – “Я говорю: дай войти!!!” – “Да что вы, барышня, входите, входите, я ж отворил”. – “Ну, пожалуйст, дай мене войти!” – “Входите, барышня”. – “Егора! Объясни, как я мога войти в дом, помогай мене!” – “Барышня, входите, вот сюда ступайте”. – “Помогай мене войти, я хоч войти, ты понимай?!” – “Да вот же, входите, Господи Боже мой…” – “Дай мене войти! Я платить, у меня есть тридцать юане!” – “Да что вы, барышня, о чём вы? Это ж ваш дом! Вот же дверь открыта”. – “Я больш тебе платить, я работаю, я тебе вещь отдам, катер наш отдам тебе, твой буде катер навсегдо!” – “Барышня, зачем вы меня унижаете? Дверь же открыта, ну что вы?” – “Егоро, дай войти! Дай войти, мудак!!!” – “Господи, да входите уж, барышня, я ж говорю – входите, входите, входите!” – “Дай войти, сволоче проклята!!!” – “Входите, входите, барышня”. – “Дай мене войти!!!!” Аля открыла глаза. Они были полны слёз.
Она всхлипнула и посмотрела на мир окружающий сквозь слёзы. Над ней в полутьме серел потолок купе. Поезд шёл медленно. Покачивало слегка. Аля вытерла слёзы. И увидела свой покалеченный палец. И слёзы снова пришли. Она плакала в полумраке, плакала, чуть всхлипывая. На соседней кровати заворочалась Тьян. Аля вытерла слёзы. И глубоко вздохнула. Повернула голову и глянула на полузашторенное окно. За окном купе брезжил рассвет.
Часть II
Партизанский отряд “УЁ”
К солнца восходу в долину съехали.
И, несмотря на ещё срединный морозный февраль, с восточных сопок проплешеватых – весной потянуло: задул ветер бора с океана, пришёл на смену северной сарме.
Свежий ветер.
Влажный.
И сразу:
– Стой!! Сле-зай!! Рас-пределись!!
Голос комотряда всегда до каждого доходит. До всех ста двадцати девяти. Пронзительный. Свербящий. Сверлит воздух морозный над твёрдым белым настом красным сверлом.
– Тройки!! Нож!! Мётлы!! Зарядный!!
Зашевелились все, с саней сваливаясь. Ко-мотр и комиссар, как всегда, на своих санях, гнедой широкогрудой парой запряжённых. Комиссар спешился, комотр встал на санях в небольшой рост свой, от крика выгибаясь привычно:
– Лопаты!! Нож!! Плетухи!! Розенберг, головой отвечаешь!!
– Есть, товарищ комотр!
– Молотилин, Рябчик – нож!!
– Есть, нож!
И сильней изогнувшись, на ручные часы глянув:
– Время пошло!!!
И, словно в напоминанье, – первый луч солнца сверкнул на рельсах.
Полотно железной дороги вытянулось в долине между западными и восточными сопками. Западные густы лесом, восточные – лысоваты, редколесны: забористый ветер с океана достаёт.
Отряд сыпанул по насту к железке. Лопаты в снег врезались, плетухи наполнялись, нож молотилинская тройка потянула, снег им загребая.
Пыль снежная на солнце золотом вспыхнула.
Стали полотно засыпать.
– Ровней!! Без комков!! Глаже!! Родней!!
Комотр командовал.
Комиссар, тучный, рослый, кадило запалённое из ящика вытянул, захрустел унтами к полотну железки.
Солнечные рельсы стали снегом заваливать. Ровняли лопатами, оглаживали метлами, чтобы родней лежало. Как бы – ветром нанесло.
Комиссар вдоль полотна пошёл, кадилом отмахивая:
– Одоление супостатов, супротивных правде, силе и воле Божьей, победу над врагами пошли нам всем, Господи!
За ним следы мётлами заметали, чтобы чисто было.
А солнышко февральское поднималось, сопки плешивые золотя.
С железкой покончив, развернули-поставили танковые сани, посрубали ёлочки, замаскировали. На мощных санях, шестёркой лошадей тащимых, – китайского танка белая башня. Ёлочки скрыли быстро, только дуло ротово высунулось. 150 мм.
– Заряд!!
Подвёз на маленьких саночках старик Басанец ящик с шестью снарядами – всё, что осталось.
Танкисты – Моняй и Паниток – пушку синим бронебойным зарядили.
Наводчики – Шуха и Прьпун – к приборам приникли.
– Маскировка!!!
Отряд в снег зарылся. Опыт есть. Лошадей с санями – в ельник.
– Тишина!!!
Всё смолкло в долине. Зимние птицы перекликнулись робко.
Прошло время.
Ещё прошло время.
И ещё прошло время.
И запыхтел чёрным дымом паровоз. Слева.
С востока. По солнечным лучам:
пых!пых!пых!
И тормозить стал сразу: занос.
– С нами Бог! – Комиссар перекрестился, под снегом ворочаясь.
Поезд встал.
– Пли!!!
Выстрел. Точно! Опытные Шуха с Прыгуном – на высоте. Разнесло боевой второй этаж поезда. Башня с пушками прочь отлетела. И сразу —
Второй выстрел: в казарму.
Взрыв.
Точно!
Комотр подосиновиком из снега полез:
– Вперёд, герои УЁ!!!
Комиссар с телом грузным – боровиком:
– С нами Бог, братья!!
Отряд восстал из белого, воздух пылью снежной золотя. И с рёвом – к поезду.
Долго добивать охрану покалеченную не пришлось. Этих и в плен не берут.
И вскоре —
комотр с комиссаром шли делово вдоль цепи партизанской, поезд на мушках держащей.
Партизанский отряд “Уссурийские ёбари” лейтенант-морпех ДР Иван Налимов слепил ещё во время войны из дезертиров, на газе сидящих. Комиссар Богдан Оглоблин, расстриженный за “злостное и рецидивное мужеложество” настоятель церкви Николая Чудотворца в селе Чугуевке, прибился к отряду сразу после Иссык-Кульского мирного договора, положившего Трёхлетней войне конец. Налимов невысокий, худосочный, с редкой бородкой. Оглоблин – человек-гора, широкий, пузатый, борода густая на груди караваем лежит.
Отряд по сопкам обретался, грабя и ебя всех встречных и поперечных. Некоторые из них прибивались к отряду. Проводились также налёты на деревни и поезда, вылазки ночные в города за газом.
Пассажиров всех из вагонов повывели. Ставили – лицом к поезду, руки на вагон.
Подлетели с визгом Полозовым командирские розвальни. Комотр взошёл на них, руки вдоль лядащего тела вытянув:
– Товарищи партизаны!!
Замерли все сто двадцать девять с оружием в руках.
– С победой вас!!! Ура!!!
– Ура-а-а-а-а!!!
Понеслось по долине, от сопок отражаясь. Комиссар богатырский, тучный рядом с санями, да и так выше комотра:
– Братия во Христе, православные партизаны! Даровал Господь нам победу снова, ибо правильным путём следуем, на добро опираемся, мировому злу противостоим! С нами Бог!!
– С нами Бог!!!
Командир воздуха морозного в грудь тщедушную набрал:
– Мас-ки!!!
Зашевелилась цепь: оружие – за спину, маски – с пояса.
Надели маски партизаны.
– Засос!!!
Сокровенное, предвкусительное: звук всосанного газа.
Раз!
Два!
Три!
Только три.
За четвёртый всос – изгнание из отряда. Газ – главное УЁ-сокровище. Дорогое во всех смыслах.
– Разде-вай!!!
Сто двадцать девять пар рук в пассажиров вцепились: порты вниз, юбки кверху.
Кто запротивился – тах! тах! тах! – в упор, на месте.
Разговор крутой: три трупа – сразу в отвал.
Остальные – стоят, об поезд оперевшись.
Вскрики – возгласы:
– Ребяты, я беременна!
– Не помеха!
– Я граф Сугробов!
– Это хор-р-рошо!
– Она девочка!
– Детей не ебём! В обоз!
– Не надо, парни!
– Надо, дядя!
– Парни, а вы… в писю?
– Нет, красавица! Повыше!
– Я умру!!
– Хоронить не будем!
– Я денег дам!
– Не в деньгах счастье!
– У меня там рана!
– Затянется!
– Товарищи, я машинист!
– А я часовщик!
– Вы убийцы!!
– Мы, тётя, ёбари!
Адския-я-я-я-я-я!!! Уссурийския!!
Началось.
Сладкий миг, ради которого вся работа боевая, вся жизнь лесная, вся скрытность партизанская, ночные переходы, страдания, холод, мошка, вши, жертвы, раны да лишения.
Парторяд ебёт пассажиров.