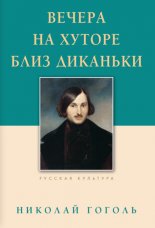Мой чужой дом Кларк Люси

Глава 17
Эль
Пишите. Даже если кажется, что исчерпали себя до дна. Не останавливайтесь. Доведите себя и свою историю до предела возможностей. Лишь тогда повествование оживет и заиграет красками.
Писательница Эль Филдинг
Время то тянется, то летит, неделя проходит как в тумане: то бессонница, то муки творчества. День неотличим от ночи – все слилось, все смешалось.
Пальцы выжидательно зависают над клавиатурой. Я зажмуриваюсь, чтобы ни монитор, ни серебряное мерцание моря меня не отвлекали. Нужные слова где-то рядом. Вот только что вертелись в голове, секунду назад.
Вспомнить бы, какие слова…
Слегка приоткрыв глаза, перечитываю на экране половину предложения в надежде, что мысль вернется. Увы! Растаяла как дым.
Со скрежетом отодвигаю стул и выбираюсь из-за стола.
Запрокинув голову, я издаю низкий разочарованный горловой рык. Весь день просидела за ноутбуком. Текст не ложится, не собирается воедино. Будто каждое слово, каждое предложение надо уговаривать, задабривать и умасливать, заманивая на страницу.
Пока у меня пятьдесят тысяч слов – половина романа. Приближение срока сдачи ощущается почти физически: точно стоишь по пояс в прибывающей воде, а она поднимается выше и выше, еще чуть-чуть – и дышать будет нечем.
Я подхожу к стеклянной стене и открываю форточку. В кабинет врывается холодный соленый ветер, по коже бегут мурашки, но даже свежий морской воздух не в силах разогнать туман в моей голове.
Проклятая бессонница! За время жутких ночных бдений я прочла уйму неутешительных статей о том, как разрушительно она влияет на умственные способности. Для консолидации памяти требуется хороший ночной сон, а без консолидации ничего не вспомнишь. Вот-вот у меня снизится скорость реакции, замедлятся движения, жизненные процессы, повысится тревожность – и здравствуй, депрессия. Да, мне все это известно, но что я могу сделать?
Я хочу спать, безумно хочу спать.
Чтобы писать, чтобы довести роман до конца, надо хорошо высыпаться.
А может, это очередное оправдание? Проблемы с ремонтом дома. Разъезды на презентацию книги. Развод. Бессонница.
Может, дело не в них, а во мне?
Работая над первой книгой, я умудрялась выкраивать время на бегу: писала в обеденный перерыв в машине, уложив блокнот на руль; в не очень загруженные смены сочиняла диалоги героев в уме; даже по ночам, когда уличный шум не давал уснуть, в голове роились тысячи идей. Не было ни контрактов с издательством, ни сроков сдачи, никто от меня ничего не ждал, в том числе повторения успеха. Я писала для себя, а потому чувствовала свободу.
Но с этой книгой все совершенно по-иному.
Кстати, что у меня с едой? Надо бы перекусить. Как любила повторять мама: «Заправленный желудок – заправленный мозг».
Порывшись в морозилке, я достаю пакет с морепродуктами, однако его вид не вызывает во мне ни малейшего энтузиазма. Теперь, когда требуется готовить только для себя, я халтурю. В результате щеки запали, ключицы торчат. Знаю, сама виновата.
Несмотря на отсутствие аппетита, я все-таки обжариваю лук-шалот, чеснок, перемешиваю их с морепродуктами, затем добавляю щедрую порцию вина и немного сливок. Как же мне нравилось готовить вместе с Флинном! Как весело мы топтались на крошечной кухне съемной квартиры! Вытяжки там не было, и окна быстро запотевали, поэтому Флинн при готовке раздевался до трусов.
Я невольно улыбаюсь воспоминаниям.
Руки сами тянутся к телефону. Набираю номер Флинна. После смерти его матери мы общались дважды, оба раза коротко – этакий неловкий обмен дежурными фразами. Разговоры по телефону всегда нам не очень давались: Флинн замкнут и немногословен, а я предпочитаю видеть выражение лица собеседника, чтобы улавливать тонкости и нюансы общения. Телефонные звонки не способны передать чувства собеседника в полной мере.
Меня сразу направляют на голосовую почту. Оставляю краткое сообщение – что думаю о нем и, если надо, приеду завтра на похороны пораньше. От перспективы провести очередной день вдали от письменного стола меня охватывает легкая паника, но я ее отгоняю.
Я еще раз перемешиваю морепродукты с вином и луком и, убавив огонь, устраиваюсь на высоком табурете.
Приходит сообщение от Фионы с вопросом о работе над книгой и приближающемся сроке сдачи. Интересно, Билл рассказал ей, что видел меня на прошлой неделе спящей в машине? Быстро отправив ответ, я прокручиваю отзывы к последней фотографии, загруженной на страницу в «Фейсбуке» сегодня утром: блокнот на песке и фоном – сверкающее в первых лучах солнца море. Больше двух тысяч лайков и шестьдесят три комментария.
СДжБернс81: Ух ты! Красивый пляж!
ДоннаГ: Жду не дождусь новую книгу.
Книгочей101: Любимый автор на любимом пляже.
Я зависаю. Перечитываю последний комментарий еще раз.
Любимый автор на любимом пляже.
Мне становится не по себе.
Вечерние сумерки за кухонным окном гасят последний проблеск света.
Выходит, Книгочею101 знаком этот пляж…
На моей страничке бесчисленное количество снимков из окон дома. Если Книгочей101 знает нашу бухту, тогда ей – или ему – известно, где я живу.
Я беспокойно тру губы костяшками пальцев. Надо же быть такой идиоткой!
Под новости по радио, донельзя расстроенная, я вяло ковыряю пасту с морепродуктами.
Меня хватает лишь на несколько кусочков, остальное отправляется в мусорное ведро. На выходе из кухни я задерживаюсь, заинтересовавшись ответами группы студентов, которых в радиопередаче расспрашивают о предполагаемом повышении оплаты за учебу и ценности университетского образования как инвестиции. Исполненные юношеского задора, голоса звучат весело, оживленно.
«Просто надо все взвесить. Определить, что для тебя важно. Я вот обожаю универ! Диплом – только один из бонусов».
Вспоминаю себя в этом возрасте: волосы до талии, пухлые губы, свежая гладкая кожа, жизнь еще ничем не омрачена и играет всеми красками… Что сказала бы я, будучи первокурсницей?
Вопрос крутится у меня в голове, пока я поднимаюсь по ступеням в кабинет.
На лестничной площадке краем глаза замечаю за окном движение вдалеке. Останавливаюсь. В чем дело? Я топчусь на месте, пытаясь разглядеть в ночной черноте хоть что-то. Лиса? Или чайка?
Уже собираюсь уйти, но внезапно вижу у обочины дороги темный силуэт. Как будто кто-то сидит на корточках.
Я боюсь шелохнуться, пульс чаще и чаще.
Там. Человек. Встает. Торопливо идет вдоль дорожки. Высокий, широкоплечий. Несомненно, мужчина.
В ушах гулко шумит кровь. Пару недель назад неизвестный с биноклем разглядывал с пляжа мой дом…
За мной следят?
«Любимый автор на любимом пляже».
Ноги будто вросли в пол, даже дышать забыла – все внимание на удаляющейся мужской фигуре. Неизвестный облачен в зимнюю куртку, голова скрыта капюшоном, на воротнике мерцает светоотражающая полоса.
Остановился.
Оглядывается на дом, всматриваясь в темноту, словно в окне видит меня, потом отворачивается и легкой рысцой бежит по дорожке прочь. Напоследок я успеваю рассмотреть профиль. Вот так сюрприз! Если не ошибаюсь, это Билл…
Меня бросает в жар, голова идет кругом. Зачем Биллу вертеться под окнами моего дома? Он просто постучал бы в дверь, верно?
Я морщу лоб, пытаясь упорядочить хаотичные мысли: слишком много ошибок я наделала за последнее время… Господи, Билл! Нет, не может быть. С какой стати ему здесь прятаться?
И все-таки меня гложет червячок сомнений: это ведь Билл предложил сдать дом в аренду.
И что из того?
А ничего.
«Если надумаешь еще раз его сдавать, хоть подмигни. Я бы не отказался сбежать на пару дней из нашего сумасшедшего дома…»
Ерунда, обычная шутка.
Но я уже взяла телефон и набираю номер Фионы. Дрейку как раз пора в постельку, так что Билл, скорее всего, дома – купает ребенка или рассказывает ему сказки. Быстренько позвоню и успокоюсь.
В трубке гудки, отвечать мне не торопятся.
– Не могу говорить! – наконец раздается запыхавшийся голос Фионы. – Тут дурдом! Дрейк покакал прямо в ванне! Пытаюсь сейчас все это выловить игрушечным корабликом.
Меня разбирает смех. Не сдержалась. Я и забыла, как чудесно смеяться от души!
– Рада, что повеселила тебя, – фыркает сестра. – А у меня, похоже, навсегда пропала охота валяться в ванне с пеной.
– И где сейчас монстрик-какуля? Слушает папины сказки? – Вопрос такой простой и непринужденный, словно я его и не задавала.
– Слушал бы, сиди папа дома! Но у Билла с обеда такое поганое настроение, что я отправила его за бутылочкой вина. А он как сквозь землю провалился. Видимо, поехал за виноградом во Францию. Единственный час за день, когда я могла бы…
С другого конца провода доносится приглушенный стук, а затем радостный визг.
– Надо идти, – со вздохом говорит Фиона.
Телефон гаснет, отключая шум и пульс чужого дома.
В полной тишине я смотрю на пустую темную аллею.
В кабинете за письменным столом мои мысли опять возвращаются к Биллу.
Неужели я видела его?
Все попытки сосредоточиться на рукописи и погрузиться в историю тщетны.
Я потягиваюсь, выгибая спину, чтобы немного расслабить мышцы. Противно ноет левое запястье – вот что значит легкомысленное отношение к травме повторяющихся нагрузок. Лицо горит, крутит желудок… Словом, мне нехорошо.
Отпиваю воду – и в тот же миг, обхватив себя руками, складываюсь пополам от волны спазмов в животе. Через пару минут меня отпускает, но внутри по-прежнему бурлит. Наверное, на нервной почве. Я делаю несколько долгих глубоких вдохов. Если не расслабиться, ничего не напишешь.
Надо включить подборку, которую я загрузила, чтобы лучше представить протагониста – осанку, тембр голоса. С закрытыми глазами, растворяясь в музыке, я мысленно рисую героиню – молодую женщину в свободном хлопковом платье.
Я принимаюсь расхаживать по комнате, как это делала бы она: прямая спина, плавная походка, чуть прищуренный взгляд. Надо ощутить ее всем телом, чтобы перенести образ на страницы.
Я склоняюсь над ноутбуком перечитать на мониторе текст.
– Ни за что не поверю! – громко произношу я, пробуя голос героини, а потом еще несколько раз повторяю фразу уже с закрытыми глазами.
Что героиня скажет дальше? Пока я шевелю губами, прислушиваясь к словам, желудок скручивает новая волна спазмов. Чтобы не упасть, хватаюсь за спинку стула и зажимаю рот ладонью. Меня тошнит!
Боже, кажется, я заболеваю… Срочно в ванную! Я бросаюсь к двери.
Меня качает, пальцы крепко, до побеления, цепляются за холодную керамическую раковину. Содержимое желудка подкатывает к горлу и выплескивается наружу…
Виновата, скорее всего, паста с морепродуктами. Черт знает, сколько она пролежала в морозилке. А может быть, недоразморожена…
Новый приступ выбивает из головы бесполезные размышления: есть только раковина, в которую упираются руки, согнутая спина и сокращения мышц живота.
Задыхающаяся, опустошенная, я из последних сил держусь за фаянс. Волосы растрепаны, прядь испачкана рвотой. В зеркало смотреть страшно: лицо бледное, глаза воспаленные, губы в пятнах, лоб блестит от пота.
Я открываю холодную воду и, наклонившись к ледяной струе, делаю маленький глоток. Живот скручивается в узел, меня снова тошнит, на шее напрягаются вены.
Приступы рвоты следуют один за другим, желудок спешит изгнать из себя все до последней капли. Надвигающийся срок сдачи книги и прочие заботы отошли на второй план. Главное для меня сейчас – дышать и не делать лишних движений, чтобы не усугубить и без того плачевное состояние узла, сокращающегося в сердцевине тела.
Я опускаюсь на холодный плиточный пол, подкладываю под голову коврик и, прижав к груди колени, поворачиваюсь на бок. Одна. Абсолютно одна…
Свет тускнеет. Я то проваливаюсь в сон, то просыпаюсь. Где сны, где мысли – не различить, перед глазами проплывает череда тревожных видений. Теплые руки матери касаются моих щек, я поднимаю взгляд и вижу красное пятно на нагрудном кармане ее блузки: ручка протекла, но кажется, будто кровоточит сердце. Следом в сон врывается Флинн в черном костюме с мертвыми невидящими глазами. Я кричу, зову его по имени, но он меня не слышит. У моих ног россыпь пустых страниц, вырванных из дневника, стопки разбросанной бумаги вздымаются вокруг словно волны. В окно, прильнув лицом к стеклу, заглядывает поклонник моего творчества, а в его сложенных ладонях, точно в клетке, трепещет крыльями мотылек.
Просыпаюсь я в густой темноте. Меня бьет озноб, дыхание мелкое, прерывистое. Где-то рядом вешалка для полотенец. Я тянусь вперед, пока кончики пальцев не касаются мягкой пушистой ткани, сдергиваю полотенце и набрасываю на себя.
Далеко внизу приглушенно хлопает дверь. Кажется, шуршат шаги. Или это ветер? Я пытаюсь разобраться в характере шума, источнике, его оттенках, но глаза сами собой смыкаются, и сон изгоняет из головы все мысли.
Последние двое суток прошли у меня большей частью в твоем кабинете – он так и манит, есть в нем что-то завораживающее.
Иногда я просто стою у стеклянной стены и смотрю на залив – вот как сейчас. Уже могу составить график приливов-отливов. Выше всего море поднимается после обеда, перед закатом. А сколько птиц на побережье! Не знаю их названий, но живи я здесь, мне бы непременно захотелось это выяснить. Из знакомых только кулики-сороки, с длинными оранжевыми клювами, в изумительных черно-белых сюртуках.
Кабинет обошелся тебе в кругленькую сумму. Я хорошо помню стоявший здесь ранее рыбацкий коттедж с ветхой трубой, пыхтящей в небо облаками темного дыма. Ты обещала сохранить старую постройку, твердила, что ремонт не нарушит общий облик, однако получив документы на право собственности, тут же сровняла коттедж с землей ради нового нарядного дома.
Теперь вижу почему…
По пляжу гуляет под руку пара – мужчина и женщина. Когда они подходят ближе, по осанкам становится понятно, что мужчина значительно моложе спутницы – та сгорблена, ступает неуверенно, медленно. Женщина смотрит на дом. Интересно, видит ли она за стеклом меня? Надеюсь, что видит. Даже хочется постучать в окно и крикнуть: «Посмотрите на меня! Смотрите, где я!»
Я ухожу вглубь комнаты, к креслу, с которого открывается прекрасный вид на море. Судя по изгибу ножек и красивой сложной резьбе, это антиквариат, только обивка новая – чудесного голубоватого оттенка, цвета утиного яйца. Однако в кресло я не сажусь, а опускаюсь на колени рядом, перед деревянным сундуком.
Дерево кое-где потрескалось, петли крышки проржавели, из задней стенки торчит кривой гвоздь, тоже ржавый. Я откидываю крышку, меня обдает слабый запах пыли и старой бумаги.
Твоя сокровищница. Здесь есть все. Заглянуть в сундук – будто тебе в сердце. Что прячется под внешней шелухой? В картонной коробке десяток дневников и журналов. Связка открыток и писем, жестяная коробка с бусинами и пуговицами, мешочек засушенных цветочных лепестков с карточкой: «Со свадебного букета», груда дисков с перечнем песен, написанных детской рукой.
Собственно, крышку можно закрыть и идти по своим делам.
Однако любопытство гонит меня вперед.
Осторожно вынимаю вещи, одну за другой, стараясь точно запомнить их расположение, чтобы сложить в том же порядке – как пазл, только наоборот.
Почерк у тебя округлый, ровный, аккуратный, словно подстриженная газонная травка. Сразу становится понятно, что дневники ты вела с двенадцати до восемнадцати лет, а затем примерно с двадцати трех, после пятилетнего перерыва.
Ни слова о твоей жизни во время учебы в университете.
Занятно…
Я уже собираюсь опустить крышку сундука, как замечаю белый конверт.
На конверте твоей рукой написана дата, больше ничего. Интересно! Конверт не запечатан. Я отгибаю клапан – и в ладонь выскальзывает тоненький, дрожащий листок. Глянцевый снимок плода. Я рассматриваю очертания головы, крошечный изгиб носа, несформировавшиеся ножки, прижатые к груди. Внизу печатный текст: «16 недель, 3 дня».
Перепроверив надписанное число, я осторожно возвращаю фотографию в конверт, укладываю его в сундук и закрываю крышку.
Глава 18
Эль
Чего в писательской жизни не бывает, так это трудностей – только материал для сюжета.
Писательница Эль Филдинг
Я приоткрываю глаза. Пол ванной озарен солнечным светом. Во рту сухо, язык распух. Едва поднимаю голову, начинают пульсировать виски.
Вода. Мне нужна вода. Кое-как встаю. Ноги дрожат и подгибаются. Пью прямо из-под крана, очень маленькими глотками – осторожничаю: желудок сейчас нежный, пустой. К счастью, вода благополучно оседает внутри.
Ноги держат уже крепче. Взбодренная холодом, я споласкиваю лицо и насухо вытираюсь полотенцем. Сколько времени? Часы показывают три. Я в полной растерянности: как три?! Неужели я проспала полдня?
Для меня это… просто неслыханно!
Однако на сердце неспокойно. Я подбираю с пола полотенце, складываю его и вешаю на вешалку.
Похороны!
Сегодня хоронят мать Флинна! Служба началась в два.
Я опять гляжу на часы, хотя и так знаю время. Поздно. Я все пропустила.
В отчаянии впиваюсь пальцами в волосы. Как я могла такое проспать?!
Может быть, успею застать Флинна на поминках – до паба, где они проходят, сорок пять минут езды. Главное – выехать прямо сейчас.
На душ времени нет. Быстро чищу зубы, натягиваю черное платье и вылетаю из дома.
Подпрыгивая и дрожа, автомобиль мчит на полной скорости по узкому, испещренному рытвинами проезду; шасси жалобно стонет, когда колесо налетает на камни. На главной дороге я вжимаю ногу в пол. Виски гудят от боли, но я стараюсь не обращать на это внимания.
Спустя сорок минут машина на парковке паба. Какое-то время я продолжаю сидеть за рулем, пытаясь прийти в себя. Совершенно не помню вторую половину пути, гнала на автопилоте. Ужас!
В горле пересохло и дерет. Где моя бутылочка воды? Шарю под ногами – пусто. Заперев автомобиль, я иду в паб. Направляюсь прямиком в банкетный зал. О том, что здесь были поминки, догадываешься только по груде грязных тарелок и паре подносов с заветрившимися бутербродами.
Я пересекаю основной зал и сворачиваю в каменный коридор, украшенный гравюрами с изображениями гончих в кепках – все в золоченых рамах. Боль переместилась от висков в затылок, поэтому ступаю осторожно, чтобы каждый шаг не отдавал в голову.
За углом лестница, ведущая в укромный зальчик в задней части паба. А вот и Флинн!
На нем темно-серый костюм, знакомый мне с похорон моей матери. Верхняя пуговица рубашки расстегнута, галстук развязан. Флинна утешает пожилая женщина – ласково сжимает ладонями его щеки словно пытаясь передать что-то необычайно важное, затем целует в лоб и шаркающей походкой уходит прочь.
При виде меня лицо Флинна ничего не выражает.
Немного сгорбленный, с опущенными уголками губ, он медленно идет мне навстречу. В стельку пьяный.
– Флинн…
– Итак… – роняет он. – Все-таки пришла.
Рея, сестра Флинна, и ее муж Иэн торопливо встают из-за столика и тоже подходят ко мне. Мы обмениваемся приветственными поцелуями.
– Рада тебя видеть! – восклицает Рея, беря меня за руки.
В последний раз мы собирались вместе два года назад на новогодние праздники, в зените нашей с Флинном супружеской жизни. Мы тогда с Реей хорошо перебрали коктейлей «Белый русский».
– Мы идем покурить, – сообщает она. – Поговорим, когда вернусь?
– Конечно, – отвечаю я. – Обязательно поговорим.
Рея переводит взгляд на Флинна, поджимает губы, коротко кивает.
Когда мы остаемся одни, Флинн тяжело опускается на деревянный стул, бережно держа в руке стакан с виски. Я придвигаю второй стул и сажусь как можно ближе, наши колени почти соприкасаются. Приводят в ужас пустота его глаз и мертвенная бледность кожи – надеюсь, выражение лица меня не выдает.
У самой видок не лучше.
– Флинн, извини, что я пропустила службу. Я очень хотела прийти, но отравилась. Несколько часов проторчала в ванной.
– То есть в кабинете?
Я вздрагиваю. Стремительность удара застает меня врасплох.
– Ты несправедлив…
Флинн приканчивает виски и небрежно ставит стакан на стол. Он сильно пьян, а под действием алкоголя все хорошее в нем отходит на второй план.
– Фиона с Биллом передают привет. Билл сказал, что, когда в следующий раз заглянет в Бристоль, с него пинта.
Губы Флинна трогает подобие улыбки.
– И все остальное тоже, – хмыкает он. – Билл годами отдает долги за свои проигрыши в сквош.
Кажется, намечается просвет – вот он, старый добрый, знакомый мне Флинн.
– Как дела у Дрейка? – интересуется Флинн, взглянув на меня.
– Дела у Дрейка отлично. В детский сад пошел. До сих пор вспоминает, как ты прокатил его на волне на бодиборде.
– Хотелось бы с ним повидаться… с ними всеми…
– Знаю…
Он глубоко вздыхает.
– Мы начали разбирать мамины вещи. Лучше сейчас, пока Рея здесь.
Да уж, не позавидуешь… Когда мать умерла, у меня сердце разрывалось при виде ее вещей. С печальной задачей быстро и ловко управилась Фиона, прикрывая глубину горя кипучей деятельностью. Уйма картонных коробок, мешки для хранения, маркеры, ворох наклеек в пластиковой папке, грузовик для крупных вещей – все организовала сестра.
Смерть матери меня оглушила. Единственное, чего мне хотелось тогда, – это запомнить, впечатать в сознание каждую находящуюся в комнате мелочь, будто так я могла собрать частицы, оставшиеся от мамы. Ее вещи символизировали нашу семейную жизнь: ожерелье, горные ботинки, кружка с ручной росписью… Хотелось подержать их в руках, окунуться в прошлое, а Фионе не терпелось закончить с упаковкой. Мы поссорились. Я в сердцах назвала ее бесчувственной. Грубые, жестокие слова… Намного позже до меня дошло, что сестре было невыносимо находиться в пустой квартире, где совсем недавно жила мама.
Вывозя мамины вещи, я забила автомобиль коробками под завязку, а потом заняла ими единственный шкаф. Флинн ни слова не сказал.
– Вчера разбирали мамин кабинет, – говорит он. – Знаешь, сколько экземпляров твоего романа там оказалось? Одиннадцать.
Я улыбаюсь.
– Это для книжного клуба. Наверное, она купила по экземпляру каждому участнику. В книжных магазинах, – продолжает Флинн, – она всегда переставляла твой роман на витрине на видное место.
Моя улыбка становится еще шире.
– Она так тобой гордилась… – Он опускает взгляд, уголки его губ ползут вниз. – Поверить не могу, что ее нет…
Я тянусь к его руке, но Флинн, подавшись назад, берется за края стула.
– Как прошла служба?
– Гимны. Чтения. – Его голос становится жестким, отрывистым, а лицо – каменным. – Воскурение фимиама вокруг гроба. Потом ее вынесли. Опустили в могилу. Подали металлический ящичек с землей, чтобы бросать на крышку гроба.
– Все так любили твою маму… Наверное, целая толпа пришла ее проводить…
Выражение его лица меняется.
– Только внуков на проводах не было, да? – глядя на меня, говорит Флинн, глаза его лихорадочно блестят.
Я вздрагиваю как от пощечины.
– А она мечтала стать бабушкой…
– Довольно, – отрезаю я. – Прошу. Не здесь. Не сегодня.
Хотя когда, если не здесь и сейчас? Алкоголь, мрачная глубина скорби, жажда мести за мое опоздание на службу – горькие мысли смешались в голове Флинна в идеальный шторм.
– Знаешь… – подаваясь вперед, начинает он. В тоне – злые нотки, на скулах играют желваки, – …я так и не рассказал маме об этом.
После того как все выяснилось, я несколько месяцев пыталась вызвать Флинна на разговор, но он затолкал убийственный факт в глухой чулан сознания, запер дверь и никого туда не пускал. Сейчас дверь готова распахнуться, однако заходить в нее меня больше не тянет.
– Я не хотел, чтобы у нее испортилось о тебе мнение. Оставил привилегию для себя, – саркастично роняет он.
– Сегодня ужасный день, – как можно спокойнее говорю я. – Тебе хочется выплеснуть на кого-то гнев, понимаю… Но, пожалуйста, умоляю, Флинн, давай не будем обсуждать прошлое сейчас.
– Ты предпочла бы подождать еще семь лет? Например, пока мы не очутимся в кабинете врача, где он вытащит все на свет божий? Было же так прикольно, Эль, просто праздник какой-то!
От воспоминаний меня бросает в дрожь.
Тогда врач, поправив очки, просмотрел записи и объявил: «На матке обнаружено утолщение, рубцово-измененная ткань. Это затрудняет имплантацию. – Он обратился ко мне: – Вы когда-нибудь делали аборт?»
По скрипу стула я поняла, что Флинн, почувствовав мое замешательство, развернулся ко мне: «Эль?»
Я не смела поднять взгляд.
«Да, – глухо ответила я, рассматривая сложенные на коленях руки. – В двадцать четыре года».
«Это был твой ребенок, Флинн. Наш ребенок».
Флинн, неловко покачнувшись, встал со стула.
«Я… Мне нужно…» – Он принялся дергать дверную ручку – безрезультатно. Выругался.
«Толкните», – подсказал врач.
Флинн яростно распахнул дверь и вышел. Я будто приросла к стулу, слушая удаляющийся по больничному коридору грохот его шагов.
И вот теперь он буравит меня взглядом.
– Почему ты не рассказала о ребенке?
– Мы встречались всего полгода. Ты уехал, тебе хотелось посмотреть мир. Я даже не знала, вернешься ли ты ко мне!
– Но я вернулся! Через три месяца. Потому что любил тебя. Без тебя мне не хотелось кататься по миру. А ты и словом не обмолвилась! Хотя нет… не так… Ты клялась мне в церкви в верности и любви. Мы обсуждали будущее, детей… Сколько мы пытались завести ребенка! А ты все это время молчала! – Голос Флинна становится громче. – Мы следили по календарю за овуляцией, отказались от алкоголя, месяцами занимались сексом по расписанию, ты стояла в позе «березка»… Столько усилий, бесплодных попыток, а ты даже не заикнулась об аборте?
– Не хотела тебя расстраивать.
– Ты убила нашего ребенка! – Он переходит на крик. – На восемнадцатой неделе! Я, кстати, поинтересовался темой – я не говорил тебе? К этому возрасту малыш шевелится… знаешь, такие мелкие шевеления-пританцовывания в животе… Ты чувствовала, как он пинается?
– Пожалуйста…
– Я читал, что ребенок в восемнадцать недель размером с яблоко, – не унимается Флинн. – У него начинают формироваться черты лица – крохотные ушки, губки, глазки, даже брови! Представляешь? У нашего малыша уже были брови!
– Флинн…
– Я читал материал об аборте на позднем сроке, о ребенке на несколько недель старше нашего. Когда ребенка достали, мать услышала звук – малыш пытался вдохнуть воздух еще несформировавшимися легкими, он был жив! Лишь через целых полчаса…
– ХВАТИТ! – Зло оскалившись, я кидаюсь на Флинна. – Ни слова больше, мать твою! – Лацканы его пиджака зажаты у меня в кулаках, от сильного толчка стул кренится назад и покачивается на двух ножках. – Это был мой выбор! Мой! И мне, только мне с этим жить! Думаешь, я не жалею? Каково мне, по-твоему, было, когда я клала руку на круглый живот Фионы? Когда чувствовала под ладонью толчки Дрейка? А когда его укачивала? Тысячи женщин делают аборты без последствий, мало кто имеет потом проблемы, как я. Да, я оказалась в меньшинстве. И знаешь, что я считаю? Что я это заслужила! Заслужила наказание. Заслужила бесплодие. Потому что не сохранила своего первого ребенка. Единственного…
Я выпускаю Флинна и ухожу. По лицу текут горькие слезы.
Вот поэтому мы и развелись.