Широкий Дол Грегори Филиппа
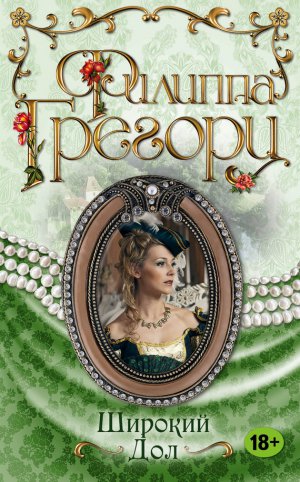
– Ты это о чем? – спросила я и с притворной наивностью уставилась на него широко раскрытыми глазами.
– Не выйдет, Беатрис, – сказал он. – Ты забываешь, что имеешь дело с блестящим диагностом. Я ведь заметил, что по утрам ты отказываешься от завтрака, что груди твои увеличились, а соски набухли. Может быть, тебе лучше самой рассказать о том, что уже и так поведало мне твое тело?
Я небрежно пожала плечами, потом лучезарно улыбнулась ему поверх чашки и сказала:
– Ты же сам назвал себя «блестящим диагностом», вот ты сам и говори.
– Хорошо, – согласился он. – По-моему, мы очень кстати так быстро поженились! Мне кажется, у нас будет сын. И на свет, по моим подсчетам, он должен появиться в конце июня.
Я опустила голову, чтобы скрыть облегчение, которое он мог прочесть по моим глазам; он и не сомневался, что я забеременела в тот, самый первый раз, еще до нашей свадьбы. Откуда же ему было знать, что на самом деле ребенок должен родиться в мае. И я с улыбкой посмотрела на него. Нет, это был не Ральф. И не хозяин Широкого Дола. И все же Джон был очень, очень мне дорог!
– Ты рад? – спросила я, и Джон, встав со стула, опустился возле меня на колени и крепко обнял обеими руками, уткнувшись носом в мою теплую надушенную шею. Потом он поцеловал мои пополневшие груди, выступавшие из выреза платья под невыносимым давлением туго зашнурованного корсета, и сказал:
– Я очень рад. Вот и еще один наследник «Линий МакЭндрю».
– Наследник Широкого Дола, – мягко поправила я его.
– Значит, наследник и денег, и земли, – согласился он. – Сильная комбинация! А если к этому прибавятся также ум и красота, у нас прямо-таки само совершенство получится!
– И к тому же на месяц раньше, чем позволяют приличия! – беспечно заметила я.
– Ничего, я тоже придерживаюсь старых обычаев, – весело возразил Джон. – В конце концов, и крестьянин только стельную корову покупать станет.
Господи, зря я беспокоилась, не зная, как сказать ему о своей беременности! В его душе не возникло ни тени сомнения – во всяком случае, в те первые, исполненные нежности мгновения. Да и потом, по-моему, тоже ни разу. Когда он обнаружил, как туго я затягиваю корсет, то настоял, чтобы я немедленно его сняла. Он даже поддразнивал меня, говорил, что я слишком рано начала толстеть; ему в голову не приходило, что этот ребенок зачат на пять недель раньше того дня, когда мы с ним впервые предались любовной страсти у меня в кабинете, прямо на полу перед камином. И в течение всей той холодной зимы, пока тело мое упорно округлялось, а я сама каждую ночь сгорала от страсти, Джона только радовала моя уверенная, смелая чувственность, и он, видя, что я счастлива и хорошо себя чувствую, не задавал никаких ненужных вопросов.
И вообще никто мне никаких вопросов не задавал. Даже Селия. Я всем сказала, что ребенок родится в июне, и мы заранее пригласили акушерку именно на это время, хотя я прекрасно знала, что она понадобится мне значительно раньше. И даже когда зимние холода сменились теплом и зеленью весны, я не забывала, что должна скрывать истинный срок своей беременности и то, что я стала все быстрее уставать. Я старательно делала вид, что по-прежнему чувствую себя прекрасно, а через несколько недель после того, как я сама впервые почувствовала движение плода, я в присутствии Джона испуганно прижала руку к животу и сказала изумленно-восторженным шепотом:
– Джон, он пошевелился!
Лгать мне помогало почти полное отсутствие у Джона опыта в подобных вопросах. Он, разумеется, получил диплом врача высшей квалификации в лучшем университете страны, только ни одна знатная дама никогда не позволила бы молодому мужчине, будь он хоть трижды врачом, находиться с нею рядом в столь деликатный период ее жизни. Те немногочисленные дамы, что предпочитали акушера-мужчину, выбрали бы старого опытного человека, а не молодого энергичного доктора МакЭндрю. Впрочем, большинство женщин, и благородных, и простых, придерживались старых традиций и пользовались услугами знакомых повитух.
Так что Джону посчастливилось наблюдать весьма немногочисленные беременности. Такие женщины – обычно это были жены бедных арендаторов или служанки – тоже никогда бы не пригласили молодого доктора к себе из боязни, что им придется слишком много заплатить ему за профессиональные услуги; но если Джон бывал в чьем-то богатом доме, навещая, скажем, заболевшего ребенка, то хозяйка дома могла невзначай упомянуть, что жена одного из ее работников болеет после тяжелых родов, или у кого-то из ее служанок начались роды, или ее горничная беременна и очень плохо себя чувствует. Джон, разумеется, всегда соглашался помочь, но каждый раз получалось так, что беременных или рожениц он видел, только если им угрожала серьезная опасность. По-моему, с нормальной беременностью он до сих пор толком знаком не был, и я могла сколько угодно лгать ему, а он только ласково смотрел на меня своими голубыми глазами в светлых ресницах. Я была совершенно уверена, что сумею использовать и предыдущий опыт, и свое умение врать на голубом глазу, и лелеяла глупую надежду, что мне удастся сохранить и наше семейное счастье, и нашу с Джоном нежность и любовь.
Я ведь действительно полюбила Джона и, поскольку мне хотелось сохранить его любовь, должна была сделать так, чтобы он не мешал мне, когда ребенок, которого он уверенно считал своим, появится на свет недель на пять раньше предполагаемого срока.
– Я бы так хотела снова повидать твоего отца, – однажды сказала я как бы между прочим. Это было вечером, и мы вчетвером сидели в гостиной у камина. Деревья были уже в цвету, и зеленые изгороди из боярышника тоже покрылись красивыми белыми соцветиями, но по вечерам все еще было весьма прохладно.
– Он мог бы, конечно, приехать к нам в гости, – как-то неуверенно ответил Джон, – только черта с два его от дел оторвешь. Если помнишь, мне пришлось самому ехать в Эдинбург и чуть ли не силой тащить его к нам на свадьбу.
– Но ведь ему наверняка захочется взглянуть на своего первого внука, – попыталась помочь мне Селия, склонившись над своей рабочей шкатулкой и выбирая нитку нужного оттенка. Алтарный покров был почти закончен, но меня использовали только для вышивания голубого неба, да и то в том месте, где небо было почти закрыто летящим ангелом. Такое задание не могла запороть даже я. Впрочем, я не особенно утруждалась и, сделав один стежок, откладывала работу под тем предлогом, что мне нужно о чем-то подумать или что-то рассказать.
– О да, папа – человек вполне семейный. Ему страшно приятно будет сознавать себя главой целого клана МакЭндрю, – сказал Джон. – И все же мне пришлось бы попросту его похитить, чтобы оторвать от управления фирмой и привезти сюда весной, в период наивысшей деловой активности.
– А почему бы, собственно, тебе его и не похитить? – спросила я, словно эта мысль только что пришла мне в голову. – Почему бы тебе действительно за ним не съездить? Ты же сам говорил, что скучаешь по милым твоему сердцу запахам Эдинбурга, этого Старого Дымокура! Нет, правда, почему бы и нет? Ты мог бы привезти его как раз к родам, и он стал бы крестным отцом нашего малыша.
– Да, это было бы прекрасно, – неуверенно сказал Джон. – И мне, конечно, хочется повидать отца, а также кое-кого из моих коллег по университету. И все же я бы предпочел не оставлять тебя одну в таком состоянии, Беатрис! Лучше мы все вместе съездим к нему потом, после родов.
Я вскинула руки в притворном ужасе, засмеялась и воскликнула:
– Ох, нет! Мне уже один раз довелось путешествовать с новорожденным, и я никогда не прощу Селии этого путешествия. И никогда в жизни никуда не поеду с ребенком, которого в дороге постоянно тошнит! Твой сын и я будем жить здесь до тех пор, пока его не отлучат от груди. Так что если хочешь хоть раз в ближайшие два года увидеть свой родной Эдинбург, то лучше поезжай прямо сейчас!
Селия засмеялась, вспомнив наше мучительное путешествие вместе с Джулией, и сказала:
– Беатрис совершенно права, Джон. Вы просто представить себе не можете, как сложно путешествовать с маленьким ребенком. Все словно нарочно получается не так, как надо, и порой нет ни малейшей возможности успокоить плачущего малыша. Если вы хотите, чтобы ваш отец повидал новорожденного внука, то его нужно убедить самого приехать сюда.
– Вы обе, наверное, правы, – все так же неуверенно согласился Джон, – но я все же не хотел бы оставлять тебя на последних месяцах беременности, Беатрис. Вдруг что-то пойдет не так, а я буду так далеко отсюда…
– Да ты не волнуйся, – попытался успокоить его Гарри, уютно устроившийся в глубоком кресле у самого огня. – Я тебе обещаю, что к Сиферну ее даже не подпущу, а Селия может пообещать, что будет всячески удерживать ее от поедания сластей. Беатрис здесь не грозит никакая опасность, и к тому же мы всегда можем послать за тобой, если возникнут какие-то неприятности.
– Мне, конечно, очень хочется туда съездить, – признался, наконец, Джон. – Но только если ты действительно уверена, Беатрис, что я тебе сейчас не нужен.
Я воткнула иголку прямо в лицо вышитого ангела и протянула правую руку мужу.
– Я совершенно в этом уверена, – заверила я его, и он в ответ нежно поцеловал мою руку. – И я торжественно тебе обещаю: я не буду ездить верхом на диких лошадях и постараюсь не есть сладости и не особенно толстеть.
– Но ты пошлешь за мной, если вдруг почувствуешь какое-то беспокойство или если, не дай бог, роды раньше времени начнутся? – спросил Джон.
– Обязательно пошлю! – весело пообещала я, и Джон, перевернув мою руку ладонью вверх тем самым прелестным жестом, каким пользовался, ухаживая за мной, поцеловал меня в ладонь и крепко сжал мои пальцы, словно пряча там свой поцелуй. Я улыбнулась ему, и в моей улыбке светилась самая неподдельная, искренняя любовь.
Джон дождался лишь моего дня рождения – четвертого мая мне исполнилось девятнадцать лет. Селия приказала освободить от мебели столовую и пригласила полдюжины наших соседей на торжественный ужин и танцы. Мне не хотелось показывать, как неважно я себя чувствую, и я даже протанцевала два гавота с Джоном и медленный вальс с Гарри, а потом уселась и стала рассматривать подарки.
Гарри и Селия преподнесли мне бриллиантовые серьги, а мама – подходящее к серьгам бриллиантовое колье. Джон принес довольно большой и тяжелый сундучок, обитый кожей, с бронзовыми уголками и замком.
– Там, наверное, добыча целой алмазной шахты! – предположила я. Джон рассмеялся и сказал:
– По-моему, это гораздо лучше бриллиантов.
Он достал из кармана жилета бронзовый ключик и вручил его мне. Ключ легко отпер замок, и крышка поднялась сама собой. Внутри сундучок был выстлан синим бархатом, на котором лежал, как в мягком гнездышке, великолепный бронзовый секстант.
– Боже мой, – воскликнула мама, – что это такое?
Я лучезарно улыбнулась Джону и сказала:
– Это секстант, мама. Причем чудесной работы. Это поистине удивительное изобретение! С его помощью я сама сумею составить карту нашего поместья. И мне больше не придется полагаться на чичестерских рисовальщиков. – Я протянула к Джону руку: – Спасибо, спасибо тебе, любимый!
– Что за подарок для молодой жены! – с некоторым изумлением воскликнула Селия. – Ты, Беатрис, сделала удачный выбор. Джон такой же странный, как и ты!
Джон обезоруживающе засмеялся и сказал:
– Нет, это она настолько испорчена, что я просто вынужден покупать ей всякие странные вещи. Впрочем, украшениями она теперь и без того просто увешана, как и шелками. Вы только посмотрите, какая у нее груда подарков!
Маленький столик в углу действительно был прямо-таки завален ярко и красиво завернутыми подарками от арендаторов, работников и слуг. Букеты цветов, принесенные деревенскими ребятишками, были расставлены по всей комнате.
– До чего же все тебя любят, моя дорогая! – сказал Джон, ласково мне улыбаясь.
– Это правда, – подтвердил Гарри. – Мне, например, никогда столько не дарили и столько знаков внимания в день рождения не оказывали. А когда Беатрис исполнится двадцать один, мне придется всем работникам объявить выходной.
– Нет, одного дня мало! По крайней мере неделю! – сказала я, улыбаясь, потому что услышала в голосе Гарри отзвук ревности. То лето, когда Гарри вдруг стал всеобщим любимцем, осталось в прошлом. Да и миновало оно как-то слишком быстро для него. В то лето люди приняли его всей душой вместе с богатым урожаем, уверенные, что и новый хозяин поместья будет хорош. Но когда Гарри вернулся из Франции и стал хозяйничать один, без сестры, люди быстро поняли, что молодой сквайр – это всего лишь половина сквайра, причем глупая и безответственная его половина.
Мой приезд из Франции вернул Широкому Долу былую гордость, и эти подарки, эти низкие поклоны и реверансы, эти искренние, любящие улыбки – все было мне данью за мою любовь и заботу.
Я подошла к столику и принялась разворачивать подарки. В основном это были маленькие самодельные подношения: вязаная подушечка для булавок, на которой мое имя было выложено фарфоровыми булавочными головками; хлыст для верховой езды с вырезанным на рукояти моим именем; вязаные митенки, которые надевают под перчатки для верховой езды; мягкий шарф, связанный из шерсти ягненка. Наконец я дошла до какого-то крошечного, не больше моего кулака, подарочка, странным образом завернутого в черную бумагу. На нем не было никакой надписи, не было даже имени дарителя, и я вертела его в руках, испытывая какое-то неприятное беспокойство. Ребенок брыкался у меня в животе, словно тоже чувствуя некую неясную опасность.
– Разверни, – подсказала мне Селия. – Может быть, там внутри есть какая-то записка, и ты узнаешь, кто тебе это прислал.
Я надломила черную печать, разорвала черную обертку, и на свет появилась маленькая фарфоровая коричневая сова.
– Какая милая вещица! – тут же с готовностью похвалила ее Селия. Но я смотрела на фарфоровую безделушку с таким ужасом, что так и не смогла улыбнуться, чувствуя, как дрожат мои губы.
– Что случилось, Беатрис? – спросил Джон, и мне показалось, что голос его доносится откуда-то издалека. Я посмотрела на него, но лицо его было словно в тумане, я его едва различала. Я поморгала и несколько раз тряхнула головой, желая прогнать и этот туман, и противный звон в ушах.
– Ничего, – тихо ответила я. – Ничего. Прошу меня извинить, я на одну минуту. – И я, ничего не объясняя, отвернулась от груды подарков и быстро вышла из зала в холл, где позвонила в колокольчик и вызвала Страйда. Он, улыбаясь, появился из кухонной двери.
– Слушаю вас, мисс Беатрис.
Я показала ему скомканную черную бумагу, которую все еще держала в руке, и фарфоровую сову. Безделушка казалась мне какой-то на редкость холодной, и этот холод словно пронизывал меня насквозь.
– Один из подарков был завернут в эту черную бумагу, – довольно резким тоном начала я. – Вы знаете, когда его принесли? Как он попал сюда?
Страйд взял у меня скомканную бумагу и расправил ее.
– Это был такой крошечный сверточек? – спросил он.
Я кивнула. Горло у меня настолько пересохло, что я больше не доверяла собственному голосу.
– По-моему, это был кто-то из деревенских ребятишек, – с улыбкой сказал дворецкий. – Сверток был оставлен под окном вашей спальни, мисс Беатрис, в маленькой корзинке из ивовых прутьев.
Я судорожно вздохнула и сказала:
– Я хочу посмотреть на эту корзинку.
Страйд кивнул и вернулся на кухню, прикрыв за собой дверь, обитую зеленым сукном. Холод, который, казалось, исходит от маленькой фарфоровой совы, уже превратил меня в ледышку. Я прекрасно понимала, кто прислал этот подарок. Изувеченный изгой, жалкий обрубок того молодого красавца, который четыре года назад с такой любовью подарил мне крошечного живого совенка. Ральф. Это он прислал мне зловещее напоминание о том своем подарке. Это было предупреждение. Сигнал опасности. Но тогда я еще этого не понимала. Дверь в столовую открылась, и оттуда вышел Джон, не сумевший сдержать встревоженного восклицания при виде моего побелевшего лица.
– Ты переутомилась? Или тебя что-то расстроило?
– Нет, нет, все в порядке, – сказала я, с трудом выговорив эти слова онемевшими губами.
– Пойдем, тебе лучше присесть, – сказал Джон, увлекая меня в гостиную. – Посиди здесь спокойно несколько минут, а потом снова вернешься к гостям. Может, тебе нюхательную соль принести?
– Да, пожалуйста, – сказала я, чтобы хоть на минуту от него избавиться. – Она у меня в спальне.
Он еще раз внимательно вгляделся в мое лицо и побежал за солью. Я сидела, похолодевшая и застывшая, ожидая возвращения Страйда с корзинкой из ивовых прутьев.
Когда он, наконец, принес ее и подал мне, я поблагодарила его и кивком головы отослала прочь. Да, это, разумеется, была работа Ральфа. Точная маленькая копия той, другой, корзинки, которую я в свой пятнадцатый день рождения на заре спрятала под подоконником спальни. Прутья были еще совсем свежие, зеленые; корзиночку явно сплели всего пару дней назад, так что, скорее всего, он срезал эти прутья прямо здесь, в Широком Доле, и теперь, вполне возможно, находится где-то рядом с нашим домом, где-то на берегу Фенни. Держа корзинку в одной руке, а ужасную фарфоровую сову в другой, я даже застонала, так мне стало страшно. Потом, закусив кончик языка, я принялась онемевшими пальцами щипать себя за щеки, чтобы они хоть чуточку порозовели, и когда Джон вернулся в гостиную с моими нюхательными солями, у меня был наготове даже несколько вымученный смех, с помощью которого я отмахнулась и от этих солей, и от взволнованных вопросов, и от мрачных озабоченных взглядов. Я чувствовала, конечно, что Джон наблюдает за мной; глаза его смотрели остро и тревожно, однако вопросами он меня больше донимать не стал.
– Это все ерунда, – сказала я. – Ерунда. Я просто слишком много танцевала, и твоему маленькому сыну это не понравилось. – И больше я ничего объяснять не пожелала.
Я не имела права давать Джону повод остаться. Уже недели через три должен был родиться ребенок, и я, старательно скрывая страх под веселой бравадой, укладывала в чемодан вещи мужа и непринужденно ему улыбалась. Я и потом не позволяла страху взять надо мной верх до тех пор, пока, стоя на крыльце, не помахала Джону рукой на прощанье. Но как только повозка его скрылась из виду и на дальнем конце подъездной аллеи смолк топот копыт, я в изнеможении прислонилась спиной к нагретому солнцем дверному косяку и застонала от ужаса при мысли о том, что Ральф может осмелиться подъехать или, что еще страшнее, подползти к нашему дому. Мне противно было даже вспоминать о том, что он подарил мне на день рождения четыре года назад.
Впрочем, предаваться мрачным размышлениям у меня времени не было, и я благословляла ту работу, которую обязана была успеть сделать; я направо и налево раздавала указания и каждый вечер благословляла усталость, накопившуюся за день и сменявшуюся тяжелым сном. Если во время первой беременности я могла сколько угодно наслаждаться ленью и бездельем в последние недели перед родами, то на этот раз за мной внимательно следили три пары глаз, и мне приходилось притворяться, что до родов мне еще по крайней мере месяца два. Я старалась ходить легким шагом, работала целыми днями и никогда не хваталась рукой за ноющую спину, не охала и не вздыхала; лишь оказавшись в собственной спальне и плотно закрыв за собой дверь, я могла признаться себе, что до смерти устала.
Я ожидала родов в конце мая, но май миновал, наступал июнь, и я с радостью проснулась навстречу первому июньскому дню. Если ребенок родится в июне, это будет гораздо лучше. Сидя за письменным столом у себя в кабинете, я по пальцам пересчитала недели своей беременности; солнце приятно пригревало мне плечи, и я думала, что если, к счастью, ребенок запоздает появиться на свет, то для моей репутации это будет только на пользу. Но стоило мне неосторожно потянуться за календарем, и мой живот скрутила такая боль, что перед глазами у меня поплыл туман и я невольно застонала.
Сперва эта боль буквально парализовала меня, но потом стало немного легче, и я почувствовала, что из меня льется горячая влага – значит, поняла я, уже отходят воды и ребенок начал свое короткое опасное путешествие к свету.
Я с некоторым трудом подтащила тяжелый резной стул к высокому книжному шкафу, где хранились все гроссбухи поместья вплоть до записи о приобретении в собственность этих земель семейством Лейси семьсот лет назад. Я, правда, опасалась, что не смогу из-за сильной боли залезть на стул и дотянуться до верхних полок и сбросить оттуда несколько тяжелых томов. И оказалась права. Мне было ужасно больно, но сцену следовало оформить как следует, сделав ее максимально убедительной. Я все-таки сумела бросить на пол три или четыре массивных старых гросс-буха, слезла со стула, с громким стуком уронила стул на пол, живописно расположила тома вокруг стула и сама тоже легла рядом.
Горничная, занятая уборкой у меня в спальне, тут же прибежала, услышав грохот упавшего стула, и увидела меня, лежавшую на полу неподвижно, как мертвая, рядом с перевернутым стулом и разбросанными тяжелыми томами. Я слышала, как испуганно она охнула, заметив все расширявшееся пятно на моем шелковом платье, и ринулась вон, пронзительно зовя на помощь. Весь дом мгновенно охватила паника; меня бережно подняли и перенесли в спальню, где я с тихим стоном «пришла в себя».
– Не бойся, дорогая, – сказала мама, стиснув мою холодную руку. – Бояться тут нечего. Ты просто упала со стула, вот ребеночек и решил родиться чуть раньше. За акушеркой мы уже послали, а Гарри напишет Джону. – Она наклонилась и заботливо утерла мой покрытый каплями пота лоб своим кружевным платочком, от которого пахло фиалками. – Хотя, конечно, малыш явно поспешил, так что, милая, приготовься к тому, что на этот раз тебя может постигнуть разочарование. Но, я думаю, у тебя непременно будут и еще дети.
Я ухитрилась изобразить подобие улыбки и, с легкостью богохульствуя, сказала:
– Все в руках Божьих, мама. А скажите, это очень больно?
– О нет, – ласково успокоила она меня. – Это совсем не так уж больно, тем более ты – такая храбрая девочка, в тебе всегда было столько мужества и бесстрашия. И потом, это же совсем маленький ребеночек, ведь он слишком рано решил родиться.
Я закрыла глаза, потому что знакомая боль вновь пронзила тело.
– Мама, нельзя ли мне немного вашего лимонада? Вы всегда нам его давали, когда мы болели, – попросила я, как только схватка прошла.
– Конечно, милая, – сказала она и наклонилась, чтобы поцеловать меня. – Я прямо сейчас пойду и приготовлю. Но если я тебе понадоблюсь, ты просто позвони в колокольчик, да и Селия с тобой останется. Миссис Мерри, наша повитуха, уже в пути, и я послала грума за мистером Смитом, он опытный акушер и сумеет о тебе позаботиться. А теперь, дорогая, постарайся отдохнуть. Это может занять очень много времени, да и сил тебе потребуется немало.
Я легла поудобней и улыбнулась. Я-то знала, что «очень много времени» это не займет, так что мистеру Смиту лучше поторопиться, иначе он упустит свой гонорар. Я знала, что вторые роды всегда происходят быстрее, да и схватки уже усиливались, а промежутки между ними становились все короче. Селия, как и в прошлый раз, сидела возле моей кровати и держала меня за руку.
– Все почти так же, как было при рождении Джулии, – сказала она, и я заметила, что глаза у нее полны слез. Она была глубоко взволнована, бедняжка. Такая хорошенькая и, увы, бесплодная. – У тебя тогда так хорошо все получилось, моя дорогая, и я уверена, что и на этот раз все будет просто прекрасно.
Я рассеянно ей улыбнулась, но мне уже казалось, что она где-то далеко-далеко. В эти минуты я не могла думать ни о чем другом, кроме той борьбы, что происходила сейчас внутри меня, где ребенок сражался за свою свободу с моим напряженным телом, которое не желало так легко отдавать выросший в нем плод. Внезапно боль стала такой сильной, что я застонала, и мои стоны заглушил страшный грохот, это одна из горничных ухитрилась уронить нашу фамильную колыбель, которую уже успели принести к дверям спальни. В доме вообще царила невероятная суета; слуги озабоченно метались, стараясь поскорее подготовить детскую к столь неожиданному появлению малыша, которому первым из нового поколения предстояло родиться в Широком Доле и лечь в фамильную колыбель.
Схватки еще больше участились, но были теперь не такими болезненными; я, скорее, испытывала сильное напряжение, словно двигала тяжелый гардероб или тянула за канат судно к пристани. Миссис Мерри уже прибыла и не отходила от меня ни на шаг, но я почти не обращала внимания на ее суету – она все что-то прибирала, а потом привязала скрученную в жгут простыню к столбикам балдахина. Я лишь сердито рявкнула что-то в ответ на ее требование, чтобы я ухватилась за эту простыню и подтягивалась, помогая потугам. Мне совершенно не нужны были все эти суетящееся громкоголосые женщины; это было мое личное дело, моя личная тайна, и это мой сын пробивал себе путь на волю, сражаясь с моим сопротивляющимся телом. Но миссис Мерри на меня совсем не обиделась. Ее мудрое морщинистое лицо по-прежнему освещала улыбка, а ее проницательные глаза мгновенно улавливали каждое движение моего изгибающегося тела; она и без слов понимала, что значат мои хриплые стоны.
– Ничего, детка, ты справишься, – приговаривала она примерно так, как я могла бы разговаривать с рожающей кобылой, и при этом она была на редкость спокойна, а потом даже уселась в ногах кровати с какой-то штопкой, рассчитывая, что ее помощь мне скоро не понадобится.
Однако она ошиблась. Вскоре я окликнула ее:
– Миссис Мерри! – И Селия тут же кинулась ко мне, схватила за руку, но я на нее не смотрела. Я искала глазами понимающую улыбку старой знахарки.
– Ну, теперь приготовьтесь, – сказала она, засучивая свои грязные рукава.
– Это… это… – я хватала ртом воздух, точно выброшенный на берег лосось. Сильнейшая боль вновь скрутила мой вздувшийся и странно затвердевший живот; мне казалось, что хищная скопа, вцепившись в меня когтями, рвет и терзает мое тело.
– Тужьтесь! – кричала миссис Мерри. – Уже головка видна!
Чудовищный спазм чуть не лишил меня сознания, потом боль немного отпустила, и я почувствовала, как миссис Мерри своими умелыми, хотя и грязноватыми пальцами, лезет куда-то внутрь меня, нащупывая ребенка и помогая ему выбраться наружу. Затем еще один сильный спазм, вышел послед, и все было кончено: ребенок был на свободе. Тоненький булькающий плач наполнил комнату; из-за закрытой двери послышались радостные восклицания – похоже, каждый из слуг, кто только сумел оказаться в западном крыле, подслушивал возле моей спальни.
– Мальчик, – сказала миссис Мерри, держа младенца за лодыжки и потряхивая его, точно только что вылупившегося цыпленка, а потом без излишних церемоний плюхнула его мне на дрожащий напряженный живот. – Мальчик – это очень хорошо для Широкого Дола.
Селия, простодушная и начисто лишенная каких бы то ни было подозрений, не сводила с новорожденного глаз.
– Как это прекрасно! – воскликнула она, и в голосе ее слышались любовь, затаенная страстная тоска и непролитые слезы.
Я прижала малыша к себе, чувствуя на нем сладкий сильный незабываемый родильный запах, и у меня из глаз вдруг хлынули жгучие слезы; они все бежали и бежали по щекам, а я все рыдала и рыдала – казалось, я оплакивала какое-то свое горе, о котором не могла сказать никому. Глаза у мальчика были темно-синие, а волосы – черные как смоль, и я, усталая и поглупевшая после родов, вдруг подумала, что это ребенок Ральфа. Что я родила Ральфу сына! Но миссис Мерри отняла у меня младенца, завернула его в теплую фланель и сунула Селии.
– Забирайте его и немедленно уходите отсюда, – велела она. – Мне надо заняться роженицей. У меня для нее и горячий отвар готов, он ее сразу в порядок приведет. А сейчас пусть она поплачет, это даже хорошо. Все равно слезы прольются, так лучше раньше, чем позже.
– Беатрис, ты плачешь? – воскликнула мама, врываясь в комнату и замерев как вкопанная при виде меня, рыдающей и зарывшейся лицом в скомканные простыни.
– Все это было для нее слишком тяжелым испытанием, – с нежностью сказала Селия. – Но вы только посмотрите на малыша! Какое чудо! Давайте пока устроим его в детской, а к Беатрис зайдем позже, когда она немного отдохнет.
Дверь за ними закрылась, и я осталась один на один с внезапно нахлынувшим на меня необъяснимым горем. Зорко на меня глянув, миссис Мерри сказала:
– Выпейте-ка, – и подала мне чашку с горячим питьем. У меня перехватило дыхание, когда я хлебнула этого травяного отвара, сладко пахнувшего мятой и лавандой и сдобренного самым, возможно, лучшим укрепляющим средством – джином. Я осушила полную кружку, и слезы, наконец, перестали катиться у меня по щекам.
– Ребеночек-то семимесячный, да? – спросила повитуха, не сводя с меня своих все знающих и все понимающих глаз.
– Да, – спокойно ответила я. – Я упала, вот роды и начались раньше времени.
– Великоват он для семимесячного, – заметила она. – И уж больно легко родился – для первых-то родов!
– Сколько вы хотите? – напрямик спросила я. Я слишком устала, чтобы обороняться, и слишком хорошо понимала, что лгать этой женщине бесполезно.
– Ничего я не хочу, – сказала миссис Мерри. И ее морщинистое лицо расплылось в улыбке, больше похожей на трещину. – Вы и так уже за все расплатились тем, что пригласили меня. Если жена такого блестящего молодого доктора предпочитает по-старому пользоваться услугами повитухи, то и половина знатных дам нашего графства тоже ее примеру последует. Вы мне вернули профессию, мисс Беатрис, вернули возможность зарабатывать себе на хлеб, и теперь молодые дамы не станут спешить и сразу приглашать мистера Смита, узнав, что я сама, в одиночку, так успешно ребеночка у вас приняла.
– Вы же знаете, миссис Мерри, что я всегда и во всем стараюсь придерживаться старых правил, – сказала я. – И в вопросах зачатия тоже, – с улыбкой и крепнущим доверием прибавила я. – У нас в Широком Доле мое слово является законом. И на моей земле для вас всегда найдется и кров, и пища, миссис Мерри. Я своих друзей не забываю… а вот сплетни я ненавижу.
– От меня никто никаких сплетен не услышит, – твердо пообещала она. – И пусть найдется такой человек, который сразу после родов сможет поклясться, что знает точный возраст ребенка. Да никто, даже ваш умный и ученый молодой муж, этого сделать не сумеет! А если его еще с неделю, а то и больше, дома не будет, так и говорить будет не о чем. Учился он в Эдинбурге или нет!
Я благодарно кивнула ей и устало откинулась на подушки. Она ловко переменила подо мной простыни, почти совсем меня не потревожив, потом заботливо взбила подушки, и я вдруг попросила ее:
– Пожалуйста, миссис Мерри, принесите мне моего сына. Он мне нужен.
Она молча кивнула и, тяжело ступая, вышла из комнаты, но вскоре вернулась, неся на плече ребенка, завернутого в целый ворох одеял.
– Ваша мама и леди Лейси хотели с вами повидаться, да я не разрешила; сказала, что пока вам нельзя разговаривать. А вот и ваш парнишка. Я вас пока оставлю одних, чтобы вы могли получше с ним познакомиться, только вы не вставайте, лежите себе тихонько. А я скоро приду и заберу его.
Я кивнула, хотя едва слышала, что она мне говорит. Синие глаза мальчика невидящим взглядом смотрели прямо на меня. Его крошечное личико было похоже на сморщенную луну, не имеющую ни правильной формы, ни структуры. Вполне определенным и ярким было в нем одно: густые черные волосы и пронзительно синие, почти фиолетовые, глаза. Я отбросила одеяла и осторожно встала, ступая босыми ногами по холодным половицам. Держа на руках сына, я медленно подошла к окну. Он был такой крошечный и легкий, как кукла, и хрупкий, как цветок пиона. Я настежь распахнула окно и вдохнула сладостный, пропитанный ароматами цветов воздух Широкого Дола. Было еще только начало июня, и все розовые кусты в нашем саду были покрыты цветами – бледно-розовыми, алыми, белыми, – и от них исходил головокружительный аромат, поднимавшийся по нагретой солнцем каменной стене прямо к моему окну. За садом изумрудными красками сверкала на выгоне роскошная весенняя трава, уже довольно высокая – где по щиколотку, а где и по колено. А за выгоном виднелись серые стволы буков, за которые словно зацепилось светло-зеленое, будто тающее облако зеленой листвы, среди которой виднелись темно-лиловые мазки. Дальше, за качающимися кронами деревьев, были бледные квадраты верхних полей, а еще дальше – вершины холмов и округлая, в форме зеленого полумесяца линия горизонта, отмечавшая границы Широкого Дола.
– Видишь? – сказала я своему сыну и, придерживая его головенку, повернула его личиком к окну. – Видишь? Все это принадлежит мне и однажды непременно станет твоим. Пусть другие думают, что это они здесь хозяева. Они ошибаются. Эта земля моя, и я завещаю ее тебе. И отныне я начинаю новую битву за то, чтобы ты стал полновластным хозяином этой земли. Ибо ты – ее наследник, ты – сын сквайра и сын сестры сквайра; ты дважды хозяин всего этого, и ты непременно будешь всем этим владеть, потому что узнаешь и полюбишь эту землю так, как знаю и люблю ее я. И благодаря тебе – даже если я уже успею умереть – эта земля станет по-настоящему моей.
Услышав в коридоре тяжелую поступь миссис Мерри, я поспешно захлопнула окно и нырнула в постель, точно проказливая школьница. За эти резкие движения мне, правда, пришлось расплатиться обмороком – я потеряла сознание, стоило мне снова коснуться подушки, но мой сын, мой чудесный сын ни капли не пострадал, и его тут же унесли к маме и Селии. А я, оставшись одна, задремала, предаваясь блаженным снам и мечтам о своем счастливом будущем. И мне вдруг показалось, что оно, это будущее, словно бросает мне вызов и, одновременно, кажется куда более ясным, чем прежде.
Глава тринадцатая
Вся первая неделя после родов прошла для меня под знаком счастливого материнства. Я испытывала такое же чувственное удовлетворение, как кормящая кошка, и жила, словно в тумане, среди снов наяву; мне не давала покоя лишь одна трезвая мысль: как заставить Гарри сделать своего сына наследником Широкого Дола, не говоря ему, что это он – отец мальчика. Я слишком хорошо знала своего щепетильного брата и понимала, что он, скорее всего, в ужасе отшатнется от ребенка, рожденного в результате инцеста. Даже я со своим прагматизмом старалась избегать мыслей об этом и понимала, что любой намек на то, кто истинный отец моего сына, будет означать большую беду и конец всех моих планов и надежд. И все же должна была найтись какая-то возможность обеспечить моему сыну – этому поистине безупречному ребенку – равные права с Джулией! Только то, что я никак не могла найти выход из этого хитросплетения несправедливости и невезения, и омрачало в моменты одиночества мое счастливое состояние. В остальное время я мечтала о будущем своего сына, нежно воркуя над ним и что-то ему напевая.
Это был идеальный малыш! У него были такие прелестные ноготки! Каждый крошечный пальчик был увенчан идеальной формы ноготком с белой лункой и белым, уже слегка отросшим краешком. А его крошечные пухлые ножки были такими сильными! Сквозь тугую плоть прощупывались крепкие маленькие косточки. А как хороши были его сладко пахнущие складочки на шее! И крошечные ушки, похожие на раковинки, и прелестный ротик в форме буквы «о»! Когда он был голоден и тянулся к моим набухшим соскам, из которых сочилось молоко, его маленькое личико искажалось, а ротик от жадности становился треугольным. А когда он наедался и засыпал, то было заметно, что его верхняя губа даже чуть припухла, с такой силой он сосал.
Жаркими июньскими днями я мечтала, что вскоре смогу класть его голеньким на свою постель и он, брыкаясь, будет наслаждаться там полной свободой, а я стану присыпать пудрой складочки на его тельце или протирать ему кожу маслом после купания. Кстати я, как чуть раньше и Селия, которую я теперь понимала гораздо лучше, настояла, чтобы ножки малыша не привязывали свивальником к дощечкам, а оставляли на свободе. В общем, теперь весь дом жил, по сути дела, по расписанию двух маленьких тиранов: нашей чудесной Джулии и не менее чудесного Ричарда.
Ибо моему сыну предстояло носить имя Ричард. Я и сама не понимала, почему ко мне привязалось именно это имя. А вот об имени Ральф я действительно подумала сразу, едва увидев эту черную как смоль головку, так что, возможно, это «Р» соскользнуло с моего языка раньше, чем я успела его поймать. Для меня довольно странная обмолвка, ибо мне подобные вещи совершенно не свойственны. Но мой дорогой Ричард сделал меня беспечной. И я без зазрения совести мечтала о его будущем, строила всевозможные планы и на какое-то время, видимо, даже утратила свое прежнее «я» – гневное, лживое, острое как бритва. Я также утратила способность мгновенно собраться, готовясь к чему-то важному. Это было уже сущее безумие. Я не задумывалась даже над тем, что должна сказать, если кто-то вздумает вслух удивиться, как это семимесячный ребенок родился таким крупным и здоровым. А Ричард и впрямь был на редкость пухлым и здоровым малышом, с большим аппетитом кушал каждые три часа и ничуть не походил на тощеньких, кожа да кости, недоношенных младенцев. Селия ничего на этот счет не говорила. Да и что Селия в этом понимала? А вот дворовые слуги сразу все поняли – слуги вообще всегда все понимают раньше своих хозяев. Но если слуги все поняли, значит, об этом знала и вся деревня – тут мне и спрашивать ни о чем не требовалось.
С другой стороны, в Широком Доле нравы были вполне деревенские. В нашей приходской церкви редко случалась такая свадьба, когда у невесты живот еще на нос не лез. Ибо, с точки зрения крестьянина, какой прок в жене, которая не доказала своей плодовитости? У благородных, конечно, дело другое, зато их и неудачи чаще подстерегают. Вот, например, молодой сквайр, мастер Гарри, получил бесплодную жену и, скорее всего, лишился всяких надежд на наследника. Все жители нашей деревни, как и все слуги в нашем доме, и, насколько я могла себе это представить, все жители нашего графства были теперь почти уверены, что мы с Джоном стали любовниками еще до свадьбы. И, надо сказать, из-за этого никто не стал думать хуже ни обо мне, ни о нем.
И только моя мать все же заговорила со мной о совершенном мною грехе, столь обычном в нашей округе.
– По-моему, наш мальчик слишком крупный для семимесячного, – сказала она, глядя на нас обоих. Я ласково ворковала над сынишкой, а он лежал на моей постели, расслабленный и сонный после кормления, и его перепачканная молоком пухлая мордашка казалась страшно довольной. Он даже глазки закрыл, предавшись сладкой дреме.
– Да, он большой, – рассеянно сказала я, следя за его лицом.
– Ты не ошиблась в сроках, моя дорогая? – спросила мама, понизив голос. – Он совершенно не похож на недоношенного.
– Ох, перестаньте, мама, – лениво бросила я. – Успокойтесь. Ваш внук был зачат, когда мы с Джоном были уже помолвлены. В конце концов, я всегда жила по старым обычаям и не вижу ничего плохого в том, что мой сын был зачат мною еще до свадьбы с моим законным женихом.
На лице матери отразилось явное неодобрение.
– В этом, разумеется, нет никакого нарушения морали, – сказала она. – И если твой муж, Беатрис, не возражает, то и я, конечно же, не вправе высказывать какие-то претензии. Но это так типично для тебя – с твоим деревенским детством, с твоей одержимостью нелепыми деревенскими «ценностями»! Мне бы и в голову не пришло ничего подобного. И я чрезвычайно рада, что отныне мне не нужно нести за тебя никакой ответственности.
И с этими словами она, глубоко возмущенная, поспешила уйти, а я рассмеялась, глядя на Ричарда, который не плакал и не смеялся, а просто лежал, сонный, нежась на солнышке, и ему было все равно, будь его мама хоть самой настоящей шлюхой.
Выдумка насчет того, что мы с Джоном зачали своего сына еще до свадьбы, оказалась настолько убедительной, что я ничуть не беспокоилась насчет возвращения Джона и того, что еще ему может прийти в голову. Я и сама мало что знала о том, как обычно выглядят новорожденные, и была уверена, что три недели в столь раннем возрасте особого значения не имеют. Я с трудом могла припомнить, как выглядела Джулия в первые недели своей жизни, но мне казалось, что она чрезвычайно быстро набрала вес после того, как мы вернулись в Англию, а потом довольно долго выглядела примерно одинаково. К тому же успех моего первого обмана, с Джулией, придал мне уверенности. В тот раз мне все отлично удалось. Я лишь довольно невнятно намекнула, что девочка вроде бы родилась слишком рано, но это только кажется, потому что неопытная молодая мать ошиблась со сроками. В общем, все тогда получилось очень легко, и мои объяснения ни у кого не вызвали возражений. Я не сомневалась, что точно так же будет и с Ричардом. Вряд ли, думала я, мой муж, каким бы умным и образованным он ни был, сумеет разобраться, что наш крупный, покрытый пухлыми «перевязочками» мальчик родился даже немного позже срока, а не на целых три недели раньше. Еще неделя или две, и Джон уже ни в чем не сможет быть уверен.
Но он приехал слишком рано.
Гораздо раньше, чем мы ожидали. Он ухитрился приехать уже через неделю после того, как получил письмо от Гарри. Он гнал дилижанс, как дьявол, подкупая возниц и заставляя их ехать днем и ночью, не останавливаясь; он даже перекусить им не позволял. С грохотом подлетев к крыльцу на отвратительном, разбитом почтовом дилижансе, Джон вломился прямо в гостиную, где в этот момент царили мир и покой. Мама играла на фортепьяно, Селия сидела с ней рядом, держа на коленях Джулию, а я, устроившись на широком подоконнике, укачивала Ричарда, лежавшего в колыбели. Джон был бледен от усталости; от него сильно пахло виски; лицо все перепачкано и заросло неопрятной щетиной. Он изумленно огляделся, словно не мог поверить, что перед ним надушенная гостиная, где все объято покоем; затем его глаза с покрасневшими от усталости веками остановились на мне.
– Беатрис, любимая, – сказал он и рухнул возле меня на колени, обнимая меня за талию и прильнув своими пересохшими губами к моим губам. Дверь у него за спиной тут же захлопнулась – это мама и Селия поспешили оставить нас наедине.
– Боже мой! – промолвил он с тяжким усталым вздохом. – Ведь я-то считал, что ты мертва, или больна, или истекаешь кровью! А ты сидишь тут, прелестная, как ангел, и совершенно здоровая. – Он внимательно всматривался в мое лицо. – Ты действительно хорошо себя чувствуешь? – спросил он.
– О да, – ласково улыбнулась я. – И твой сын тоже.
Джон что-то невнятно пробормотал и повернулся к колыбели; на его усталом лице блуждал какой-то призрак изумленной улыбки. Затем он наклонился над колыбелью, улыбка его погасла, а взгляд неожиданно стал жестким.
– Когда он родился? – Голос его звучал холодно.
– Первого июня, десять дней назад, – ответила я, стараясь сохранять спокойствие – так человек, переходя реку по тонкому льду, старается двигаться неторопливо и равномерно распределять тяжесть собственного тела.
– То есть недели на три раньше положенного срока, если не ошибаюсь? – Этот вопрос прозвучал столь же резко, как треск ломающегося под ногами льда; и я, сама того не ожидая, задрожала от страха.
– Да, недели на две или на три, – сказала я. – Я не совсем уверена…
Джон вынул Ричарда из колыбели и умело, как врач, а не как любящий отец, развернул шаль, в которую мальчик был завернут. Не обращая внимания на мои неискренние протесты, он так быстро и ловко раздел ребенка, что тот даже не заплакал. Затем Джон легонько потянул его за ручки и за ножки, ощупал его кругленький животик, измерил своими чуткими пальцами врача окружность пухлых запястий и предательски пухлых, покрытых перевязочками щиколоток. Проделав все это, он снова бережно завернул младенца и уложил его в колыбель, аккуратно придерживая ему головку. Только после этого он выпрямился и повернулся ко мне лицом. Когда я увидела выражение его глаз, тонкий лед окончательно подломился подо мною, и я погрузилась в ледяную черную бездну раскрытого обмана и крушения всех моих надежд.
– Этот ребенок родился совершенно доношенным, – сказал Джон, и голос его зазвенел, как осколки замерзшего стекла. – Ты уже была беременна, когда впервые отдалась мне. Ты была беременна, когда выходила за меня замуж. И я не сомневаюсь: именно по этой причине ты за меня и вышла. А значит, ты самая настоящая шлюха, Беатрис Лейси.
Он умолк, а я открыла рот, чтобы что-то сказать, но слова застыли у меня на устах. Единственное, что я чувствовала, – странную боль в груди, словно тонула в замерзшей реке, угодив в полынью и оказавшись не в силах выбраться из-под толстого слоя льда.
– Ты не только шлюха, – вдруг ровным тоном прибавил Джон, – ты еще и дура. Потому что я по-настоящему любил тебя, я любил тебя так сильно, что женился бы на тебе и принял бы твоего ребенка, если бы ты все мне рассказала. Но ты предпочла лгать и обманывать, чтобы попросту украсть мое доброе имя.
Я вскинула руки, словно пытаясь защититься от удара. Я была уничтожена. Мой сын, мой драгоценный сын тоже был уничтожен. И я не находила слов, чтобы защитить нас, отвести от нас грозившую нам страшную опасность.
Джон быстро вышел за дверь и тихо закрыл ее за собой. Мои нервы были напряжены до предела – я ожидала, что теперь в западном крыле должна громко хлопнуть дверь, но никакого хлопка не последовало. Я расслышала только тихий щелчок открывшейся и закрывшейся двери, ведущей в библиотеку. И после этого в доме установилась такая тишина, словно и сам дом, и все мы оказались вморожены в вечность. Лед моего страшного греха убил даже теплое сердце Широкого Дола.
Я сидела, боясь пошевелиться и следя за солнечным лучом, который медленно полз по комнате, отражая неторопливое движение полуденного солнца по небосклону. Но этот луч так и не смог меня согреть; я продолжала дрожать, хотя мое шелковое платье стало горячим на ощупь. Все мои чувства были до предела напряжены. Я надеялась услышать хоть какие-то звуки, доносящиеся из библиотеки, но не слышала ничего. Лишь мирно тикали часы в гостиной, и этот негромкий размеренный звук был похож на сердцебиение, да из гулкого пустого холла доносилось более громкое тиканье дедовских часов, словно молотком отбивавших медленно текущие секунды.
Больше ждать я была не в силах. Я прошла по коридору и, остановившись под дверью библиотеки, прислушалась. Оттуда по-прежнему не доносилось ни звука, но там явно кто-то был. Я чувствовала, что Джон там – так олень чувствует готовую к прыжку гончую, – и замерла в полной неподвижности. Глаза мои были расширены от страха, дыхание участилось, став прерывистым и неглубоким. За дверью было настолько тихо, что мне стало страшно. У меня даже рот пересох. И я не выдержала. В конце концов, я была дочерью своего отца, и, как бы я ни была испугана, мой инстинкт требовал повернуться к опасности лицом и двинуться ей навстречу. Я повернула ручку двери, она легко подалась, дверь приоткрылась, и я замерла на пороге. Но потом, поскольку ничего страшного не произошло, все же осторожно вошла в комнату.
Джон сидел в разлапистом кресле с мягкими подлокотниками, положив грязнущие дорожные сапоги прямо на бархатную подушку сиденья, устроенного на подоконнике, и невидящими глазами смотрел за окно на розовый сад. В одной руке он небрежно держал стакан; бутылка знаменитого виски из подвалов МакЭндрю торчала между подушками кресла. Бутылка была наполовину пуста. Было ясно, что Джон в дороге пил, а теперь добавил. Он был сильно пьян. Я вышла на середину комнаты, и он, услышав, как по персидскому ковру прошелестели мои светлые, цвета слоновой кости, юбки, повернулся и уставился на меня. Его лицо показалось мне совершенно чужим – не лицо, а какая-то маска боли. По обе стороны рта у него пролегли глубокие морщины, которых там никогда прежде не было, и взгляд был совершенно больной.
– Беатрис, – сказал он, и это прозвучало, точно вырвавшийся из груди страстный вздох, – Беатрис, почему же ты мне ничего не сказала?
Я сделала еще маленький шажок к нему, беспомощно протягивая руки, повернутые ладонями вверх, и словно говоря, что ответа на этот вопрос у меня нет.
– Я бы все равно любил тебя и никогда бы тебя не оставил, – снова заговорил он. В глазах его блестели слезы, а на щеках виднелись дорожки от уже пролившихся и высохших слез. Морщины в углах рта казались глубокими, как раны. – Ты могла просто довериться мне. Ведь я обещал, что буду любить тебя и в горе, и в радости, что я всегда буду заботиться о тебе. Тебе следовало сразу мне довериться.
– Я знаю, – сказала я, и мой голос сорвался в рыдание. – Но тогда я этого не понимала. И не сумела заставить себя тебе признаться. Я так люблю тебя, Джон! Правда люблю!
В ответ он лишь застонал, мотая головой, откинутой на спинку кресла; казалось, что мои слова о любви лишь усилили терзавшую его боль, но ничуть ее не облегчили.
– Кто отец этого ребенка? – тусклым голосом спросил он. – Ты спала с ним, когда я за тобой ухаживал, не так ли?
– Нет! Нет, все было совсем не так! – воскликнула я, но под взглядом его измученных глаз невольно потупилась и стала разглядывать ковер под ногами – каждую ниточку, каждый элемент вытканного рисунка. Белая шерсть ковра блестела, словно ее только что состригли с овцы, синие и зеленые краски переливались, как крылья зимородка.
– Та фарфоровая сова имеет к нему какое-то отношение? – вдруг спросил Джон, и я даже вздрогнула, столь неожиданно острой оказалась его догадка. – Может быть, и матрос, с которым тогда разговаривала на берегу моря, с ним как-то связан? Я имею в виду того молодого контрабандиста, помнишь? – Его глаза требовали ответа; они проникали мне в самую душу, и я чувствовала, что он держит в руках почти все элементы этой головоломки, но никак не может понять, как сложить их в нужную фигуру. Наше счастье и наша любовь тоже были разбиты, и я не знала, можно ли из этих осколков воссоздать нечто целостное. Но в эту минуту, стоя в нетопленой комнате у холодного камина, я знала, что готова отдать все на свете, чтобы вновь обрести любовь Джона.
– Да, – выдохнула я.
– Он что, предводитель банды? – тихо спросил Джон таким тоном, словно я была одной из его пациенток, которую следовало пощадить.
– Джон… – проникновенно начала я и умолкла. Он соображал слишком быстро, и это заставляло меня идти по пути какой-то беспорядочной лжи, так что я в итоге и сама переставала понимать, куда иду. Я не могла сказать ему правду, но и выдумать такое оправдание, которое его бы удовлетворило, я была не в силах.
– Так он взял тебя силой? – спросил Джон, и в голосе его прозвучала почти нежность. – Он имел над тобой какую-то власть? Это связано с Широким Долом?
– Да! – прошептала я и посмотрела ему в лицо. Он выглядел так, словно его пытают на дыбе, и я заплакала. – Ох, Джон! Не надо смотреть на меня такими глазами! Я пыталась избавиться от этого ребенка, но он не хотел умирать! Я как сумасшедшая гоняла коня, я прыгала через препятствия, надеясь упасть. Я пила какие-то жуткие снадобья. Я просто не знала, что мне делать! Мне жаль, мне правда страшно жаль, что я сразу все тебе не рассказала! – Я упала возле него на колени и, закрыв руками лицо, зарыдала, как крестьянка у смертного ложа своего мужа. Но не осмеливалась коснуться даже его руки, лежавшей на подлокотнике кресла. Так и стояла на коленях, охваченная горем и ощущением невосполнимой утраты.
И вдруг моей склоненной головы с превеликой нежностью коснулась его рука. Я тут же отняла от лица руки и посмотрела на него.
– Ах, Беатрис, любовь моя, – надломленным голосом промолвил он.
Я еще чуть-чуть придвинулась к креслу и, не вставая с колен, прижалась к его руке своей мокрой от слез щекой, а он, перевернув руку, ласково принял мое лицо в углубление ладони и сказал:
– Ты пока ступай к себе. – И в его голосе больше не было гнева, была только глубокая печаль. – Сейчас я слишком устал и слишком много выпил, чтобы ясно мыслить. Мне кажется, это конец всему, Беатрис, но я пока не хочу говорить об этом. Мне нужно время, чтобы как следует подумать. Так что оставь меня.
– Может быть, тебе лучше пойти в свою комнату и попробовать уснуть? – осторожно спросила я. Мне хотелось, чтобы он лег в удобную постель и хорошенько отдохнул; меня страшили эти новые морщины у него на лице – следы усталости и сильнейшей душевной боли.
– Нет, – сказал он. – Я посплю здесь. Только попроси, чтобы меня никто не беспокоил. Мне надо какое-то время побыть одному.
Я кивнула, услышав в его голосе отчетливое желание поскорее избавиться от моего присутствия, встала и, подавив горестное рыдание, медленно побрела к двери. Джон ко мне больше даже не прикоснулся, но, когда я была уже на пороге, он мягко меня окликнул, и я тут же обернулась.
– Беатрис, ты сказала мне правду? – спросил он, вглядываясь в мое лицо. – Тебя действительно изнасиловал вожак этой банды контрабандистов?
– Да, – обронила я и, помолчав, прибавила: – Господь свидетель, я бы никогда не предала тебя, Джон! Это случилось против моей воли, а не по моему свободному выбору.
И он кивнул с таким видом, словно моя клятва могла послужить тем камнем, на который мы оба могли бы ступить, чтобы преодолеть этот поток горя и вновь воссоединиться на безопасном берегу. Но больше он ни слова мне не сказал, и я тихонько вышла из комнаты.
Первым делом я, конечно, решила пройтись и, набросив шаль, вышла из дома, не прикрыв свои каштановые локоны ни чепцом, ни шляпой. Всегда, если у меня начинало тоскливо ныть сердце, я стремилась на волю. Я быстро прошла через розарий, открыла садовую калитку и очутилась на выгоне, где паслись лошади. Узнав меня, они тут же направились ко мне и стали нежно тыкаться мордой, прося угощения. Но я лишь мимоходом погладила их, вышла через крытый вход на кладбище и по лесной тропе стала спускаться к берегу Фенни. Я шла не останавливаясь, забыв снять с себя домашние шелковые туфельки – когда я вернулась, эти туфельки были безнадежно испорчены: все в пятнах, в земле, промокшие насквозь. Мое красивое платье, надетое к чаю, волочилось подолом по влажным луговым травам.
Но я ни на что не обращала внимания. Я шла, высоко подняв голову и сжав кулаки, и слезы высыхали у меня на щеках. Я шла так, словно решила просто прогуляться и подышать воздухом, – так могла бы идти молодая жена, которая пользуется возможностью побыть одна и насладиться своей радостью по поводу благополучного возвращения домой обожаемого мужа, пересчитывая в уме все то, чем благословил ее Господь: рождением здорового сына-первенца, мужем, который мчался как сумасшедший, чтобы поскорее ее увидеть, и надежным красивым домом. На самом деле я отнюдь не пересчитывала дарованное мне Богом и природой; я оплакивала свою утрату.
Ибо я любила Джона. Я впервые полюбила мужчину, который во всем был мне ровней – ровней по положению, чего никогда не было у нас с Ральфом, да я никогда и не забывала о цыганской крови своего первого возлюбленного. Джон был мне ровней по уму и сообразительности, чего никогда не было у нас с Гарри, которого бесконечное чтение и приобретенные в книгах знания сделали скорее еще более медлительным во всем. Мой ловкий, стройный, красивый, умный, быстро соображающий муж сумел завоевать мою душу и тело, и это стало для меня совершенно новым, замечательным удовольствием, которым, как мне казалось, я никогда не перестану наслаждаться. И вот теперь наш мир и покой повисли на тонкой нити, мною же самой и спряденной, и одного дыхания правды было бы достаточно, чтобы эта нить порвалась. Мне не удалось завоевать себе надежное место в Широком Доле, хотя я сделала для этого все, на что только способна женщина. Темными ночами выплачивая свой «долг» Гарри, я забеременела от него, но надеялась, что этот ребенок меня спасет, а он стал причиной крушения всех моих надежд. Теперь мой муж легко мог от меня отказаться, и тогда меня с позором сошлют куда-нибудь или он сам увезет меня в далекие края, и я никогда больше не увижу свой любимый Широкий Дол.
Боль в груди, усиливавшаяся с каждым моим шагом, поднялась к самому горлу, и я со стоном прислонилась лбом к стволу дерева. Это был огромный, раскидистый конский каштан. Я потерлась о шершавую кору, и это подействовало на меня успокаивающе. Затем я повернулась, подняла голову и, прислонившись спиной к каштану, стала смотреть в голубое небо июньского полудня, на фоне которого толстые розовые «свечки» каштана сверкали, точно сахарная глазурь на любимом пудинге Гарри.
– Ах, Джон, – печально промолвила я.
Похоже, других слов у меня и не было.
Именно Джону мне меньше всего хотелось бы причинить боль, тем более сознательно. И теперь он мог навсегда меня отвергнуть; и мы никогда больше не были бы любовниками. Нет, я просто не могла поверить, что именно я причинила ему такую невыносимую боль. Не могла поверить, что в наших с ним отношениях уже ничего нельзя исправить. Мое лицо еще помнило тепло его приветственного поцелуя; и тело мое еще помнило, как крепко и страстно он обнял меня, обрадованный тем, что я жива и здорова. Беда пришла слишком рано; я даже и подумать не могла, что Джон способен на меня ополчиться, что он может перестать меня любить.
Я стояла под раскидистыми ветвями каштана, и лепестки цветов падали мне на волосы и скользили по щекам, точно новые слезы. Я чувствовала, что почти готова бросить в море весь Широкий Дол вместе с нашим домом, лишь бы не причинять горя моему доброму Джону, который так любил меня. Да, я была почти готова на это.
Я ждала успокоения, которое всегда дарил мне лес. Глядя в сторону Фенни, я видела среди покрытых молодой нежной зеленью деревьев промельк блестящей, вечно бегущей воды. Закрыв глаза, я прислушалась к любовному воркованию лесных голубей и далекому зову кукушки где-то в холмах.
Но древняя магия этой земли, всегда так легко меня обволакивавшая, сегодня на меня не действовала и ничуть не утоляла моей печали. Там, в библиотеке, остался человек, которого я любила, которому полностью доверяла. Он пребывал в страшном смятении и тщетно пытался уснуть, лишь бы не видеть ни меня, ни того ребенка, которого, как я надеялась, он полюбит. И единственный способ вновь завоевать его сердце и доверие – это отыскать в себе достаточно выдержки и хитрости, чтобы предпринять попытку все же что-то склеить, когда он проспится и протрезвеет. С этой мыслью и повернула к дому. Лицо мое было бледно, но глаза сухие, хотя сердце по-прежнему плакало у меня в груди.
Проходя через розарий, я сорвала одну из ранних роз, кремовую, как сливки, с темными блестящими листьями. Я принесла ее с собой и положила на свой туалетный столик, пока горничная заплетала и пудрила мои длинные каштановые косы. А потом, спустившись к обеду и царственной походкой проследовав к столу, я не выпускала эту розу из рук, крепко ее сжимая и терзая себе пальцы острыми шипами, как только слезы вновь слишком близко подступали к моим глазам.
Мама и Селия уже приготовились дразнить меня по поводу отсутствия Джона, тем более Селия заказала его любимое блюдо – дикую утку с лаймами. Но я посоветовала начинать обед без него, а ему просто отложить кусок утки, чтобы он мог поесть позже.
– Он совершенно измучен, – сказала я. – Он так ужасно долго ехал без отдыха, совсем один, зато с целым ящиком отцовского виски. Своего лакея он вместе с багажом где-то оставил, и тот еще наверняка в Лондон не прибыл. А сам Джон какое-то время ехал верхом, а какое-то время в карете, но совсем не отдыхал. Мне кажется, сейчас ему важнее всего хорошенько выспаться.
Та белая роза пролежала возле моей тарелки весь обед. Рядом с ее сердцевиной, имевшей чуть зеленоватый оттенок, белая салфетка казалась кремовой, а свет свечей – желтым. Гарри, Селия и мама непринужденно беседовали; мне лишь изредка приходилось вставить одно-два слова. После обеда мы перешли в гостиную; Селия играла на фортепьяно и пела, мама вышивала, а мы с Гарри сидели у камина и молча смотрели в огонь.
Когда принесли чай, я, пробормотав какие-то извинения, быстро вышла из комнаты и заглянула в библиотеку. Джон все еще спал, раскинувшись в своем кресле у окна. Он пододвинул к креслу столик, на котором стояли бутылка и стакан. С этого места он вполне мог видеть, как я, выйдя на прогулку, направилась к лесу, и, возможно, понял, почему так уныло опущены мои плечи и почему я еле переставляю ноги. Если тогда в его душе и шевельнулось сострадание, то он постарался поскорее утопить это чувство в виски. Одна бутылка была уже пуста и каталась под креслом; немного виски пролилось на бесценный персидский ковер. Джон, откинув голову на мягкую спинку кресла, громко храпел. Я вытащила из сундука дорожный плед, укрыла его вытянутые ноги и заботливо подоткнула плед ему под бока, словно больному. Но он так и не проснулся, и я, опустившись возле него на колени, прижалась щекой к его колючему, небритому, грязному лицу.
Больше я ничего не могла для него сделать.
И сердце мое ныло от боли.
Затем я выпрямилась, приклеила к лицу спокойную и уверенную улыбку и пошла назад, в освещенную гостиную, чтобы выпить чаю. Селия вслух читала какой-то роман, и это спасло меня от ненужных расспросов. А когда настенные часы в холле и гостиной звонким дуэтом пробили одиннадцать, мама вздохнула, выпрямилась, прекратила эту бесконечную возню с алтарным покровом и сказала:
– Спокойной ночи, мои дорогие. – Она поцеловала Селию, и та склонилась перед ней в реверансе. Затем чмокнула в макушку меня и потрепала Гарри по щеке, когда он отворил перед нею дверь.
– Спокойной ночи, мама, – сказал он.
– Ты тоже идешь спать, Селия? – спросила я.
Селия уже два года была законной женой Гарри, но свое место знала хорошо.






