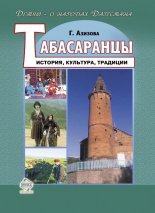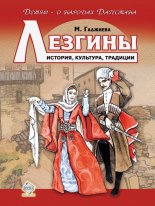Перехваченные письма. Роман-коллаж Вишневский Анатолий
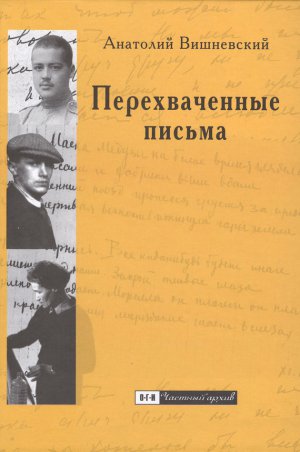
Когда в 1906 году на Аптекарском острове в Петербурге намечено было революционерами взорвать дачу Столыпина и так убить его вместе с семьей (и убили три десятка посетителей и три десятка тяжело ранили, с детьми, а Столыпин остался цел), — одна из главных участниц покушения, «дама в экипаже», была 22-летняя эсерка-максималистка Наталья Сергеевна Климова, из видной рязанской семьи. Она был арестована, вместе с другими участниками покушения приговорена к казни… Сама Климова не просила помилования, это сделал за нее отец, ни много ни мало — член Государственного Совета… Император помиловал двух участвовавших женщин… Заменили им на вечную каторгу… Начало срока Климова отбывала в Новинской тюрьме в Москве, там скоро очаровала и духовно подчинила надзирательницу — и с ее помощью устроила знаменитый «побег тринадцати»… Перебралась в Японию, а оттуда поплыла в Лондон — к Савинкову, снова в Боевую Организацию (террористическую). Под Генуей на «даче амазонок» собирались бежавшие из Новинской и другие политкаторжане. Тут она вышла замуж за революционера — эмигранта Ивана Столярова, родила от него двух девочек. В 1917 он уехал вперед, в петроградское кипенье, оставив жену беременной… Третья девочка вскоре после рождения умерла от испанки, двух старших мать успела выходить, но сама умерла.
Настолько тесно сходилась тогда в Париже вся революционная Россия, что нашелся из той же Рязани, с той же улицы, из соседнего дома сын рязанского судьи Шиловский, тоже политэмигрант, меньшевик, который удочерил и воспитал девочек (старшая из них — Наташа)…
Из писем сентября — октября 1932
Наташа Столярова — моя полная противоположность. Elle est dans la vie[135], и вот почему такое стремление у Бориса к ней — символу жизни для него.
Звонила два раза, отель, как видно, пуст, нет ответа. Дорогой мой, грусть моя (что не вижу тебя сегодня) бесконечно увеличивается оттого, что я знаю, как ты меня нетерпеливо ждешь. Но что делать? Борис пришел с утра и все сидит и ужасно несчастен, снова мучает его Наташа. Просил тебе позвонить, простить, что так «отличился» сегодня, но просит не гнать. Как быть? Очень жаль его и еще больше — выдать свое стремление к тебе, что еще очень и очень опасно.
Не знаю, смогу ли даже вечером его куда-нибудь услать, ибо Наташа запретила ему приходить до субботы, и от обиды он все плачет. «Как может она, видя мои страдания, так спокойно гнать меня?» Убедила его завтра с утра ехать к «снобу» до субботы вечером, чтобы было короче. Во всяком случае, если вы (ты с Мишей) будете уходить ненадолго, оставьте ключ в дверях. Как только уйдет Борис, примчусь к тебе. Милый, милый, милый мой. Ты не грусти, ради Бога, я тебя люблю и все время помню о тебе.
Все время гнетет мысль, что вчера мы с тобой обидели Мишу, боюсь, что в последнее время мы невольно часто его обижаем. Ведь наш счастливый вид ранит его, бедный мальчик. Думаю, что нужно нам с тобой приобрести новую внешность отношений (как летом, ведь тогда Мише было хорошо с нами, а теперь он даже чуждается нас). Одни мы будем у меня, ты будешь ко мне приходить часто. А у вас будем почтительными друзьями (счастье ранит больно очень). Ты согласен?
Котенок мой дорогой, мне даже бесконечно стыдно и страшно, смею ли я быть счастливой? — когда так плохо вокруг. Понимаешь ли ты, как ничтожны сравнительно наши внешние неудачи (невозможность никогда не расставаться и т.д.). Повторяю Борисово:
- Я не вижу тебя, но ты здесь,
- Я не слышу тебя, но ты есть…
Спасибо ему, что это написал для нас, правда, будто для нас, ведь да?
Если тебе нездоровится, сообщи мне днем. В случае если окажется, что моя сестра все-таки сегодня придет (я не могу всегда отсутствовать, она обидчивая девочка), я приду к тебе от 7 до 8. Милый Николай, милый (Боже, как я глупа, ничего больше, как «милый Николай» не приходит в голову), пожалуйста, не простужайся.
Только что ушла моя сестра.
Мой дорогой, маленький, ты не сердишься на меня? Милый, не сердись и прости, что я рассердилась в телефон. Я не могла прийти (а ты знаешь, что мне без тебя плохо, и жутко долог вечер), но нельзя обижать мою сестру.
Если бы ты точно понимал, как ты мне дорог, как ты мне нужен, ну понимаешь, нужен, нужен. Ведь от тебя исходит жизнь, тепло, здоровье, возможность жить для меня, а ты хочешь хворать. Николай, милый, не шути этим, я тебя об этом прошу. Да?
Люблю тебя, Николай дорогой, и прошу прощения за крик. Обнимаю тебя, ребеночек мой дорогой. Как хотелось бы уже примчаться к тебе.
P.S. Был у меня Борис, сидел долго, с энтузиазмом обсуждал и всячески развивал «ячменное общество». Когда я возвратилась сильно огорченная телефонным разговором, он:
— Да, если бы вы были женаты, ты могла бы его сечь за это.
Так что видишь, что нельзя об этом думать, не то придется тебя сечь. Ну, дорогой мой, дорогой Котенок, даже в письме болит сердце от расставания. До завтра. Спи спокойно. Христос с тобой.
Николай милый, письмо днем не удалось отправить. До семи (с трех) была все время с Борисом, потом дома — полный дом людей. Сейчас одиннадцать часов, лежу в комнате у Карских (в моей пьют чай). Пишу лежа. Устала, даже сидеть трудно. Но здоровье как будто ничего, только слабость осталась, а боль прошла. Завтра тебя увижу, и все пройдет.
Ты должен меня заставлять работать (писать и читать) у тебя, в твоем присутствии. Я ведь ничего не делаю почти в последнее время. Слабею и падаю духом. Думаю о тебе беспрерывно и часто зову тебя на помощь. Милый мой, как я тебя нагружаю.
Хорошо, что ты понимаешь необходимость, закономерность и обязанность жизни (ты знаешь, я так боюсь своего дурного влияния в этом отношении, за которое я не отвечаю, ибо в нем не виновата). Я не «вкушаю» смерти, не упиваюсь небытием, знаю цену жизни и пытаюсь учить жизни, но сама не умею жить, не хватает сил. Прости меня за это и не ругай, право, это не моя вина, и я не горжусь своим состоянием «немощности». Будь здоров, это важно. Будь радостен, дорогой. До завтра.
Из записей октября — декабря 1932[136]
Татищева нет, и почему я всегда так робею, когда прихожу в чужое место, почему также они были все так вежливы? Весь промок и жарко. Гегель труден, но лучше, то есть ближе, не напишешь…
Что же делать, нужно как-нибудь устраиваться вне христианства, если и дверь смерти, и магическая дверь передо мною не раскрываются. Observer dans la position des stociens et des yogis. Tranquille[137]. Дина близка, но страшна. Наташа далека. И все сначала.
Как жалко все-таки, что я не увижу тебя завтра: «Каждую минуту, когда ее нет, помни, что она могла бы быть и что ей не хочется, потому что она — не любит». И нет сил с ней бороться — заставить себя не любить… В среду она дошла до судороги в руке, до слез, до того, что сама меня поцеловала. Но эта школа боли дается ей трудно, и сегодня было письмо: «Мне слишком больно, я беззащитна».
Серый день на дворе. Дина шьет, уже сумерки, вчера целый день переписывал, спешил, ходил куда-то, вернувшись, заснул, не раздеваясь, от печали. И нет больше сил с нею бороться…
Светлая полоса началась с момента, когда я решил работать тогда на бульваре Edgar-Quinet, возвращаясь от Дины. Как тяжело было у Цили: ужасный Дряхлов, пьяный Проценко, искалеченная Раиса, к которой я таки не пойду, хотя красива и привлекательна стала она до странности. Татищев с расквашенной губой на метро Maine.
Боже, как быстро темнеет, ноябрь, ноябрь.
Хамство Наташи в телефон. Слезы. Разговор с Диной: ангел, ангел, я дьявол, черный, как огнь.
Четыре часа, спал немного и выпил чаю, относясь к ней спокойно.
Paroles sans suite[138]
Удивляюсь смерти в себе общественного человека, и как мало интересуют меня сейчас собрания, журналы и вообще Россия. Я обнищал этим, ибо он занимал много места на поверхности вместе со своей наклеенной бородой, вообще — клюква. Но зато лучше себя будет чувствовать личный человек и религиозный человек, особенно личный, который долго был у меня в загоне…
Наташа вызывает во мне слишком сильно древнего человека. Характерна для силы ее личности ее скрытность. Рассказать — это пустить другого в мир своих воспоминаний, а она хочет объемлеть тебя, но не быть объемлема, превратить тебя в объект, сама же оставаясь невидимой.
Пятый день мук, вчера будто уже и не помнил, был истерически весел. Сегодня с утра трудно, трудно. Но нужно дать ей возможность понять, прежде, чем все кончится. Физическая боль при мысли, что вдруг она не захочет встретиться, но все равно нужно было решиться на что-нибудь.
Какой все-таки сегодня счастливый день. 1. Я написал 10 страниц Каббалы Сексуалис. 2. Я молился в двух церквах почти час. 3. Я видел тебя, родная, обиженная, ласковая девочка. Какое все-таки счастье жить. Да, еще я заработал 10 fr., писал эти билеты для папы, засыпая. Сейчас еще буду делать гимнастику, таскать свою гирю. Боже, как хорошо жить. Спасибо, спасибо, милая, дорогая, и дай тебе Господь счастья.
Кот моет свою лапу. Солнце. Как боязно все-таки с Числами.
Письмо, мокрое от слез
Только теперь я сделался по-настоящему религиозен в старом смысле. Только теперь приобрел страх Божий, ибо раньше что мог он у меня отнять? Теперь, когда впервые средоточие моей жизни находится вне меня, я безумно боюсь Бога и благодарю Его, когда хоть несколько дней Он еще не отнимает его у меня. И по-настоящему страшны стали неудачи, мое сумасшествие, которое я ношу в себе, нищета и безродность, нет, не для меня, а вот все, что приношу в приданое лучшему меня, и мне хочется бежать, мне так отвратителен я сам, что хочется прямо убить себя, избавить его от себя. Прости меня, Голубь, ты слышишь, прости меня — не за то, что я делаю, а за то, что я есть.
Дни безумной радости, страшной тревоги, непрерывного ясновидения. Дни совершенно вне себя, как будто душа лишилась кожи, минуты бесконечного беспричинного счастья, особенно на улице утром, где все время зима похожа на весну. Да, конечно, ты не заслужила такого человека, а гораздо лучше. Твоя голубиная правота приводит меня в ужас, я настолько чувствую себя до дикости difforme[139], искалеченным, пере- и недоразвитым, что у меня голос отнимается в твоем присутствии, и я могу только деревянно улыбаться и ждать, когда кончится мука встречи и начнется мука ожидания встречи. О Господи, если бы Голубь мог меня успокоить, сказать что-то, что уже дает, скупо, но честно отдает безвозвратно.
Если тебе будет грустно, мне тоже будет грустно весь вечер. Спасибо, ну, спасибо, милый. Бог тебе заплатит за все это, ибо я слишком беден, но я так тебя люблю, и неужели бедные не имеют права любить?
Спал пять часов, выпил черного чая. Бог помогает меньше ее любить. Так можно жить.
Сладострастие из сострадания кажется мне теперь убийством из сострадания, сердце мое обратилось. «Утешу их теплотою своего тела», — говорят лучшие, добрейшие женщины. И убивают себя и их из сострадания. Ибо сладострастие без любви есть страшная жестокость. А я думал раньше: только жестокость есть грех, сладострастие же утешение, оно добродетель.
Утешить страдающего хотели и С. и Д., и обе растратили, погубили жизнь. Только Д. — любя, и поэтому она сохранила красоту, но теряет жизнь, а С. даже и не любя, и потому она представляет зрелище сущего чудовища — здоровой краснощекой красавицы, совершенно лишенной магической, электрической притягательности, и потому она, если не поймет, будет неудачницей, заплатит уродством, страшной смертью.
Зачем ты меня так унижаешь? Так глубоко обижаешь, так ломаешь. Ведь вот я сейчас мог бы вернуться домой человеком, я мог бы даже написать что-нибудь, и вместо этого я сейчас жалкий трясущийся скот, который только плачет и плачет. Боже, как легко ты обращаешься с чужой жизнью. Из-за какой прихоти, из-за какой чепухи оставляем мы тех, кто не могут жить без нас, на эту страшную, несравненную муку — ждать, ждать, ждать. Боже, кто выдумал эту муку? И тебя, изверг, накажет все-таки Бог, и ты, как я, обливаясь слезами, будешь ждать, не жить, а только ждать. О, будь ты проклята, проклята. Хоть бы заболела, хоть бы ты умерла, изверг, скот, мучитель жестокосердный. Ты хочешь сломать меня, чтобы я виделся с тобою, как раб, против своей воли, сломанный мукой, против чистоты уважения к себе, свободы. Тебе нужен такой сломанный человек.
Берегись, зверь, если ты меня доведешь до смерти, ты тоже заплатишь, и ничто тогда уже тебя не укроет и не спасет. Как я ненавижу тебя, в точности, как нищие — Плюшкина, который, расспросив их, любят ли они есть, и, перечислив разную снедь, спокойно уходил, прибавляя: «Ну, Христос с вами». Так оставайся со своим богатством, пусть прогниет твоя сила, как плюшкинские амбары, ломящиеся от хлеба. Будь ты проклята, проклята, проклята. Бог тебя накажет, гад холодный, отвратительный, лживый и скользкий. Ну, погоди, худо тебе будет.
Опять спал, не раздеваясь, вчера целый день играл и плакал. А я мог бы жить и радоваться. За что, за что все это?
Стихотворение Дины
- Так Гамлет в Англию за смертью уезжал,
- А смерть его лишь в Дании настигла.
- Где смерть, где жизнь, провал, провал.
- Принц Гамлет на корабль вступает.
- Ты хочешь жить, мой друг,
- Не знаешь как? И я не знаю тоже.
- Нам надо жить тепло, светло,
- Да только не выходит это.
- А в чем вина? Когда и где
- Мы чудо жизни растеряли
- И так устали.
- Так возвратимся ж в Данию, мой друг.
Воскресенье, 4 декабря 1932
Из записей декабря 1932
Интересно знать, что, собственно, она думает обо мне, зная, что достаточно было бы ей сойти на двадцать минут вниз, и я целый день радовался бы жизни: ел, мылся, работал, учился бы… Но теперь уже ничего не надо, ибо как не отомстить когда-нибудь за этот жест, когда она выхватила у меня из рук свое расписание уроков. По которому было бы ясно, что никаких лекций позже девяти часов у нее не может быть. Да еще в воскресенье. Она именно из таких, каких убивают топором, бритвой, стулом, — не знаю. Гроиня с первой страницы Paris-Soir. Как все это грубо, тяжело, обидно. Хамская кровь, не уважающая человеческого достоинства. Унижающая с наслаждением. Со скукой. Ей скучно в пустоте ее. «Это мое обычное состояние»…
Какая все-таки страшная освобождающая сила заключается в молитве, я долго боялся ею пользоваться. Боже, освободи меня, который может работать, радоваться Тебе, жить вообще, который приспособлен к Твоей жизни, от этого страшного прорыва в кровяной системе.
Печка слабо шумит. Чувство дикой свободы и страха перед Богом, не перед нею, а перед Богом.
Никогда я так не освобождался от тебя, и никогда я так, со стороны, свободно, не мог отнестись ко всему нашему. И никогда также с такой яркостью и дикой силой не снилась мне другая жизнь, чистая, как стекло, яркая, как лед на солнце, который, не тая, сияет. Умыться на холоде от грязи литературы, вступить всеми четырьмя ногами в нищету и в науку. Ведь мне очень страшно вмешиваться в жизнь, работать, иметь семью. Все это страшно, а самое страшное — телесная жизнь с тобой, которую до боли невозможно себе и представить, Голубь.
Много ли нам нужно будет денег, чтобы быть счастливыми? Только вот дети. Но если ты меня полюбишь, то, значит, и поймешь страх мой перед всем этим, согласишься подождать, дождаться лучших дней, ибо какая мука, какой позор — несчастные дети.
Теперь, когда ты уверена, что я тебя ненавижу, мне так легко, так тепло и так невольно любится. Как хочется без объяснений, без самолюбия прижаться к твоей теплоте и мурлыкать, бормотать что-то смешное, детское. Мама, мамочка, зачем ты так мучаешь меня своим отсутствием, доводишь им до таких слез, до такого озлобления? И понятно, что если это есть «веселая жизнь», никогда не поверит сердце, что Бог всего этого не проклял, что это все не грех.
Печка шумит. А что, если ты не захочешь помириться? Тогда к черту все, ибо тогда, значит, ей не стыдно делать больно.
Пуся ушел, обидевшись. Но что бы было, если бы я еще пошел играть. Жестокая тварь. Как она меня истребляет.
Triste paysage de guerre[140]
Целое утро, как и вчера, я готовился ей позвонить, и какое-то дикое, грубое оживление было и в ее голосе. И снова день вычеркнут из жизни. От обиды и волнения не мог уже ничего делать, ретушировал немного, думая до боли в сердце, что скажу на суде, если убью эту гниду Гашкеля, и какое это будет освобождение — тюрьма, цепи, океан, Гвиана, Бразилия… Потом устал от этого до тошноты и заснул днем от четырех до восьми; сейчас с тяжелой головой и с ненавистью в сердце сел писать. Удивительно все-таки, как я могу заниматься — только когда ее ненавижу. Утром светлая Дина. Аполлинер. Холод солнца.
Вчера милый Татищев в кафе, где я понял, что все четверо связаны накрепко. После разговора страшный мистический подъем, и десять раз молитва на коленях посреди rue Глясьер. «L'homme que j'ai tu»[141], и все время сзади шаги. Не оборачиваюсь, это — дьявол.
Rgion dvaste[142]
В Дине, благодаря тому, что ее тело не защищается и что она не была никогда счастлива, мука победила совершенно, и здоровая безжалостность жизни и вообще отдельных судеб ей стала ненавистна совершенно. («Религиозная проституция из сострадания», — сказал злой голос). Ей именно потому хочется поссориться с Николаем, что ей какое-то счастье его видеть и что это «заинтересованно». Но именно таким нечего дать, ибо они не сумели ничего скопить, не берегли ничего, и жизнь уже растрачена. В ней недостаток самосохранения, в котором и я виноват. Ибо, тоже никогда не знавши счастья, никогда не веря в него совершенно, ни в жизнь, я считал, что так правильно было жить вместе, из сострадания, столько лет и этим губить друг друга, отрываясь все больше от жизни. Это сладострастие имело вкус дикой грусти, жалости, звездного холода, какого-то дикого бесконечного одиночества. И оно всегда воспринималось как какое-то падение, а идеалом всегда была стоическая святость. Так я состарился преждевременной собачей старостью какой-то. О, проклятое: пожалеть до конца и умереть — сколько оно мне стоило!
В Наташе же противоположная крайность. В ней сила растущей жизни, никогда не преданной и не растраченной, дико боится в нас и во мне того, что есть еще полумертвое от этого нас. Жизнь в ней, независимо от нее, боится дико, что это ледяное и щемяще прекрасное не любит «своих» детей, ибо чужие ближе, не любит необходимой победы в жизни, ибо неудача трогательнее. И инстинктивно она тянется к этому бессильному, слабому, как ручеек, Гашкелю, который подчиняется совершенно, с которым будет нестрашно, ибо он никогда не посмеет ее ослушаться… Со мной она будет, может быть, неудачнее, но ей всегда будет интересно, ибо я, полуразбитое, полуискалеченное, но уже полувоскресшее к жизни растение, а жизнь после воскресения несравненно прекраснее, ибо это начало, и все оживет во мне, все расцветет, если она поверит, что это начало, только начало…
Татищев сперва перехватил, потом перераскаялся, и сейчас Дина за собою на глазах выводит его из жизни, уничтожая заговор, сон их о счастье. Но если Дина его покинет и останется умирать, доживать вне жизни, одна, всякое счастье с Наташей сделается для меня невозможным, и я тоже уйду из всякой жизни — для ледяной, но, в сущности, золотой победы своей. Ибо я уйду из жизни не разбитый, а со всем богатством и со светом воскресения, отдыха Бога над собою. Но для этого мне нужно будет самому «бросить» Наташу, а не быть брошену, ибо только тот, кто сам выбрал свою судьбу, может ее вынести. А я имею на это право, потому что я честнее ее и на большее играю… Если я прав et il у a un Gachkiel cach qui explique tout[143], все ближе время, когда она поймет, что нужно выбрать сразу и «brutalement»[144], ибо обе истории погибнут из-за этого, ибо уже вышло на поверхность древнее дно мое, холодное ангельское отвращение и злоба, а она из жалости продолжает посещать свои лекции после обеда. А если я брошу, утешаться Гашкелем она не захочет, она бросит все и уедет.
(На полях: Это все потому, что ты такая скрытная и не понимаешь, что, не зная, всегда выражаешь злое. Ты же добрее, чем мог я думать, потому что ты — живая благодать, которую послала мне Матерь Божия. Пожалев меня и видя, что «так» я уже не спасусь).
Отношение ее к Гашкелю — это тоже религиозная проституция и убийство себя и «ангела» из сострадания. То же, что у меня было с Диной и что будет наказано преждевременной старостью. Она от него бежит в Россию, но этот мерзавец побежит за нею, как плющ бежит за деревом, которое отстраняясь от него рвется к солнцу. Mais ici gare au coup dur[145]. Она-то поедет в Россию, но и Гашкель, и я поедут. Он на кладбище, а я dans le pays des grandes prires, du grand soleil, des vrais athltes et du vrai vent[146]. Так я послужу ей на прощанье.
Играл в карты, и это меня освежило. Посередине вдруг с такой радостью вспомнил, что забыл о ней.
Просто не нужно ее любить, и напрасно я вчера утром сам повалил ту стену, которая выросла во время тех молитв, которой оградила меня Пречистая Дева от ее эгоизма. Если она не хочет играть на все кровные, я не хочу играть ни на копейку, потому что вообще не хочу «играть», а жить и работать по-взрослому.
(На полях: Не преувеличиваешь ли ты, — сказал голос, — дай ей сжиться с тобою, срастись радостью взаимного заговора: «Мы против всех». Нет! Все это было бы возможно, если бы она была откровенна. Скрытность — это мертвая стена).
Soleil et nuages de la vie nouvelle[147]
«Вчера был, может быть, самый счастливый день моей жизни», — сказал я Пусе в синема. Возвращаться было холодно, но свет долго не хотел погаснуть. День необыкновенно чистой и яркой погоды. Как мне независмо сейчас, думал я на rue Glacire, наслаждаясь здоровьем, холодом, здоровьем своим, свежим розовым отблеском неба. Однако в кафе после долгого ожидания произошла заминка, где-то после радостной встречи. Все кончилось в страшной нервности и опять зажглось, едва я вспомнил.
Сегодня с утра — снег, ходил нарочно час по городу, опять радуясь здоровью и с большим толком заставляя себя не бояться смотреть людям в глаза, измучился, но в каком-то диком волевом торжестве вернулся домой.
Как я смел тебя ненавидеть так еще позавчера, мне стыдно, право. Ты не думай, я не шучу с этим словом и редко им пользуюсь. Сегодня удивительный нервный покой.
Счастливые минуты. 1. Разговор «по-простому» на улице. 2. Когда ты позвала меня в дом, а я, уже и так счастливый вполне и довольный, готовился уйти. 3. Разговор о Шатерлее, безошибочность твоего чувства художественности и неискусства. 4. Расставанье в комнате, когда ты «звала гостей», как говорила Дина, уткнувшись милым своим лицом в мой рукав. 5. Поразительное удовольствие, когда я сказал, заметил, как хорошо сделано у тебя это место — от края глаза до уха, что-то мистически очень хорошее в тебе за этим. 6. Удивительная разность, мгновенная смена ощущений, радостных и мучительных…
Я обнимаю тебя рукою вокруг талии. — Чувство крепости руки своей и удивления, уважения к крепости тела, nos gars du quatrime[148]. Товарищеский покой.
Если рука, так обнимая, случайно касается боков, — чувство мучительной мягкости, боль в руке и в груди, сразу чистая мука, — не мучительно сладко, бррррр, какое выражение, — а просто мучительное и не сладкое. Все остальное — бедра, колени, ноги — не мучительно, потому что ощущается совершенно покой, возможность спокойно поцеловать. Отсюда невозможность тебя представить неодетой. Но зато возвращенье из забытого совершенно, из юности, удивительно нежное сердцу чувство одежды, так что и волосы я воспринимаю иногда физиологически одинаково, как какую-то экстериоризацию, как пояс, пальто, перчатку, как часть тела.
Конечно, сегодня был не самый счастливый день в жизни, но просто никогда я тебя еще так не любил (как грубы слова!), с мучительной благодарностью какой-то. И, по-моему, ты поняла, что страшно сперва: «так она меня не полюбит», потом: «так она не будет счастлива». Самое трудное — это равновесие между нашими правдами. Ибо если в тебе победит одна земля, ты потемнеешь, ослабнешь, дойдешь до последней пустоты. Если только материнское небо, ты состаришься, не живя, нальешься водою от грусти и тоже погибнешь. Нужно, чтобы огонь сперва поднялся на небо, потом спустился на землю.
Нет такого второго, более «физического» человека, чем я. Тело для меня — Божественное откровение души, явление ее. Но странное дело. То же тело, которое только что было так прекрасно, как воплощенная доброта и сила, как живой разум, вдруг от одного «не такого» взгляда становится страшным, как грех, как смерть, и то же лицо, сиявшее только что голубиной силой, вдруг становится уродливо, львино-свирепое в силе своей.
Достаточно было увидеть Дину, как страх и боль сковали все вокруг, и все в душе будто умерло.
(На полях: Перечитано в один присест. Папа режет салат, остря над Сталиным. 18.6.35).
Мама дико ругалась. Опять страх работы. Дело без смысла. Без причины жить. Дожить до завтра.
Mais pourquoi toute vie?[149]
С утра оставьте меня в покое, буду спать до завтра. Не хочу вставать, не хочу жить. Ну хоть для того, чтобы завтра ее увидеть, нужно же сегодня пойти за молоком и т.д. И вдруг: а зачем и завтра видеть? — Потому что она жизнь, прекрасная жизнь. — Да, но все-таки она жизнь и, следственно, мука.
Вот что получается, когда ты меня оставляешь, бросаешь лечение счастьем. Ведь я столько лет делал то, что правильно, или грыз себя поедом, что не делаю, что от этого сплошного принуждения хочется только закрыться одеялом, отсутствовать, выпить что ли чаю, поиграть на балалайке и умереть. Почему на балалайке ведь ты не умеешь? Так потренькать, без отвратительности. Сразу видно, что Кант делал, что делалось (писал, дрочил и т.д.) и никогда по-настоящему не принуждал себя, ибо такая смерть и забитость, загнанность остается от этого в душе, что только бы спать, спать, спать.
Для того, чтобы я включился в день, проснулся, ожил, нужно, чтобы я в чем-нибудь видел не ценность, а радость, то есть, чтобы какая-нибудь ценность сделалась бы радостью для меня, ибо я знаю, как дорого стоит радость вне ценности. Ибо я дико устал от нерадостного добра, от правильности без счастья, от самопринуждения.
Лечение счастьем. Я лишил его Дину по ошибке Николая, и Дина, может быть, умирает. «Чья вина?» — спрашивает совесть. Вина Николая, что грубиянил, а за ней вина жизни, войны, хамской среды, откуда он вышел. Вина Дины, что она уступила, а за нею вина жизни, что измучила, и моя, что мы считали позволительным сладострастие из сострадания, религиозную проституцию. Ее — что она так долго соглашалась со мной жить и дышать этим ледяным воздухом. Моя — что я никогда не видел счастья, никогда не ценил правильной, доброй сексуальности. И всегда «все равно», «хотя бы на это», «ну хоть пожалей меня», но за всем этим вина семьи моей, которая не дала мне любви к жизни, ибо с детства мучила. Вселила в меня от начала неуважение ко всякой семье. А за ней вина, ошибка их родных, и за ней в бесконечность — вина бесконечной ошибки за ошибкой.
Даже чтобы писать это, требуется заставить себя, и как я завидую чудовищам честолюбия вроде Шопенгауэра (и сколько этот «порок» вызвал к жизни прекрасных вещей). Это я пишу для тебя, и все вообще буду теперь писать только для тебя, и вместе с тем глубокая сила протестует во мне против тебя и борется с тобою.
Как странно, говорит она, я освободила тебя от боли, от судьбы и от Бога, ибо только жаждущего жить они могут мучить, и теперь ты сам возвращаешься во власть судьбы и Бога, ибо новая твоя мучительная религиозность происходит от страха Божьего, а не от любви, ибо теперь есть у него что отнять у тебя. Я же учила тебя готовиться к борьбе, освободиться от всякой жажды. Впрочем ты еще сможешь ее истребить, для этого тебе только нужно проникнуться всеми силами пониманием унизительности этой любви и развить в себе мстителя.
Но когда я его вызываю, я слышу голос Христа (его ли?), который отговаривает меня:
— Ты не смог достичь воскресения один, и она не сможет. И в том твоя вина, ибо это — твоя жена, которую ты оставил демонам, уйдя в монастырь когда-то. — Что за чепуха, — думаю я. — Убивая другого, убиваешь себя, обижая другого, уничтожаешь себя. Она теперь не достигнет иначе воскресения (родины, ибо родина — ее воскресший Иерусалим, посреди которого растет дерево жизни).
— Да полно, — говорит другой голос. Она будет менее интересно счастлива, но она не пропадет, выйдет за еврея, забудется с детьми. Она тебе нужна или ты ей?
И сразу легко и пусто становится. «Если я ей не нужен, и все так трудно, и мне так страшно, не лучше ли уступить мстителю?»
И снова голос Иисуса:
— Да, тебе не нужно, но пожалей жизнь, пожалей ту цепь причин, которая тебя создала… Послужи будущему, освежив, очистив ток времени и оставив после себя живое наследие своего откровения жить, цвет волос, склад характера своих детей, ибо если ты так силен, что можешь вовсе вырваться из цепи, отказаться от происхождения, они же, в смирении своем, понесут этот воплощенный свет дальше.
(Я понял о детях и молился истинно, но молитва моя — это написать).
В бесконечной цепи причин начало находится повсюду. Всюду, где раскаяние, понимание, преступление или ошибка вбивают гвоздь исключительной минуты, начинается жизнь и творится мир сначала. И через тысячу лет, если ты оставишь ее, ты встретишь ее опять, ибо ваша река уже имеет русло, и это внутри его вы колеблетесь вниз и вверх. Отсюда страшная обязанность к Дине (и сразу мне стало темно, ужас непоправимого объял меня, и руки мои лишились силы. В то время как голоссказал:
— Только через Наташу, любя ее, ты спасешь Дину, — и это уже действительно важное слово)…
— Какое мне дело? — говорит другой голос, — si je les quitte toutes[150], — и на этот раз сделалось молчание.
Милая Ида, пишу вам в беспокойстве, оттого что вчера, м.б., много лишнего наболтала. Я вас очень-очень прошу никому (и в частности, Дине) не говорить о том, что я узнала через Бориса. А то может выйти сплетня, а я не хочу их (Бориса и Дину) ссорить.
Я вас очень прошу об этом и пишу потому, что забыла именно о Дине сказать, потому что она просила Бориса, кажется, не передавать ничего дальше.
Кроме того, хочется сказать вам, что вы — дуся и еще умнее и тоньше, чем я думала. И это независимо от того, что вы обо мне думаете и не говорите.
Да, и еще, ради Бога, никому ничего о Котляре, это самое главное.
Ну вот и все. Надеюсь вас скоро увидеть
Сердечный привет вам и Сергею (отчество??)
Н. Столярова
Из записей декабря 1932
Дина воспитывала во мне боль и делала радость невозможной. А Наташа не допускает до себя боли, и опять все чужое.
Между прочим страдание это не мое (я en soi[151] счастлив холодным светом своим), а оно порождено этой же заинтересованностью в жизни, которую она во мне воспитывает. Я чувствую себя попавшимся в чьи-то лапы, связанным, наконец, как Геркулес в тунике Омпалы, ужас и печаль сменяют радость и могущество.
Вчера я опять плакал, а она была без заботы добра и невнимательна, нежна и равнодушна, как всегда. Вообще все идет прекрасно, когда я усваиваю ее настроение, но она совершенно неспособна заметить мое. Видимо, мне всегда придется жить в каком-то искусственном подъеме, деланной радости. И потом страшное чувство ответственности меня давит, не прячу ли я от нее страшную правду боли для того, чтобы понравиться ей?
Нет, пусть лучше отвергнет, устанет, наскучит таким, как я есть, чем полюбит cette belle personnalit de parade militaire[152], в которую я так легко вхожу, когда я здоров, и с таким трудом надеваю, когда я хандрю. Полюби нас черненькими. От всего этого усталость и какое-то дикое разорение и унижение, подобно тому, которое испытывает нищий молодой человек, из последних денег играющий богатого. Только я знаю себя: чем ниже я поклонюсь сперва, тем выше выпрямлюсь. И к чему это все?
Рождество расцветает над лоном печали. Но нет, мне не будет грустно, я больше не хочу грусти, мне грустно от грусти и стыдно грустить. Вчера я шел каменный по вечернему оживлению, и конечно я был не прав, ибо бывают такие неудачные дни, нелепые встречи, не начинающиеся разговоры… Хотя есть и тепло в сердце, и сто тысяч даже не начатых тем.
Поразило меня на этот раз то, что я называю ее красотой, такой совершенной, такой грубой, древней и такой нежной и легкой, как тень: удивительная музыкальная однородность всего, смесь тяжести и нежности, неуклюжести и удивительной грации, мягкой, хотя она «все и валит на своем пути». Особенно волосы, которые я впервые рассмотрел внимательно, ибо не так был (не любя ее) ослеплен ее взглядом. Более красивых волос, совершенно золотых, тонких и мягких, как воск, я никогда не видел. Волосы всех знакомых моих кажутся сделанными из проволоки рядом с этими. Кроме волос Дины, которые торжественно неподвижны — величественны. Глаза же не так красивы, как я думал, но огромные, их жесткий и наглый взгляд — чудовище самодовольства.
Нет, я хочу ее любить. Это я виноват, что я ее не люблю, что я измучил себя до того, что мне больно с нею. Напугал себя до того, что мне страшно с нею. И стыдно плакать теперь, когда она так обращена ко мне, хотя скорее позволяет себя любить, чем сама любит. Впрочем, скрытная, как все звери, она знает, что, не показывая это, глубже растравит муку любви к ней. Так инстинкт ошибается, и получается вовсе наоборот. Я прихожу в отчаянье от этой непроницаемой веселости, и мне кажется, что я совсем чужой для нее. Я больше ничего не буду себе запрещать, но ничего не буду себя заставлять делать. Если молчится — буду молчать весь вечер, если захочется говорить тебе злое — буду говорить, но грустно и просто. Только я хочу тебя любить, любить, любить. Потому что это правильно.
…Ты опять замучена, и глаза твои закрыты веками от меня.
(На полях: Mais je ne peux pas travailler aujourd'hui[153], я слишком волнуюсь, хоть это и хорошо, потому что я хочу, я буду, я должен ее любить).
До чего мы похожи. Как мы мучились оба в кафе Мажи, так что даже томные французы нас жалели. Вот видишь, и сейчас еще время тебе уйти к здоровому и молодому. Но ты в безумии своей доброты и чистоты только прижимала мою руку к себе.
В безумии хотел в Кермесс[154] ломать аппараты (и действительно побил все свои рекорды), потом пошел в церковь, где шла служба, и молился, прося объяснить мне, что правда: расстаться с тобой или вечно тебя беречь, — просил вылечить меня, чтобы я любил тебя, не сомневаясь.
Страшное гадание около театра Одеон.
Я не нуждаюсь в тебе, потому что не нуждаюсь и в жизни. Но я презираю свою победу. Я нуждаюсь в труде, в Боге, в цели, в чем-то, что позволит мне за нею пойти, полюбить жить. Венчаю вас на радость и на горе. Как страшно.
Иногда горе помогает. За то, что она так жалостлива, за муку ее в сердце раскрылась бездна тепла и света к ней.
Боже мой, хуть бы это кончилось все. Как я устал от этой борьбы за твое внимание, за твое участие. Семь месяцев дикого напряжения нервов, слез, горя — и никогда, никогда ни единого теплого слова, и только этот вечно торжествующий, победоносный взгляд. Как мне все-таки не стыдно соглашаться на такие отношения. Никогда ни единого мгновения ты не интересовалась тем, каково мне. И потому мысль о встрече так тесно связана теперь у меня с чувством ожидания какой-нибудь новой грубости, новой обиды и невнимания, что в общем и не хочу тебя видеть. Мне просто очень больно тебя не видеть, но видеть, вероятно, еще тяжелей. И нет сил жить, дома такая нужда, нищета, нет сил работать. И зачем вообще ты со мной встречаешься, если в те краткие минуты, когда я тебя вижу, ты сосешь палец и даже не интересуешься со мной говорить ни о чем.
Боже, как я устал, как я измучился, как дорого мне все это стоило и как хочется мне, наконец, работать, работать, отдохнуть, потом начать чувствовать себя, видеть людей, которые хоть немного меня уважают, и ценят, и не третируют так, полностью вышибая из меня окончательно всякий интерес к моим тетрадям и книгам. Я даже больше не могу и плакать, я как-то отупел от обиды, и хочется только зарыться с головою и спать, избавиться от мучения, победить эту жалкую слабость воли. Я не только не заинтересовываюсь в жизни, а всякая жизнь становится мне отвратительной. Боже мой, Боже мой, зачем ты меня проклял, заставил всю жизнь встречать только хамов или безразличных, слабых людей, с которыми мне еще хуже. Я уже не знаю, что пишу. Будь проклята ты и вообще оставьте меня все, все.
(В тот же день.)… Чувство смутного недовольства собою, подобного крику младенца или страху человека, впервые просыпающегося в иной, чуждой стране, какой-то глухой муки, ощущается мною всегда задолго до рассвета, при первом убывании ночи, «фиолетовый звук на большой высоте», petite phrase de Vinteuil[155] у Пруста, ее описание близко его мне напомнили.
Почему так мучиться? Проснись, утвердись посредине потока, если это только униженье и страх.
Для запутавшегося Люцифера, кроме Иисуса, величайшим лечением и спасением может оказаться именно брак, как школа смирения для него и глубокоелечение счастьем. Огромное значение имеет для него отнестись, наконец, хоть к одному человеку так же, как к себе, и даже лучше, ибо брак есть магическое раскрытие железного обруча одиночества, сдавливающего ему сердце.
Вчера Дина со слезами, но радостно и благодарно, сдалась на мои слезы и уговоры и согласилась поселиться вместе с Николаем. С чувством невероятного радостного облегчения шел по Edgar-Quinet, будто меня простили, отпустили мое прошлое, выпустили на свободу. Теперь я буду спокоен, кто-то — и кто-то очень хороший и внимательный — будет о ней заботиться. И это сделала Наташа, а без нее мы безрадостно, темно и безжизненно-чисто жили бы в Медоне, и все трое, я, Дина и Николай, были бы истреблены, медленно отрывались бы от жизни под незримым пеплом мистическо-физиологической ошибки, и она не захотела бы жить. А теперь я верю, что она найдет силы справиться.
Как Дина меня обрадовала. От радости я все простил тебе. Молитва моя исполнилась. Прошлое заживает. Жить и дышать возможно опять. И снова страха нет, теперь я воспринимаю это отсутствие страха как зло, ибо, значит, я не люблю, если не боюсь потерять, не боюсь, что Бог за грехи мои ее у меня отнимет.
Пойду сегодня тебя благодарить, медведь небесная. Большая медведица. Голубь дорогой и злой.
Hiver, hiver[156]. Кашляю и грущу. Белое утро. Пустое рождество. И все трудно, трудно.
Утром после короткой борьбы, после ликований злобы все установилось на печали и резиньяции. Грустным, глухим пламенем горит мысль о тебе. Что будет, хватит ли сил дождаться тепла, чтобы наконец потеплела, растаяла суровая грубая доблесть твоего взгляда, нежного и снисходительно равнодушного, милого и невнимательного. Как холодно жить под ним. Разговор наш странный в кафе о первородном грехе довел нас до абсолютной замученности, судороги усталости и торжества. После этого единственное, кажется, теплое ко мне обращенье, когда ты попросила у меня булавку. Прощались почти унизительно спокойно и чуждо. Что делать, нужно зимовать зиму, ибо воевать я больше не могу. Все во мне сейчас непрочно и больно, и возненавидеть тебя — значит сразу тебя потерять в себе уже совсем.
Zut alors![157] Нет чернил. Папа обещал вечером принести из консерватории. Милый папа.
Сейчас лягу спать, освобожусь от кашля, от грусти, доживу так незаметно до завтра. Меня сейчас так легко обидеть. Я сейчас как-то еле жив, я так люблю тебя, и мне так боязно от всего, что всем хочется говорить: не трогайте, не мучайте меня, разве вы не видите, как я уже побит и измучен, я буквально раболепствую перед людьми в таком состоянии, как например перед почтовым чиновником, у которого я не смел попросить одно су сдачи. Впрочем, он был со мной мил и как-то благороден, не знаю.
Я чувствую, что приходит для меня время безысходной грусти и резиньяции, ибо я не могу с тобою воевать. У меня так переболело все внутри, что рассердиться на тебя было бы сразу потерять тебя совсем, но покуда я не пойму, не скажет мне Бог, хорошо ли это, прав ли я буду, я этого не сделаю. Как страшно унижена и низведена сейчас моя жизнь, гораздо больше, чем когда я гонялся за каким-то ленивым и грубым призраком читателя и слушателя.
«Ты меришь воздух мне так бережно и скудно, не мерят так и лютому врагу…» И ты не виновата, что не любишь меня. Ты до того поразительно безучастна и невнимательна ко мне, что даже и не замечаешь этого и считаешь себя очень нежной со мной — настолько я от тебя далек, и ты не можешь вовсе себе представить, каково мне. Так продлится еще несколько дней, и потом проснется во мне к тебе давно подавляемая, но такая острая злоба, что все кончится сразу, в один день и в такой унизительно грубой форме, что потом будет больно и вспомнить.
Что стоит тебе, например, когда мы расстаемся и я весь полный уже близким чувством неизвестности, холода и потерянности, которое так мучает меня без тебя, прямо-таки молю тебя, ну скажи что-нибудь, утешь меня чем-нибудь, чем-то, что все-таки мы немного заодно и в заговоре против всех. Нет, ты никогда этого не понимаешь и уходишь, нагло и покровительственно блеснув глазами. Бог с тобой, Бог с тобой.
Как меня до странности мучает этот победоносный взгляд.
Солнце в комнате.
Я сегодня с утра не кашляю и тверд в чем-то. Работать не хочется, но хочется хотеть работать, хотя я слаб, и все немного как в тумане — может быть от жары, ибо папа страшно накалил печку.
Смирись мой друг, вспомни мучавшую тебя ночью фразу Толстого «с тем просительно-ласковым, зависимым выражением, которое оставляет женщин в совершенном безразличии», и потому будь искренен, не будь ни просителен, ни подло ласков, будь таким, как ты есть сейчас в глубине души. Грустен и суров. Жить сейчас трудно, и нужно собрать всю силу своей души, чтобы пережить это время. Но несомненно, что ожидание встречи есть ожидание боли, потом удара. Идя, всегда думаю: как это она меня сегодня, каким новым способом, обидит или огорчит? И все-таки она голубь, хотя и не мой.
Тебе не работается, а ты работай, реализуй себя. N'aie pas peur, j'ai le dernier essai. S'il est malheureux, Dieu te prendra vers soi pour toujours[158].
Проиграл в шахматы, и можно писать. Если бы выиграл, было бы хамское настроение.
Граммофон говорит с Богом
Любовь — это стихия рождения лучшей жизни, но не сама эта жизнь. Вызреет, родится благодарность. «Как я хотела бы пожить с тобою немного, чтобы объяснить тебе все это». Я сделал вид, что не заметил, и как ты поцеловала мне руку, милая. Тебе за это ангелы руки исцелуют. Делайте это в память обо мне, а я, как Петр, не хотел.
Так ты меня вытащила, и я шел, обливаясь слезами, по солнцу и благодарил Бога, а потом сделалось страшно твоей доброты ко мне, сломанному наполовину. Так всегда жалость губит самых прекрасных, тех, которых порок не смог нисколько и тронуть. Все следующие дни прожил в этих мыслях. Особенно страшно просыпаться по утрам на белом рассвете. Что я сделал? Ведь твое единственное богатство — это какая-то святая сила. Ты ведь не так и красива, не богата. Это она делает тебя такой прекрасной — не красивой, а прямо прекрасной, когда ты права. И если у тебя это отнять, что будет с тобою? Это хуже, чем тебя убить. Тогда я плачу, плачу. И молюсь Богу, желая, чтобы он всего меня заменил, всего сделал новым. Боже, как больно и глубоко стало молиться с тех пор. Это значит, что ты в опасности. Мы начали жить.
Почему же мне так хочется провалиться сквозь землю, буквально провалиться сквозь землю от стыда, когда я около тебя? Просить прощение за себя, за то, в чем я не виноват, за родителей своих, за все прошлое, за ошибки всех, за всю эту грязь, к которой ты склоняешься, беря меня за руку. Ты пришла и вокруг тебя началось уже наше выздоровление, всех — и Дины, и Николая, и Пуси, и даже к папе и к маме я впервые почувствовал, что я им принадлежу и что я не один, связан, породнен с ними. Боже мой, Боже мой, дай мне работу, чтобы нагрузиться доверху и жить в таком золотом тепле беспрерывного усилия, участвовать, наконец.
Если только можно верить и сильнее молиться, любую тяжесть можно снести. Но можно ли будет исполнить назначение и писать при этом? Пуся страшно сказал: «Не бросишь, не уйдешь, а будешь так, кое-как все делать и в карты играть, И родится тогда уродливая жизнь, которой ты так боишься. Та, которая хуже, чем ничего вовсе».
Так почему же поезд иногда так замедляет ход, что можно, я ясно вижу это, можно сойти? Почему все держится на «это хорошо», а не на «иначе не могу». А голос говорит:
— «Иначе не могу» придет, как приходят все чудеса, а «это хорошо» никогда не придет, а потом страшно только броситься в воду.
Тогда, когда я истратил все свои силы, все деньги, ты перестала скупиться. Когда я изнемог, ты меня подняла, и мы пошли дальше к прекрасной нахальной жизни, вот что значат эти дни. Но чем больше любишь, тем больше совесть мучает, едва раскроешь глаза. Боже, как Иов прокаженный, тебя молю. Ты знаешь, что путь мой тяжел, избави ее от этого. Но если не избавишь, дай нам силу Твою перенести это, если же не дашь и я погибну (ибо тогда не будет никакого нам), то я все-таки не осужу Тебя, и все-таки это хорошо, и это нужно.
Два месяца не увидимся. Может быть поэтому сердце ныло сегодня у Пуси, когда он играл на рояле. Так неумело и так «больно». Боже, помоги.
Лицо жжет. Желтый свет лампы. У Пуси заснул, думая о тебе. Почему мама меня так ненавидит?
С именем твоим просыпаюсь, благословляя тебя, молясь о тебе, засыпаю. Ты есть альфа и омега моего дня. И теплота того света, который есть Бог. Скрытое в Боге его теплое основание, без которого он не был бы жизнью, а только идеей ея, а ты без него никогда не поднялась бы от животной обреченности и необходимости, в конце которой твоя же истребительница смерть. Бог есть твоя, Наташа, вечная память, а ты — его приобщение к мгновенному.
Ты ведь не будешь меня презирать, если я буду беден и несчастен? Ты мне напишешь, ведь да, Киса?
Уже ночь. На Ste Anne било 2 часа. Но теперь я понял, как заставить себя работать: писать все как письмо тебе.
Тайны Дины и мои
Дина родилась, как чистый цвет, слишком чистый, слишком чистой семьи, слишком чистой и уставшей от этой чистоты расы. «Я ушла из дому от какой-то невнимательности к моей личности, сопряженной с глубокой и доброй заботой обо мне как дочери, девочке, индивидуальности живой внутри семьи», по существу в припадке мистического антисемитизма. Но не «они плохие», а «они не знают», они слишком добры и просты.
Уйдя, во мне встретила свое дополнение, но увы еще не вполне уставшего, приевшегося своею одинокой истиной Аполлона Безобразова, влюбленного если не в себя, то в свое я. И вместо того, чтобы встретить — и в столкновении родить ослепительный свет плоти (не духа — германского и не телесности — еврейской), она миновала середину и полетела за мной в холодный свет дерева знания, и здесь, именно пролетая середину, одна она обрела в безумной чистоте и тут же потеряла откровение, которое она несла мне из мистической дали о жизни.
Потеряла, забыла, перелетев центр, но теплоту свою принесла на этот страшный север — и этим лишила его его яда и торжества. Через Дину мне стало понятно, но бесплодно и безнадежно жалко всех, ибо, так как я не любил ее, я и не пришел на свидание в Центре между деревом Добра и Зла и деревом Жизни. Дина падением своим на это страшное солнце ускорила его созревание для самоотрицания, ибо лишила его его сатанинского торжества, впервые ведь в его жизни сделав его соучастником настоящего страдания. Она погубила Те стихи — да, но она приблизила, прочла будущую воскресшую жизнь мою.
Теперь Дине нужно лететь обратно к своему истоку, дабы вернуть, спасти свою цель (за водою жизни на дно моря, как Гильгамеш) — Татищева-Ворищева и всех «скелетических». Я мучаю ее эти дни, она ищет покоя. Хочу опять сна, чтобы обдумать и вспомнить. Боже мой (стало страшно — и поклонился Богу).
Мне сделалось страшно и холодно, и я бросаю писать. Из печки как будто выступили чудовища. И стоят за дверьми со стороны Ste Anne, смотрят и в окна. Но я вспомнил о тебе, и мы вместе их отразили.
ЧАСТЬ V
ИЗ ДОМУ НА НЕБЕСА
Глава 1
ПРЕДВКУШЕНИЯ И ПРЕДВИДЕНИЯ
Через тридцать шесть часов после отъезда из Москвы мы прибыли в Берлин, усталые, но необыкновенно счастливые. Нас встретила милая немецкая дама баронесса фон Кнесебек, и мы провели несколько недель в ее поместье, а потом — у маминых кузенов Кирилла и Руфи Шмидт-Нарышкиных в их замке в южной Германии. Затем, после встречи с мамой и Котом в Париже, мы приехали в Англию.
Мы узнали, как был организован наш отъезд. Мама встретила в Париже родственника Ники, который упомянул в разговоре, что племянник президента Германии Гинденбурга женат на Голицыной. Она не была в действительности родственницей моего мужа, но стоило попытаться. В итоге Вава написал Гинденбургу, который обратился к Сталину с просьбой разрешить его «кузену» приехать к нему в гости. Советское правительство в это время пыталось дружить с Германией, поэтому они не решились на отказ. Но и не сказали нам об этом, хотя мы не были им нужны и не представляли для них никакой опасности в случае нашего отъезда.
24 октября 1932
Schloss Krautheun a.d. Jagst in Baden
Дорогая мама,
Благодарю тебя за милое поздравление к моему рождению. Хочу тебе написать обстоятельней относительно наших планов. Во-первых, я получил извещение, что виза для Англии уже в Берлине, я послал туда наши паспорта сегодня утром. Теперь дело за французской визой для проезда через Францию с остановкой в Париже на две недели. Если все будет удачно и вовремя, думаем выехать 28-го. Говорят, в третьем классе во Франции очень грязно и наплевано, но для дешевизны придется ехать в нем.
Теперь насчет нашей квартиры в Париже. Нам неудобно разъединяться в разных квартирах, лучше устроиться вместе, в тесноте да не в обиде. А как насчет еды, где можно будет столоваться? С детьми c'est compliqu[159], а кроме того, у нас огромные аппетиты у всех. Здесь кормят очень вкусно и обильно, но мы пожираем неимоверное количество и всегда снова голодны к следующему repas, а кормят нас четыре раза в сутки да и еще вечером дают фрукты или пирожное. Так что мне стыдно перед прислугой, когда я раза два набираю полную тарелку всяких яств. Дети также много едят, и Бебишон кушает Gemse und Brei[160] с большим удовольствием.
Денег, конечно, у нас нет, если будут деньги, мы сможем платить 15 fr. в сутки, в противном случае, не знаю что делать. Здесь мы без копейки сидим, и все за нас платят, даже за марки и папиросы.
Отдыхаем мы тут хорошо, и Ирина уже заметно поправляется. Наши хулиганчики здесь, как дома, что не увидят, все просят есть. Объясняемся с грехом пополам и часто смеемся нашему немецкому языку. Нас здесь катают по соседям, где чопорные бароны называют нас Durchlaucht[161] и угощают нас обедами и кофе, занимают всякими вещами, почетно сажают направо от себя и пропускают вперед. Их schloss'ы[162] очень интересны и занимательны. Завтра рождение Ruth и будут к ужину гости. Je vais endosser mon nouveau smoking qu'on m'a fait cadeau du papa Schmidt[163]. Вообще on nous comble de cadeaux[164] всякий день — то нам, то детям. Кирилл и Ruth очень милые и симпатичные и очень уж стараются и пекутся о нас.
Ну, пора кончать. Сейчас дети будут ужинать, потом их раздевать, самим одеваться и спускаться вниз. Ирина, я и дети крепко тебя и Николая целуем и нежно обнимаем. Я целую твои ручки.
Дорогая мама, в письме Ники и мне хочется приписать несколько слов, так как сидим без копейки, и нельзя даже купить марки. Вчера мы очень хорошо провели день. Руфь, Кирилл и я ездили на автомобиле к одним баронам в их чудный schloss. Этот замок в 45 километрах от Krautheun'a, и было очень-очень приятно, чудные виды по сторонам все время, горы и леса, окрашенные пестрыми осенними красками. I enjoyed my drive immencely[165]. Бароны все очень вежливые, всюду с меня начинают подавать за столом и всячески стараются занять разговорами и показыванием разных вещей. Этот замок замечательный, нас повели на балкн, который идет вокруг дома с третьего этажа, чудный вид был кругом, а рядом — стариннейшая башня с 800 года. В этой башне устроена комната для гостей, и баронесса любезно пригласила в ней остановиться, если бы я когда-нибудь пожелала приехать туда вместе с детьми. Оттуда мы поехали домой и по дороге заехали еще в один замок, где встретили Ники. С Ники там тоже очень носились. Немецкий наш разговор ужасен, и я со всеми говорю по-французски и объясняю свою лень (что не выучилась по-немецки, когда могла бы) тем, что тогда была война, когда я воспитывалась. В Gastbuch[166] вчера также писала по-французски, и Кирилл нашел, что я написала очень хорошо.
Завтра празднуют Руфь, вечером, кажется, будут танцы. Я вспоминаю, как ужасно нам было год тому назад после кончины Марьи Никитичны. 14 октября по новому стилю был годовой день.
Сейчас будем слушать граммофон.
1932
Разъяснение Осветителя
Читатель, видимо, уже недоумевал несколько раз при упоминании каких-то писем Дины какому-то Ивану. Что же это за письма?
Да вот они, сейчас мы их высветим перед вами, хотя, может быть, и не все. Некая Анна пишет некоему Ивану, из Франции — в Россию. И все — чистая мистификация! Франция была, Россия — само собой, но никакой Анны и никакого Ивана.
Просто Дине давно хотелось попробовать свое перо, многие в ее окружении писательствовали, даже и женщины. Но рядом с Б. П. особенно не распишешься, он сам писал за десятерых, нужен ли одиннадцатый? Не больше, чем Пуся, который явился к нему читать свой дневник!!! К тому же Дина уверила себя в том, что она очень пассивна, а Б. П. ее не разуверял.
Но теперь жизнь сложила новый узор, и Николай Татищев, не чуждый литературных замыслов, тогда еще ни во что не воплотившихся, стал увлекать и ее на этот и без того манивший ее путь. А чтобы облегчить этот путь Дине, видимо, не слишком уверенной в своем литературном даровании, он придумал для нее способ, давно, впрочем, известный: излагать свои мысли в виде писем, благо она и без того ведь их писала во множестве. Татищев даже хотел написать с ней «коллективный роман», что не состоялось.
А «письма Анны Ивану» — в Россию — она писала. Так же, как «письма Ивана Анне» — из России, кажется, не совсем их выдумывая; но этих писем было, видимо меньше, а в руки Осветителя попало вообще одно-единственное. Она писала эти письма и пересылала или передавала их Николаю.
Кому в самом деле были адресованы «письма Ивану»? Да прежде всего ему же, Николаю, и были, Дина сама об этом говорила. Не в Россию. Дойди они до России, кто бы стал их читать — тогда? Кому она, Дина, с ее болезненными метафизическими претензиями, была нужна в Советской России, погруженной в здоровую, активную, созидательную жизнь? Дина думала, что жизнь — это палка о двух концах, а в России тогда твердо знали, что изобрели палку с одним концом. Там у нее (у Дины, у Дины, не у палки) почитателей быть не могло.
Так что Николай и был ее единственный читатель-почитатель, его она убеждала; в чем-то, может, и убедила. После уже он кое-что опубликовал из ее писаний, подредактировав, но не все. С помощью нашего луча вы прочтете поболее — и без редакторской политуры.
Из писем Анны Ивану
1
…На днях нашла среди своих бумаг одно твое стихотворение, такое старое и такое знакомое. С дрожью узнала в неровно, много раз сложенном листе бумаги стихотворение, взятое у тебя на лестнице твоего дома. Много ли времени прошло, но вот этот лист бумаги, и рядом твои последние письма. Как могла случиться перемена такая? Чем это объяснить? Могуществом ритма жизни Советской России? Но это значило бы слишком упростить все-таки то, что произошло с тобой.
Вспомни свое:
- От тучных нив классической пшеницы
- Вознесся в рай готический собор…
и свое теперешнее рассуждение о ячейках и все разрушающем в своем строительстве коллективе.
Прав ли ты, милый? Не знаю, не знаю. Но мне грустно, даже если ты и прав.
2
Дорогой, я тебе пишу все оттуда же, с океана, но на днях возвращусь в Париж. Уже все-таки осень, утром туман все гуще и все дольше висит над землей и водой, по вечерам рано начинает дуть ветер. Сейчас вечер, совсем темно, и ветер рвет волны, шум которых доносится даже ко мне в комнату, хотя живу я не очень близко от берега.
Сегодня разобрали и увезли многочисленные кабинки, где галдели еще так недавно дети. Вчера была на соседнем пляже, большом и красивом, но и там уже пусто, а палатки напоминают покинутые цыганами шатры. Там была ярмарка, где продавали телят, свиней и баранов, птицу, ткани, овощи и фрукты, глиняную посуду и бесконечно много пестрых «драгоценностей». Тут же карусель и бродячая музыка, лотереи, рулетка (где все выигрывают сахар и кукол) и подобия цыганок-гадалок. Толпа пестрая, местные женщины очень сложно одеты, то есть головной их убор очень сложный; на волосах у них сетки, иногда бисерные, и повязаны черной бархоткой (как в старые времена мы в гимназиях причесывались), а поверх сеток белое накрахмаленное кружевное сооружение — наподобие сахарной головы или пирога в виде башни.
Все это пестрит и шумит на площади и в тенистой аллее и довольно красиво гармонирует с ярким днем.
Но как странно и дико было слышать этот многосложный рев животных, людей и карусели, сидя в церкви, которая совсем рядом, на площади. Церковь четырнадцатого века, странная, ни на что не похожая, — не готическая, не романская, не византийская. Что-то, сказала бы я, что должны были представлять собою первые христианские церкви в катакомбах. Длинное помещение, похожее на амбар, с одним длинным сводом, в котором четыре маленьких квадрата; через них сноп солнечного света вливается и, распространяясь сверху вниз, образует четыре светлых столба.
Как странны и страшны были эти доносившиеся шумы. Не знаю, что сказать, мой милый, само по себе это было как будто обоснованно, но отсюда казалось невыносимым. Я не хочу превращать это в спор, точно так же, как и то, что ты пишешь об эволюции техники и природы. Спор стар и как будто неразрешим. Но нужна какая-то мера, умение остановиться вовремя.
Люди часто увлекаются строительством, скажем, и думают: вот оно, вот в этом жизнь, вечное движение. А оно как раз и есть смерть, если хочешь, — смерть в движении по какой-то линии, но это ничего не меняет. Жадным до жизни трудно обрести жизнь вечную, ибо жадность их обрекает на смерть.
Будьте тише, хочется сказать всем этим увлекшимся изобретателям, устроителям, рекордсменам. И ведь, знаешь ты, я совсем не пессимистично смотрю на мир, а наоборот, думаю, что большой любовью и теплотой много можно улучшить. Но на спешку нашей эпохи мне хочется сказать только: все суета сует. Прописные истины? Но сейчас, когда так много все стараются поражать мир необычайным, гигантским размахом, именно прописных истин нам больше всего и недостает.
Да, природа мне многое открывает, тут еще больше это поняла. И, несмотря на всю красоту океана, от которого, кажется моментами, прямо не оторвешься, все-таки больше откровения для меня в лесу. Тут тепло и ласково пахнут согретые на солнце сосны, лес расположен на желтых песчаных холмах. Не мне отрицать ценность культуры, не мне, которая так много вкушает от нее, что это почти «хлеб насущный» для меня. Но не следует и это превращать в идола, в «абсолютную ценность». Не создавай себе ложного представления обо мне, как о человеке, живущем в природе или культуре. Я и здесь и там только бываю, но, как видно, и надо нам быть в очень многом, если мы живые.