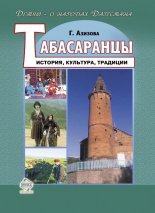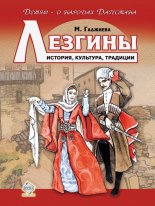Перехваченные письма. Роман-коллаж Вишневский Анатолий
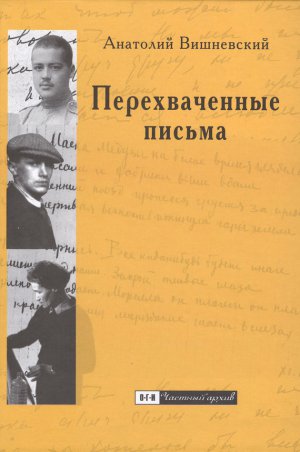
Мы купили кое-что, пока деньги не слишком пали, — хорошие чемоданы, кое-какую одежду. Купи и ты часы стенные или какие найдешь подходящие, франков на 250, товары ведь дорожают каждый день. Может быть лучше купить Дине часы-браслет? Здесь все раскуплено и страшно дорого, в Париже, вероятно, еще есть. Предоставляю это на твой выбор и целую. Все обнимают. Николай.
P.S. Писал два раза (и Степан один раз) моей матери, по-видимому, письма не доходят. Если не трудно, напиши ей открытку о нас (Mme V. Tatischeff, villa Adam, 19 route de St Michel Ste Genevive des Bois, Seine-et-Oise).
Имеется ли такси Paris-Plessis? Если нет, приедем на mtro в Sceaux. Думаю, что вернемся дней через 10–15. Много ли народу вернулось в Plessis? Как наш T.S.F.?
Вторник, 30 июля 1940
Санатория — одно название. Рядом глухая умирает предоставленная самой себе. Температура 40°, все спит, кашляет, а ее только кормят, как всех, и докторша накачивает пнемо. Бог с ними. Скорее бы добраться домой. Тяжело эти дни видеть Николая урывками только. Мне бывает очень плохо днем, если бы он мог посидеть тогда со мной, но не здесь, на виду у всех, а дома, дома.
Домой, домой, домой. Этот воздух меня душит, голова налита кровью, в ушах шумит, голова ужасно болит. В такие дни страшно, что с детьми не попрощалась. Дети мои родные. Скорее бы и их домой, это лето было ужасным и для них. Мой любимый Кот, все мои мысли и молитвы о тебе. Дай Бог тебе сил нас всех вывести.
La Rochelle, какой для меня тяжелый город. Эта боль набухающего сердца. Скорее бы с Котом домой. С Котом мне здесь было очень хорошо. Как он сумел облегчить мою ужасную боль в груди своим ласковым взглядом и руками, державшими меня, и словами. Кот, мой любимый, радость моя, Господь вознаградит тебя за это. Не забудь только, что и детям, и мне ты очень нужен, береги себя для нас.
Впадаю в тягостную дремоту, чувствую, что сегодня, пожалуй, самый тяжелый здесь день. Определенно больна, спина горит. Но лежу неделю, никто не выслушивал. Радио и это все — не лечение, конечно, а гибель для меня. Господи, спаси и сохрани детей, Николая, и меня, и всю нашу семью.
Котенька, пишу это в сумерках. Когда ты их укладываешь, моих детишек, и крестишь, не забывай перекрестить и поцеловать и за маму. Я так огорчаюсь, что не простилась с ними и всегда их крещу в воздухе на ночь.
Среда
Как жарко. Болит голова. Температура — 38°. Передали записку, значит Николая сегодня уже не увижу. Как это тяжело. О, Господи, приведи нас домой.
Четверг утром
Кажется, начался август. Ночь ужасно тяжела. Головная боль. Вена на правом виске болит, натянутая, напряженная до боли. Прикладывала холодный стакан. Господи, представляет ли себе Николай, как мне бывает плохо здесь. Сегодня предстоит объяснение с докторшей. Стараюсь не волноваться хотя бы заранее, но сердце помимо моей воли колотится. В голове отдаленная боль. Давно не видела детей.
Вечером четверг
Голова болит. Сегодня два раза вставала, долго молясь. Господи, помоги, доведи. Как колотится сердце.
Дети мои очаровательные пришли сегодня. Господи, лежать бы уже дома и слышать их голоса в саду, в доме. Поймут ли только они, что даже говорить мне ужасно трудно и утомительно. Только бы поняли, о, Боже мой, умудри сердце этих детей.
Пятница вечером
Мне плохо. Если вначале была слабость, то теперь я определенно ввинчиваюсь в какую-то болезнь. Неизвестно что, может быть, снова воспаление, как зимой. Болит голова, озноб, повышенная температура. И глаза болят, читать невозможно.
Доеду ли домой, выкарабкаюсь ли из этой дыры? Надеяться, что отлежусь, не приходится. Чувствую себя с каждым днем все хуже. Бедная девочка рядом стонет во сне. Сегодня ей сделали второе пнемо, облегчения никакого. Вот живодерня… В воздухе гроза, задыхаюсь. Скорее бы как-нибудь добраться домой.
Воскресенье
Жарко, снова болит голова, сердце совсем ослабло. О Господи, как болит голова от всего.
Доберусь ли домой? Хватит ли сил выкарабкаться. Николай поможет ли мне — снова замкнулся как-то и всегда смотрит в сторону, как при посторонних, точно смотрит и не видит. О Господи, а мне так нужна его помощь, его ласка. Я надломлена, и на этот раз если не Кот меня вытащит, вряд ли я найду силы преодолеть эту смертельную слабость. Я так ужасно как-то устала в этом году, что-то во мне оборвалось, и я не в силах теперь сопротивляться болезни. Зимой, когда я была больна, было ужасно, было мучительно тяжело, но все время была упорная борьба. А теперь, может, и не так страшно, как зимой, но я не могу бороться. Теперь только милость Божья и помощь Кота может меня еще вытащить. А дети мои, поймут ли они когда, как я больна была, и простят ли, что я раздражалась и кричала на них. Если бы они могли знать, с каким трудом мне все давалось, как от усилий, от напряжения болело сердце и мучительно тотчас же отдавалось в голове.
Дети мои любимые, Кот мой дорогой, как еще много во мне любви и как совсем нет сил.
Воскресенье, вечер
Мой Котенька, знает ли он, как много я тут о нем думаю, прямо как ребенок беспомощный я к нему взываю, зову, ищу.
Кот мой любимый, без тебя я теперь ничего не могу, даже от Бетиного грубого тона классной надзирательницы я не в состоянии сама защититься. О, Господи, до чего я теперь уязвима, обнажена. Раньше я так быстро становилась на дыбы и внутренне закрывалась, и все обучала Бориса в свое время, как надо стараться не замечать. А теперь, со времени Poitiers, обостренное ощущение Бориса рядом, и тут, в La Rochelle, в эту ужасную среду, когда так мучительно разрывалась грудь от расширенного сердца, вдруг ясный голос Бориса: «Дусенька, сейчас конец, моя Дусенька». Боже мой, и сразу успокоение, легкость. А теперь будто вся чувствительность и обнаженность Бориса во мне, и я не могу уже совсем защищаться. И только молитва, молитва. Господи, спаси, выведи, помоги Николаю меня вытащить.
Молятся ли теперь дети по вечерам? Как в Poitiers Степан молился вместе со мной и как трогательно любил повторять за мной Отче наш, итересуясь, когда дойдет до хлеба.
Понедельник утром
По-видимому, вчера Николай, с легкой руки Гингера, пытался освободиться от меня («il faut avoir du courage[254]», — говорю я себе), свалив ответственность за всю мою болезнь на меня же. Оказывается, надо принимать жизнь trs a la lgre[255]. От стыда промолчала, но, кажется, заплакала. Господи, можно ли так исказить Образ Твой?
Как ужасна будет судьба детей, когда я умру. Я могу умолять сколько угодно: «Котенька, не забудь». И он даже «не даст себе труда» услышать. Как просила я его отправить детей домой и выписать к ним мать. И что же, он неизвестно зачем выписал сюда Бетю, и дети все еще (две недели) толкутся в этом ужасном доме, среди этих ужасных людей. И конечно, он себя сразу успокоил, что все не так ужасно. И все будут делать все по-своему, и он никогда их по-настоящему не защитит, только бы не спорить.
Днем
Я всегда так хотела, чтобы Николай, наконец, понял нашу жизнь, детей и всю ответственность. И что же — всегда, когда я так ждала его решения, он увиливал и принимал Бетино решение, хотя было слишком тупо или недобросовестно не знать, что это идет как раз наперекор моей воле. Не знать, что она во всем мне противоположна и только меня раздражает своей тупостью и вечным непониманием. Так было зимой, когда я была больна. Дети остались дома, мать Николая не была вызвана, и они подсовывались m-me Rampon (Господи, какие сироты уже, и это воспитание). Бетя зачем-то уложила чемодан и придумала поездку, хотя я никуда ехать не хотела и никогда не хотела разлучаться с Николаем ни на минуту.
И теперь снова она же держит зря детей в La Rochelle, хотя я так просила, чтобы их отправили в Plessis и просила мать Николая приехать. Кроме Баба-оки поручить детей некому, а у нее хватит ли храбрости защитить нас?
Без даты
Господи! Я умираю, и конечно это тяжело. Главная тревога — мои бедные дети. Господи, сохрани их и помилуй и выведи их на путь должный. А потом мне было бы легче умереть в своей комнате, где все так переполнено нашей, тревожной, но нашей жизнью, на руках Николая.
Жизнь моя была, конечно, не легкой, но благодарю Тебя, Господи, что ты дал мне такую нелегкую жизнь и сделал меня такой, а не легкую, невесомую, как воздушный пирог. За все благодарю Тебя Господи, особенно за встречу с Борисом и за жизнь с Николаем, за детей, за труд, за откровение молитвы, за утешения редких дней любви и открытости Николая, за помощь Бориса, за то, что Николая нашла, и душа моя вышла из обители слез и отчаяния. Господи, благодарю Тебя и вручаю Тебе детей моих любимых, умудри их сердца и не дай им погрузиться в эгоизм и сон. Открой их сердца и глаза, о Господи, не остави детей моих, как Ты не оставил меня. Выведи их на путь жизни должный и ясный. Да будет воля Твоя.
Мой первый самостоятельный приход был Монруж — сразу за городской чертой Парижа. Но мне приходилось обслуживать и близлежащие местечки, не имевшие русских церквей. В одном из таких местечек жил граф Николай Дмитриевич Татищев, с которым мы были достаточно близко знакомы, так как он посещал иногда мой храм…
В августе 1940 г., почти сразу после занятия Парижа немцами, когда еще никакой транспорт не действовал, меня по телефону вызывает Николай Дмитриевич и спрашивает, могу ли я приехать к нему (это было в километрах 50 от нас), так как у него умерла жена. Ну, конечно, я сказал, что сейчас же выезжаю, сел на свой велосипед и поехал. Приехав к Татищевым, я застал там много народа, двух мальчиков-сироток 5–7 лет. Усопшая лежала под иконами, занимавшими почти всю стену над ее кроватью, на руках у нее были четки. Мне рассказали, как сознательно она умирала с именем Иисуса на устах. В общем атмосфера была столь трогательной и умилительной, что я вознесся духом и служил панихиду с особым подъемом. Потом Николай Дмитриевич спросил меня, смогу ли я приехать завтра, чтобы совершить на дому чин отпевания. Я, конечно, ответил согласием и был несколько удивлен тем, что он особенно горячо благодарил меня и раза два переспрашивал, правда ли, что я приеду, и можно ли об этом объявить.
Потом он вызвался проводить меня до околицы и при прощании еще раз горячо благодарил. Я спросил его, почему он так меня благодарит, когда я только выполняю свой долг. Он мне ответил: «Я боялся, что вы откажетесь ее отпевать». «Почему?» «Да ведь она — некрещеная еврейка!» Тут уж я изумился окончательно. Мне в голову не могло прийти, что графиня Татищева, жена столь церковного Н. Д., может быть некрещеной еврейкой. Что было делать? Посоветоваться не с кем. Мой настоятель, протоирей Лев Липеровский тоже уехал при приближении немцев. Снестись с Парижем, с Владыкой Евлогием, было невозможно. Телефон тогда не действовал, да и говорить о таких делах в условиях немецкой оккупации было невозможно. После недолгого колебания я все же решил совершить отпевание, хотя не был уверен в каноничности этого решения.
Я спросил у Н. Д., как же так получилось, и он мне рассказал следующее: из Кишинева, бывшего тогда частью Румынии, в Париж для учения приехали три сестры — дочери не то раввина, не то кантора, но, в общем, из старой патриархальной еврейской синагогальной семьи. Познакомившись с ними, Н. Д. сблизился с одной из них, и под его влиянием она уверовала в Христа и решила креститься. Шел 1938 год. Европа уже пылала в пожаре войны. Чтобы повидаться с дочерями, собирались приехать родители из Кишинева, отчетливо понимая, что немцы скоро будут в Румынии, и тогда родителям может быть конец, и, во всяком случае, возможность свидания отпадает. Вот Дина и сказала Н. Д.: «Я не смогу начинать свою христианскую жизнь со лжи — утаить от родителей такую вещь. А сказать им, что я христианка, — это значит их убить. Пусть они приедут, мы попрощаемся и расстанемся, уж, вероятно, навсегда».
Когда родители уехали, история завертелась. Неожиданное нападение на Францию не дало ей возможности подготовиться к крещению, потом бегство пешком с малыми детьми по дорогам Франции, ночевки под бомбами под телегами и грузовиками и — возвращение домой с острой формой скоротечной чахотки. Вот так она и не успела стать христианкой по каноническому положению, хотя умерла христианкой по своему углубленному духу. На другой день я опять приехал на велосипеде. Совершил с большим духовным подъемом чин отпевания, проводил гроб на местное кладбище… Когда наладилось сообщение с Парижем и я смог поехать к Владыке, я рассказал ему, как перенесли момент оккупации, что произошло и в Русском доме Ст. Женевьев, и в нашем детском доме Вильмуассон (они отстоят друг от друга на 4–5 км), потом я долго не знал, как начать, и, наконец, сказал, что сделал нечто такое, о чем даже боюсь сказать.
Он меня долго спрашивал и, наконец, я осмелился сказать, что отпел некрещеную еврейку. Владыко поначалу сделал строгий вид и спрашивал: «Как же ты мог? Как? И Евангелие читал? И „Со святыми упокой“ пел? И „Вечную память“ возглашал? Как же ты это сделал?» Я ему сказал все, как было, как она умирала. Потом сказал, что остались две сестры, которые тоже тянутся ко Христу, и я мог бы им показать пример отсутствия любви, и наконец сказал, что не посмел отказать ей в недрах Авраама, Исаака и Иакова, на которые она имеет больше прав, чем я сам, по своему происхождению и по духовной настроенности. Владыко рассмеялся, привлек меня себе на грудь и сказал: «Спасибо тебе, мой мальчик, что я в тебе не разочаровался!»
Я не помню Дины, но помню, как моя мать рыдала, когда узнала о смерти сестры, и как отец пытался ее успокоить.
20 сентября 1940
Милая мама, если еще возможно покупать мед по той цене, неплохо бы приобрести 4 кило (=8 фунтов, сколько я понял, по 12 frs. фунт, всего на 96 frs.). Мы вступаем в трудные месяцы, и пока за наши бумажи (деньги) что-то дают, необходимо как в можно большем количестве обменять их на продовольствие. С отоплением перспективы не блестящие. Заказал дров на 600 frs. и собираюсь ставить электрическую печь (1000 frs.).
Дети здоровы, учатся, спокойны. Относительно панихиды я не уславливался заранее — просто ты придешь ко мне к 12 часам в нужный день, и мы пройдем в одну из окрестных церквей, дабы на месте заказать и отслужить[257]. Не забудь, s.t.p.[258], принести книгу Prires[259] Киркегарда[260]. Просматривал еще раз этого Сладкопевцева — Вышеславцева — легко, не выстрадано, от головы, не от сердца и, следовательно, не свое и не интересно (проходит мимо). Как у Гете:
- «…Сердца не придашь сердцам,
- Когда оно от сердца не исходит».
Мы продолжаем уклоняться от визитов, которые выводят нас из колеи, возбуждают детей и мешают мне с ними заниматься в воскресенья.
Степан и даже Борис иногда стоят в очереди на базаре. Степан собирается, выучив, прочесть на могиле «По небу полуночи…»; при этом вспоминает, что «мама везде слышит, но на могиле особенно». Я сделал то же наблюдение — общение с умершим на его могиле, если не более интенсивно, чем порой в любом месте, то, во всяком случае, имеет особый характер.
Я встретила Карскую снова спустя год, пораженную отчаянием после разгрома. У той же самой подруги, у которой была небольшая мастерская по росписи тканей. И я снова вижу ее, все такую же высокую и стройную, ее вьющиеся, немного растрепанные волосы, ее белое (дело было летом), смягченное веснушками лицо.
Нам предстояло работать вместе в этой самой мастерской — там, в просторной комнате, мы все, четыре или пять женщин, с утра до вечера, стоя, расписывали квадратные куски шелка (крепдешина, атласа, искусственного шелка и пр.), натянутые на подрамники.
Мы поверяли друг другу наши воспоминания молодости (впрочем, мы все еще были молоды), наши тайны. Философские или литературные споры, шутки и слухи, неизбежные воспоминания о довоенной еде (потому что мы были голодны) — все перемешивалось.
Зима 1940–1941 годов была трудной. Мы оборачивали ноги старыми газетами, а наши руки, целый день соприкасавшиеся с бензином, спиртом, и анилином, становились разноцветными и трескались от холода.
Она жила в Монруже. Ее квартира была настоящим фонарем — окна со всех сторон, и холод был такой, что у маленького Мишеля руки становились синими. Я вспоминаю, как однажды мы пытались заставить гореть полуобгоревшие брикеты, используя для растопки ее старые кисти. Но она продолжала писать. В то время — мой портрет, который и сейчас у меня, — образ молодой особы в черном, увенчанной довольно нелепой черной шляпкой с вуалью (была такая мода).
13 января 1941
Милая тетя Ирина. Нам было очень весело у тебя. Мне грусно, что ты так далеко живешь от нас и что мы не можем быть друг у друга чаще в гостях. Спасибо тебе и дяде Александру за игрушки и за угочение. У нас было много детей на елку… Целуем тебя. Степан, и Борис, и тетя Бетя.
Приписка рукой Н. Татищева (более поздняя): 13/1 1941, понедельник. В этот день в госпитале в Цюрихе умер Джойс, человек, сильно повлиявший на выбор имени Степану[261].
Без даты
Милая мая тетя Ирина. Мы просим чтоб ты нам больше не присылала (приписка рукой Н. Татищева: P.S. Это, конечно, написано под диктовку Бети) спосибо за автомобиль. У нас уже кукушка прилитела. Меня зовут тетя Оля а Бориса Машенька. Целую тебя. Тетя Оля.
18 мая 1941
Милая тетя Ирина. Мы учимся танцовать и очень хорошо, но нужно далеко ходить в школу… Мы идем с одними детьми и у нас имеюца башмокi чтоб становица на пвантах и я ходил в нашем доме. В четверг мы пайдем в школу учится танцовать и наденем их в школе… У нас уже имеюца питухи и очень много васильков и Маргаритков и было очень много фиялок и я и Машенька надеемся что у нас будет много роз. Сергей Ивануч Шуршун помог нам капать и мы дакопали и мы сняли поле и его скоро дакапаим. Мы уже ходили в лес за сучьями, и Машенька тосчила сучи, а я слидил, чтоб нас не паймали а на поли мы зделали скамейку из кусков земли. Спроси Илюшу понравились те гуси, которыя тятенька привез а мы когда приедем тоже привезем иму какуйни буть игрушку. Ни гавари Илюши что я пишу что мы ему привезем игрушку эта иму падарок.
Мы мами написали письмо и мама иво взела и я был очень рад, что его забрала. И Борис начал писать письмо, но не докончил… Кавказки пленик мне нравица и румянай зарею и казача колыбельня песня и еще сказка о царе Салтане и о мертвой царевне и о семи богатыри… Я буду солдатом и буду тебя защищать. Мы в этом году ели клубнику и вишни и было очень вкусно. Мы сабераемся ехать в Расию, и там нам будет очень весело. Я учился по французки. Целую тебя и поцелуй Илюшу и дядю Александра.
Приписка рукой Н. Татищева: Это письмо совершенно самостоятельно, тогда как раньше Степану всегда помогали. Здесь ни одного указания, как писать, он не получил.
10 июня 1941
Милая тетя Ирина. У нас теперь очень много роз и они очень хорошо пахнут. Мы заказали крест для маминой могилы, он в Санженевьев, но мы его не поставили, потому что на него положили лак и он должен две недели сохнуть.
5 июля 1941
Милая тетя Ирина. Завтра воскресение, мы идем на магилу и поставим новый крест. Когда ж ты приедишь к нам пасматреть на мамину магилу, ты ее не узнаешь, потому что там будет стоять новый крест.
Без даты
Тятенька мой милый, мой родной, грустно мне, когда я остаюсь одна, да все не знала, почему. Но сегодня утром, помолившись, как всегда, за обыденной работой мне вдруг стало ясно, почему мне грустно. Милый мой, если я тебе скажу, у тебя немедленно будет ласковый ответ «нет», а потому лучше прочти внимательно и подумай.
Сегодня до моего сознания ясно дошло, что я тебе не чета, я тебя размагничиваю и способна превратить тебя в такое же обыденное существо, какое я есть сама. И вот теперь, когда я это окончательно поняла, Тятенька, мой крошечный котенок, не оспаривай, а подумай, не лучше ли нам сейчас же разойтись по разным квартирам.
Я твоих детей не покину, да и мои они уже, я буду о тебе заботиться, и даже если я и впредь буду тебе нравиться как женщина, на самом деле, то я к твоим услугам, когда тебе нужно будет, а на каждый день лучше оставаться тебе в твоей комнате, где Динушкин дух тебя оберегает и тебе советы может давать, и где ты сможешь работать, ибо ты должен работать и спать спокойно.
Не сердись, Тятенька, мой родной ребенок, что я предпочла написать тебе, вместо того, чтобы поговорить на сей счет, но не хочу я заставлять тебя кривить душою по твоей большой доброте ко мне.
Я же буду по-прежнему молиться о благе для тебя. Будь здоров и счастлив, мой котенок родной. Благодарю тебя за все, что ты сделал по сию минуту для меня.
Бетя.
3 августа 1942
Милый Илюша. Поздравляю тебя с именинами. Очень соскучился по тебе, Степан, Бетя и Тятя тоже… Я уже пишу мои сны, но я их не написал тебе, потому что они очень длинные, и напишу один из них в следующем письме, когда я его напишу. Целую тебя, поцелуй дядю Александра и тетю Ирину. Борис.
5 августа 1942
Я немного помогаю тети Бети в огороде, а теперь мы неходим на поле. В воскресенье тетя Бетя пошла на поле, но была плохая погода и мы остались с бабушкой дома… Целую тебя и Илюшу и дядю Александра. Степан Татищев.
6 августа 1942
Бетти диктует во сне (Запись разговоров во сне Бетти).
Родись мы оба в один день, нам было бы не так радостно встретиться.
Жизнь — очень сложная арифметическая задача для тех, которые не умеют читать задачи, но для тех, кто понимает с первого раза, что прочел, для тех эта задача сразу решена: 1–1+1=1 (все равно, какой 1 впереди, какой после, какой плюс, какой минус, какое равняется).
Тебе сию задачу нетрудно решить, как ее давно решили. Ты и сам ее понял и объяснил, тебе повезло, но не думай, что все люди на свете понимают, как ты понял. Ты малое дитя. Дина тоже все поняла (так же, как и я, серая, хотя она умная, а я нет, мы поняли одинаково).
Одна из сестер покойной Дины была схвачена немцами и погибла в лагерях смерти. Что стало с другой — не знаю. Последнюю встречу с погибшей Бетси я хорошо помню. Я был у них, она вышла проводить меня в коридор. Попросила благословить, так как знала, что положение очень опасное. Немцы вылавливали евреев. Я благословил ее и больше не видел. Через несколько дней ее забрали навсегда.
Мы шли в булочную La Fraternelle по дороге, которая ведет в Малабри. Тогда мне казалось, что булочная находится далеко от дома. Бетя сказала: «Я скоро уеду. Меня заберут». Я ей не поверил, это казалось мне невероятным. И с какой стати, если она не сделала ничего плохого? Но она была в этом уверена. Все говорят, сказала она, что людей забирают.
Как-то утром два французских полицейских в штатском позвонили в дверь. Я думаю, что это были полицейские из комиссариата в Со. Они пришли арестовать Бетю. Мой отец сказал, что она больна и не может никуда идти (так я понял тогда; много позднее я узнал, что Бетя ждала ребенка). Один из полицейских пошел к телефону. Затем он вернулся и объявил, что это ничего не меняет, — Бетя должна следовать за ними.
Она собрала кое-какие вещи, попрощалась со всеми нами, задержалась этажом ниже, чтобы попрощаться с соседями, и ушла с полицейскими.
Несколько дней спустя на нашем балконе, выходившем во двор, я обнаружил идущий вниз провод, с помощью которого можно было спуститься на один этаж, на балкон к соседям. Им никто никогда не воспользовался.
Глава 3
ДУХ и плоть
Мой отец происходил из «ассимилировавшейся» семьи, моя мать также стремилась к ассимиляции, особенно после войны. Мне кажется, что сначала желтую звезду носила только она, а потом и отец пошел в комиссариат получить свою — для того, чтобы разделить судьбу жены. Но некоторое время спустя, в связи с какой-то brimade[262], отец отправился в тот же комиссариат и вернул им звезду. Ему повезло, он попал на полицейского, который, будучи то ли терпимым, то ли слишком вялым, а может быть и тайным участником Сопротивления, не задержал его.
Но в полицейском реестре он продолжал числиться как еврей, и это скоро напомнило о себе: началась конфискация автомобилей (у нас его не было), радиоприемников, велосипедов. После этого последнего унижения родители решили, что надо перебираться на юг, в зону, еще называвшуюся «свободной». По словам матери, это она настояла на отъезде, потому что отец, как человек рациональный, не мог понять, зачем нацистам трогать неимущих евреев; он считал, что им не нужно ничего, кроме еврейского золота, которое было только у богатых.
Перебраться через демаркационную линию нам помог Жан Полян. Правда, первая попытка не удалась. Накануне отъезда нашего «проводника» арестовали, и на рассвете нас разбудили и потребовали, чтобы мы срочно покинули гостиницу, где мы его ждали. Мы были измучены, и мать умоляла хозяина гостиницы дать нам возможность выспаться. Но вторая попытка, некоторое время спустя, оказалась удачной. Я не знаю, где это происходило. Я слабо помню, как мы шли по узенькой тропинке через лес, вечером или ночью, как меня строго предупредили, что я не должен произносить ни единого слова, и как родители хвалили меня за мою сознательность, когда мы наконец, оказались в свободной зоне.
19 июля 1942
Sderon, Drme
Был очень рад узнать, что вам удалось попасть в наши места и что у вас все сравнительно благополучно. Надеюсь, что вам удастся найти какую-нибудь работу, хотя это не очень легко по нынешним временам.
От наших общих знакомых я узнал, что умерла Дина. Что с ее детьми и мужем? Не знает ли Ида, что сталось со всеми нашими согражданами и как это узнать? У нас много родных и близких в Бессарабии и в Одессе, мы ничего о них не знаем. Как живет Шура и вся его семья, т.е. Аня, дети и мои тетки в Париже? Что с Поплавскими, со всеми, кто бывал когда-то на террасе?
Я здесь вот уже два года; ничего не делаю. Все беды и ужасы нашей эпохи здесь смягчены. Морально все-таки лучше, чем где бы то ни было. Пропитание тоже лучше, но ухудшается с каждым месяцем.
Относительно заработков: мне говорили, что в городах ошалевшая мещанская публика усиленно покупает художественную халтуру всякого рода: картины, изображающие цветы, фрукты, кошек и т.д. Быть может, вы бы могли заняться этим, как ни противно? Требуются яркие краски и дешевые эффекты. В Ниме и Монпелье можно продать.
Если будет малейшая возможность, пошлю вам сыру или яиц. Теперь это стало труднее. Это все, что можно отсюда послать.
Искал на карте место, где вы поселились, но не нашел. Хорошо, что поселились в маленьком месте, это теперь лучше всего.
17 августа 1942
Был очень рад, что содержимое посылки пришлось вам всем по вкусу. Впредь смогу время от времени кое-что посылать. С овощами здесь не густо, смогу посылать сыр и яйца.
Из Парижа ужасные известия. Я очень обеспокоен о Шуре и всей его семье, не имеете ли о них известий, также о Котляре? Вы очень удачно выскочили из беды. О себе тоже беспокоюсь, с иностранными евреями теперь плохо обстоит. Я не апатрид, румынский гражданин; но все, конечно, висит на волоске.
О Кавказе не беспокойтесь: выдержат. И еще им наложат. В конечном результате этой мировой катастрофы у меня никаких сомнений нет. Хотелось бы только дотянуть до этого результата, а это будет трудно.
11 сентября 1942
Htel George
Anlus-les-Bains
(Arige).
Chemin de la Grenouillre
Castelnan-le-Lez (Hrault)
Дорогие друзья, мы тут живем уже с 24 августа. Из Парижа уехали 2-го, 18 дней мы были там спрятаны, пока не удалось уехать.
Дорога была полна приключений, а после границы мы уже вообще не располагали собою, а жандармы. За месяц мы проехали несколько департаментов. В Ландах мы жили свободно в гостинице неделю. Оттуда нас увезли в Pau (Basses Pyrnes) и держали в полусвободной обстановке несколько дней и отправили в Camp de Gurs. Жили там 10 дней. Оттуда нас освободили и указали ехать сюда. Вздохнули свободно, опять гостиница, опять ресторан. Гуляем, но уехать отсюда нельзя.
Евреев здесь много (250–300), многих забрали (тех, что приехали после 36 года, в особенности немецких евреев). Поговаривают везде о чистке (голландцев и бельгийцев), тут на выбор все масти есть.
…Кругом горы, а в двух шагах от нас Испания. Это довольно гигантские шаги должны быть, ибо нужно перешагнуть через две горы, и это должно продолжаться часов 6. На одной из них вечный лед и нужна шуба. Но мы туд не собираемся, ибо испанцы выдают. Еще ближе к нам Андорра, но и они выдают. Я очень рад перекинуться с вами весточкой. Напишите, что у вас, ибо если бы мы получили откуда-нибудь сертификат d'hbergement[263] и разрешение из префектуры департамента, мы могли бы уехать.
22 сентября 1942
24 сентября будет месяц, как мы тут живем. Жаловаться нечего, тут даже такую вещь, как мясо, едят два раза в день… Читаем много, и скучно быть не может, стоит посмотреть кругом на горы и душа радуется. Из окна видна огромная гора, и утром, когда петух нас будит, самое большое удовольствие — смотреть, как медленно-медленно загорается верхушка горы от лучей восходящего солнца, и тогда с большой быстротой освещается уже вся гора.
Жалко, что все это отстоит от Anlus часа на 3 ходьбы, а потом уже начинаются испанские горы, и еще через час — первая испанская деревушка. Говорят, что испанцы набивают нашему брату морду и отсылают обратно или отдают немцам. Но верно ли это? Ибо рассказывают о случаях, когда они сажают в тюрьму на 15 дней, а потом оставляют вас спокойно жить в стране и дают бумаги испанские (carte d'identit).
10 октября 1942
Мои дорогие, вы, должно быть, уже знаете, что Бетя уехала от нас 24/9, а из Парижа 28/9. Дети в порядке. Слава богу, с детьми нам много помогла мадам Рампон. С 1-ого они ходят в школу. Маня нашла милую старушку, которая живет у нас и занимается хозяйством. Все пытаются нам помогать в нашем несчастье. Jeanne с детьми и матерью Шуры уехали вместе с Бетей. В субботу я вам отправил все то, что я смог достать для рисования, в Entraide[264]. Они не дали талонов на масло, а у торговца не было лака. (Entraide была закрыта несколько недель).
19 октября 1942
Дорогой Мишель, я, Степан и Борис поздравляем тебя с днем рождения. 6 лет — это серьезный возраст, ты должен хорошо учиться, побольше играй на пианино. Борис не хочет играть, а Степан, из духа противоречия, уверяет, что для него это самое большое удовольствие.
Скажи маме, что я буду писать о наших делах раз в 10 дней, первого, десятого и двадцатого каждого месяца. Я провел с Бетей в Co весь день 24 сентября, с 8 до 5 часов, когда за ними приехал автобус. Среди его пассажиров были Jeanne с тремя детьми. Малыш, которому уже 5 лет, меня узнал, он был в восторге от предстоящей поездки.
Наша новая старушка прекрасно справляется с хозяйством и хорошо готовит, а два раза в неделю приходит Маня.
4 октября 1942
Дорогая Ида,
Я только что получила ваше письмо и одновременно открытку от мамы. Вот что она пишет:
Мои дорогие, Майя, мое сокровище.
Мы здесь с четверга, нас увозят завтра, и мы не знаем, куда. Но мы уже не верим, что будет лучше. Майя, родная моя, я благословляю тебя самым глубоким моим благословением. Я храню твой взгляд в моем сердце, ты рядом со мной вместе с твоими братьями, и у нас нет большего желания, чем свидеться снова всем в мире и радости.
Нам разрешено послать только одну открытку, и я не могу написать всем. Сообщи сама новости обо мне, дорогая, родная моя доченька Маруся. Свяжись с мсье Граверо, 8 rue Mont-Louis, и сообщай ему время от времени твой адрес. Попроси у мадам Дельваль самое необходимое — одеяло и все, что она может тебе прислать.
Обнимаю тебя изо всех моих сил и со всей надеждой. Поцелуй от меня всех. Твоя мама, которая тебя любит как солнце и жизнь.
Сегодня утром приходила Яра. Она обещала написать Граверо, он, по крайней мере, сможет послать посылки. О, если бы вы знали, как я несчастна. Если бы только я могла быть с нею. Я сдала переходной экзамен, чтобы поступить в 6-й класс лицея. Когда я смогу написать об этом маме, она будет довольна, что меня приняли. Жан с мамой, он тоже мне написал:
Дорогая Майя,
Мы в Дранси, здесь большой дворец, горячая вода из-под крана, современные удобства, питание, прическа (меня постригли наголо) — и все бесплатно. В надежде увидеться снова, целую тебя, дорогая сестренка. Жан.
Еще я получила записку от мадам Дежан, матери друга Жана.
Вашу маму взяли в четверг 24/9. Мы хлопочем, мадам Дельваль и я, и попытаемся высвободить вашу маму и ваших братьев, если сможем. Держитесь, дорогая Майечка. Целую вас. Мадам Дежан.
Они очень милые люди. Мама румынская гражданка, хотя до замужества была полячкой. Но сейчас она румынка. Дорогая Ида, как вы мне советуете, я собрала все свое мужество, я понимаю, что должна держаться изо всех сил. О, если бы только Бог захотел вернуть мне маму, я бы все вынесла. Я прощаюсь, дорогая Ида, и благодарю вас за ваше милое письмо.
28 октября 1942
Бетя взяла с собой немного вещей, она думала, что вернется через несколько дней: 2 одеяла, немного белья, осеннее пальто, не взяла чулок. Место ее нынешнего пребывания неизвестно.
Время от времени я вижусь с Анной Присмановой. Шура в добром здравии, никаких новостей о его матери нет. У детей все в порядке, обычно мы ужинаем вместе, потом играем, и я читаю им перед сном.
Мадам Дюрасье всем хороша, ее единственный недостаток состоит в том, что она никак не принесет свои продовольственные карточки. Но вчера, наконец, она пообещала это сделать с 1-го ноября. Малыши ее любят и болтают с нею во время ужина (в полдень они едят в столовой школы).
Из записей октября 1942
Неожиданно для меня получила ваше письмо.
Я вас раньше не замечала или старалась не замечать — теперь вы есть. Откровенно говоря, человека с такими качествами, как ваши, я во всех, кого встречала, и в тех, кто были мне близки, искала, не находя. Но я от этих поисков, этих поражений душевных не устала еще настолько, чтобы теперь остаться глухой к вашему предложению, которого я столько лет напрасно ждала.
Я соглашаюсь у вас брать, научусь требовать у вас, а отдавать, платить за это буду детям. Я их люблю, мне кажется — они мои. Моим путеводителем будет образ Бети, духовной, моральной сестры моей, на которую иначе, как на часть себя, я не могу смотреть. Потому что она там лишена всего, я тут должна себя лишать многого. Много работая и чувствуя сильную усталость, при потребности отдохнуть не только не останавливаюсь, как я это делала раньше, но готова с новой силой еще больше работать. Нести физические тяжести, от которых только что болели плечи, поясница и руки, для меня вдруг становится легким при мысли, как счастливо бы она себя чувствовала на моем месте.
Я хочу дружить с вами, принимать от вас, давать вам и при этом наблюдать все свои действия в зеркале души Бети, которая все время передо мной, которая, я чувствую, также находится перед вами. Я молюсь день и ночь и буду молиться.
Еще раз перечитала ваше письмо. У моего Степушки повышенная температура, а я не с ним! Хочу сейчас же лететь к вам. Собиралась пойти сегодня ужинать с приятельницей к знакомым ее, это давно было условлено, обещано. Но мысль о том, что моя помощь может быть нужна вам, не дает мне покоя. Пишу им письмо, объясняю и еду к вам. Хорошо, что температура упала, но хочу его видеть, слышать его веселый смех и наблюдать его беззаботную шалость. До сих пор сердце сжималось от плохого предчувствия, но при решении к вам ехать сегодня все тучи рассеялись. Иду одеваться…
Мои щенки дорогие, я все время думаю о вас, готовясь к вашему завтрашнему приходу. Вы мне стали не просто близки, мне начинает казаться, что вы ышли из моего живота. Любовь к вам меня до того переполняет, что я всех люблю, она изливается на всех окружающих меня и даже на предметы. Я с большой любовью трогаю книги, словари… Сколько энергии у меня теперь, хочется горы опрокидывать, хочу быть сильной, чтобы вы все могли прочно опереться на меня. Сознание, что мое присутствие, моя заботливость, моя доброта кому-то нужны, заставляет меня быстро и бодро действовать. С счастливою улыбкою благодарю Бога за посланную мне такую глубокую моральную удовлетворенность.
Возвратилась только что от приятеля, где праздновали именины. Была слышна сильная стрельба, я спряталась на некоторое время в «абри»[266]. Когда затихло, продолжала свою дорогу. По приходе села к столу, чтобы взяться за уроки. Вдруг сильный звон в ушах. Я знаю, для того, чтобы перестало, я должна назвать имя того, кто в этот момент обо мне думает. Я назвала, и случилось то, чего до сих пор никогда со мною не случалось. Я ясно видела его глаза, рот, чувствовала близость его дыхания. Я знаю, ты так же, как и я, думаешь обо мне, нет, мне это не кажется, мы друг другу очень близки. Каждый из нас подсознательно понимает, что и физическая близость между нами неизбежна, но стараемся и просим у Бога, чтобы он нам помог, устоять перед этим искушением как можно дольше.
Несколько дней назад ты читал мне Плотина и возбудил во мне море воспоминаний, стремлений и надежд. Ты советуешь мне писать, я теперь уверена, с твоей помощью мне удастся создать что-то ценное. Своими вопросами ты помогаешь мне разбираться в моем прошлом.
Ты говоришь о своих недостатках, но те недостатки, которые и мне знакомы, в глазах любящей женщины переходят в достоинства. Ведь Бетя тебя, наверно, не бросила бы из-за этих недостатков, она в тебе видит идеального человека, и мне кажется, она права. Твой, по-моему, единственный недостаток, это что ты слишком прямой человек, что по характеру ты остался ребенком, а во всем остальном, в чем все мы остались детьми, ты ушел намного дальше нас.
Моя мысль чаще, чем мне этого хочется, с любовью уносится к тебе. Я от этого не страдаю, у меня нет чувства, что запрещено мне любить тебя, нет, мне, наоборот, кажется, если б Бетя знала, как сильно я тебя полюбила, она была бы рада. Я тебя люблю не для себя, а для нее. Только пусть она скорее придет.
Бетя моя прекрасная, моя сестра по страданиям, не хочу я его у тебя отнять, ты это знаешь, но он мне стал так близок, так близок, что я спрятаться хочу у него на груди, я чувствую его дыхание. Если он страдает, мучается физически от твоего отсутствия, если плоти его нужна женщина, я не хочу, чтобы он изменил тебе, я не хочу, чтобы он что-то твое отдал другой, пусть лучше он меня возьмет. Я смогу ему принадлежать и уйти, когда ты придешь, ты это знаешь. Я не смогу допустить, чтобы он был с другой женщиной, не хочу. Теперь молитва держит его, Господи, помилуй его, дай ему силы. Я вижу его целомудренным. Он мне стал так близок, что я его глазами многократно целую, когда он оборачивается ко мне спиною. Его взгляда я с самого начала избегаю из-за боязни, что прочтет он тайну мою. Я знаю, он и так читает во мне, но мысль разбираться в этом ему еще не приходила. Я слабее, когда его не вижу, но в его присутствии я сильна.
Он только что ушел. Я еще чувствую его пронзительный глубокий взгляд, он меня на мгновение всю как будто приласкал. Мне вдруг стало жарко, потом холодно. Бетя, дорогая, ты лишена этого счастья, ты не можешь любоваться бархатным спокойствием его взгляда. А что если он опять, то есть его тело — но ведь это он — если он опять попадет под влияние этой самки дактило![267] Он говорит, она, остановив его, покраснела, побледнела, — а как меня всю в холод бросило при его рассказе! Заметил ли он, как мои руки дрожали, как я старалась крепко держать свою чашку с чаем, чтобы не провалилась она? Боясь, что он заметит мое внутреннее волнение, я села к нему боком, опустив голову, чтобы он ничего не прочел в моем взгляде.
Он ушел, но мысль, что скоро увижу его, дает мне столько энергии. Я хочу за ним ухаживать, любить его, прижимать его всего к себе, согревать до тех пор, пока Бетя возвратится, а потом я уйду, для меня настанет лунная, приятная, спокойная ночь, ночь. Я опять засну, по временам буду просыпаться, наверно тосковать, но опять засну или захлороформирую себя на время работой, чтением. Нет, я с легкостью уйду от него, я буду жить счастьем прошлых дней, прожитых вместе, и долго чувствовать ту сильную духовную теплоту, которую он сумел развить и поддерживать во мне. А в духовной теплоте будем продолжать жить и после все вместе. Нет, у меня разлада с Бетей не будет. Ведь она поймет, она знает и знала, что я его с первого же дня полюбила такою же любовью, как и она.
Она жила для живота своего, она ждала от него ребенка, его части хотела, она хотела и его, и части его — и этим опять его же. Да это много… Я же хочу черпать из его богатой, чистой, как ключевая вода, души и делить с ним голос сердца. У меня живот не существует, но зато сердце еще сильнее бьется.
Я не страдаю от того, что приходится скрывать эти чувства, нет, наоборот, мне, кажется, еще теплее становится от борьбы — не с чувствами, а с тем, чтобы они в словах как-то не вырвались наружу. Я ощущаю какую-то внутреннюю удовлетворенность, гордость, что мои чувства тебя выбрали, тебя осветили так ярко, мой прекрасный Николай. Мои чувства к тебе слишком высоки для того, чтобы я могла страдать тогда, когда твои будут обращены к Бете. Я знаю и буду знать, что ты меня тоже всегда любишь, только берешь меня в Бете и Бетю же находишь во мне, когда ее с нами нет. Я тебя не перестану любить, но моя любовь перейдет к вам обоим. Чего я теперь только желаю, так это того, чтобы ты оставался с Бетей, чтобы ее теплота тебя окутывала, чтобы ты не чувствовал потребности ни во мне, ни в какой другой женщине. Чувствовать потребность во мне как в человеке, да, но не как в женщине. Я люблю тебя сильно, очень сильно, Ники, но быть с тобой физически у меня нет потребности.
6 ноября 1942
Очень тяжело мне было прочесть ваше письмо. Об облавах на румын я знал, но об участи наших близких узнал только от вас. Шуре боюсь писать и не знаю, что с ним. Не знаю, как поступить, чтобы узнать, ибо писать им, может быть, нехорошо для них. Страшно подумать, что с людьми теперь делают. Немцы меня не удивляют, но остальные противны… Ведь все, что произошло, можно было заранее предвидеть, можно было что-нибудь сделать, — никто пальцем не двинул, всяческие препятствия чинили и чинят несчастным, которые хотели спастись.
Твердо надеюсь, что ваш сухой рассудок жестоко ошибается. Если война затянется еще на 2–3 года, как вы думаете, в Европе ничего и никого не останется. Никто не выдержит. Я думаю, что больше года никоим образом не придется ждать, но, надеясь на всякого рода неожиданности, считаю возможным, что и раньше, может быть, даже и значительно раньше. Надо только дотянуть, а это очень трудно, в особенности в моем положении.
Очень мне теперь тоскливо: безделье, безденежье, а главное, все так затягивается, конца не видно, а петля все сжимается, становится все труднее и труднее жить. Немножко рисую портретики, карандашом, бесплатно. Очень хотел бы вас повидать, но не могу передвигаться.
Что касается Котляра, то мне определенно сказали, что лица, женатые на арийках, никакой опасности не подвергаются. Я это знаю из достоверного источника. Возможно, что он мог бы и не прятаться.
Как вы с картошкой устроились? Очень мне жаль, что кроме сыра ничего посылать не могу, пока, по крайней мере. Месяца через два будут яйца.
21 ноября 1942
На улице Тегеран, где я заходил в магазин, я встретил тетю Шуры, мадам Peisson. Она пыталась разузнать что-нибудь о своей сестре. Залманов уже дома, ему сделали операцию, сейчас он поправляется. Он уверяет, что Бетя находится в Катовице (это недалеко от Кракова)[268]. Это почти точно, сказал он. Питание там неплохое. Уверяют, что Бетя сможет дать знать о себе через шесть месяцев после отъезда.
Борис начал уроки русского языка с мадам Дюрасье (то есть именно он дает уроки, и я слушаю с кухни: труа это три — и она повторяет: ctri). С карточками ее все устроилось. Циля в порядке, так же как ее сестра.
25 ноября 1942
Chers amies,
Спасибо за кофе, я вам отправил за это посылочку с сыром.
Тут теперь очень холодно, днем 2–3°, а вечером и утром 10°. Солнце показывается всего на несколько часов. Что вам посоветовать относительно ваших родных, не знаю. Я уже писал, до чего была трудной наша дорога, и если бы не тысяча и один случай, неизвестно, где бы мы были уже. Так и со всяким: один переедет, другого ловят. А канитель с евреями тут тоже. Общих друзей у нас теперь тут довольно много, на днях приехали. От своей судьбы уйти видно трудно, мы ползем, а судьба наша бежит.
В такой холодный климат, я думаю, с Мишей ехать не нужно. Теперь тут и печей, и дров нету. Мы с братом как-то устраиваемся греться по очереди у знакомых. Изо дня в день ждем снега, тогда, говорят, тут теплее. Из-за холода у меня нету даже настроения писать.
Мне все кажется, что скоро мы опять будем в Париже. Давайте надеяться на самое лучшее, быть готовыми к самому худшему et ne pas s'emmerder avant le temps[269].
Всего доброго. Мишу целую, знакомым поклон.
Из записей ноября 1942
Я только что вернулась из Plessis, где много говорила с Диной. Непременно хочется все изложить на бумаге, но спешу на урок. Я еще не завтракала, но готова работать весь день, не евши и не спавши. Дина очень меня успокоила. Я посадила хризантему на ее гробу, и я вижу теперь Дину все время у меня, около меня. Я могла бы написать, мне кажется, десятки страниц под ее диктовку. Вечером продолжу…
Десятый час, вечер того же дня.
Не помню дня, подобного сегодняшнему. Я его провела вне этой окружающей меня жизни. Я давно собиралась навестить Дину, то есть пойти к ее гробу. Первый контакт с ней был у меня еще тогда, за два дня до годовщины ее смерти, когда я боролась с собою и не решалась приехать в Плесси провести свои каникулы. Я обратилась с вопросом: что делать? — к Дине, и она мне тогда впервые советовала, и я до сих пор пыталась следовать ее совету, почти не задавая себе вопросов и не задумываясь о личных последствиях моего частого посещения Плесси.
Теперь Николай сказал о возможности Mme Durassier покинуть нас. На меня опять свалилась тяжесть решения: как устроить детей, как устроить дом? К тому же неприятное чувство сегодняшнего сна: я видела Николая, упрекающего меня в том, что я слишком много кокетничаю с мужчинами, у него было обо мне другое представление. Он думал, я чистая, искренняя, целомудренная, но, убедившись, не знаю откуда, в лживости его представления, он решил тоже перестать жить аскетом и возвратиться к дактило. Меня эти слова поразили как поражают выстрелом, и я, рыдая, восхлипывая, как будто бы защищаясь, крикнула: «Николай!» — и от крика этого проснулась вся в холодном поту. Это было к утру. Я затем не могла заснуть больше. В 7 1/2 ко мне в постель пришел Бобик, он так прильнул ко мне, что влил мне новый приток любви к нему, и к Степану и ко всем…
В девять часов я направилась на кладбище. Как только подошла к гробу и, перекрестившись, начала молиться, почувствовала около себя, но на земле, ниже меня, Дину. Я нагнулась, не могла стать на колени, земля была мокрая, а я была легко одета. И вдруг услышала себя говорящей громким, очень хриплым голосом, таким, какой никогда в жизни у меня не вырывался. Из моего горла выходили не мой голос и не мои слова. Но я была охвачена каким-то содроганьем и остановиться не могла. И голос молил: «Помоги мне воспитывать детей моих, детенушек, детишек моих, помоги мне, помоги мне следить за Николаем». «Но как, как мне это делать?» — прервала я. И разницей этих двух голосов так была поражена, что невольно стала оглядываться во все стороны. На всем кладбище ни живой души, меня охватил холод, я не могла двинуться с места. Я не слыхала больше хриплого голоса, но шопот все раздавался в моих ушах, давая поучения и указания, наконец, слезы перестали литься, и я почувствовала сильную утомленность.
Мне стало все ясно и легко, и явилось желание как бы отблагодарить. Я ушла с кладбища искать цветы, мне хотелось найти хризантемы. И все время у меня было ясное ощущение, что рядом со мной, держа крепко мою левую руку, ходит Дина, улыбается бледной, но спокойной, довольной, доброй улыбкой и, прижимая мою руку все сильнее к своей, говорит: «Не надо цветов, лучше масла и яблок для детишек, масла для детишек». Я долго ходила по пустынным улицам Плесси, разговаривая с голосом Дины. «Ведь, я потому не покупаю масла, объясняла я ей, что не нахожу, а не потому, что мне денег жалко». Пообещав найти масло и привезти в Плесси при первом случае, я все же отправилась искать хризантемы. Она весело и доверчиво шла рядом со мною. Я возвратилась с цветами на могилу, но сосредоточиться больше не смогла и так и рассталась с нею, как-то потеряла ее…
Около двенадцати я была у автобуса. Ни о чем другом, как о происшедшем со мною, думать, не могла. Она мне сказала, что не люблю я его, и просила ухаживать за ним. И мне стало ясно, это правда, конечно, я не люблю его. Его интересы да и он сам как человек мне очень близки. Я ему очень нужна, да и может быть, что и он мне нужен. Это мне казалось любовью. Я, видно, старухою буду, а все еще останусь наивной.
Он был, оставил бурю, и я завыла в ответ на четырех исписанных для него страницах. Я не должна была ему признаваться, что говорила с Диной. Мне тяжело теперь с ним быть и разговаривать.
Он хочет быть сильным, предпочитает говорить и петь хвалы аскетизму. Притворяется ли он, обманывает ли себя, хочет ли обмануть других, или только меня? Или он действительно живет во сне и не отдает себе в том отчета?
Мне тяжело, очень тяжело, неужели начну страдать за него. Из-за этого страдания ночью не спала. Не помню себя такою. Неужели имели на меня такое огромное влияние мои воспоминания пережитого на гробу Дины? Или борьба, чтобы скрывать от него мои чувства и переживания?
Я вчера рассказывала о моей поездке в Яссы, Черновицы, и затем в Букарешты. Я говорила долго обо всем, не останавливаясь, наконец, после полуночи, мы разошлись. Мне снилось, что я продолжаю ходить, действовать около него, нам обоим очень хорошо, тепло, как будто мы как-то высказались, и никто из нас не удивлен и не поражен. У нас гости. Какие-то француженки. Николай идет к T.S.F., повертывает кнопку и в то же время он касается спинки кресла, в котором я сижу, и спрашивает меня по-русски, как если бы спросил бы меня, приносили ли молоко: «Значит ты меня действительно любишь?» Я отворачиваю голову, чтобы не видеть его счастливой улыбки, и отвечаю: «А ты в этом сомневался?»
Вчера он читал мне свои стихи. Сколько величия, творчества и музыкальности души ощущала я в них, его слушая. Он говорит, что стихи Поплавского лучше его, нет, он это говорит по скромности или же сам не сознает, до чего глубоко трогательна его поэзия. От нее веет здоровым стремлением к чему-то, в ней чувствуется дух здорового нормального человека, в то время как от Поплавского веет смертью.
Я чувствую, у него легко теперь на душе, а отдает ли он себе отчет, почему это? Почему мы остаемся сидеть и говорить до двенадцати и часу, не замечая времени? Или он где-то далеко, он действительно поднимается на небо вместо того, чтобы видеть мою близость, чтобы чувсвовать, как вся душа моя его целует?
Я его вчера любила, вчера, но завтра при встрече не буду его любить, нет, буду другом, другом Бети…
Мои прекрасные птенцы, Степушка и Бобуник. Как скоро и как прочно сумели вы завоевать себе такое место в сердце моем и во всем моем существе. Мои дорогие, я молю о вас днем и ночью, чтобы Господь Бог сохранил вас здоровыми и вселил в вас все то, что поможет вам бороться с жизненными препятствиями.
Я люблю Бобика, но его любить — это просто. Зато Степан, а его я еще сильнее люблю… Мне кажется, скоро найду подход и к его маленькой но уже столь сложной душе. Я чувствую, что только мягкостью и всей своей любовью я найду эту дорогу. Но в то же время спрашиваю себя, не изменяю ли этим Бете. Она их дала мне потому, что я с ними, ей казалось, так же строга была, как и она. Если бы она издали видела б, как мягка я сейчас со Степаном, не болела бы ее душа? Я думаю о том, что Степана она, наверно, не найдет, когда вернется, но имела ли она его прежде? Она его звала к себе молитвами, но это средство ей остается. А, может быть, она до того изменится, что это не будет больше иметь значения?
Как странно, думая о моих отношениях к детям, я задаю себе вопрос, не изменяю ли Бете, а любя и ухаживая за Николаем, — остаюсь ли я ей верна? Но ведь с этого вопроса я начала все наши отношения. Я Николая не хочу переделать, но продолжать ему давать то, что давали Дина и затем Бетя, и часто себя только о том спрашиваю, смогу ли? Достаточно ли я богата в моральном отношении?
До Дины, я знаю, мне очень далеко, а Бетя — единственная, и она же и Дина, то есть в ней Николай находит Дину, ее он любит. Его любя, хочу вместе с ним любить и хранить Бетю и память Дины. Я его хочу, да хочу, но не хочу его забирать у Бети, хочу поддержать это пламя к Бете.
Дина права, нет, я не люблю его так, как люблю детей, их я хочу, хочу навсегда, мне кажется, я никогда с ними не расстанусь. А к Николаю не такое у меня чувство. Я хочу ему давать, но хочу брать у него, а где расчет, там нет любви, и потому я с такой твердостью уверена, что всегда смогу уйти от Николая. У Бети и Дины, наверно, этого расчета не было.
Уверена ли я в возвращении Бети? Да! Только мысль о ней меня толкает всецело к Николаю. Если бы Бети не было, если б узнала Николая свободного, наверно старалась бы уйти от него и ушла бы, как и думала это сделать, если б он своих детей отдал и остался бы на время свободным.
Правдива ли я? Вот как это пишу. Теперь десять часов вечера, я, закрывая глаза, вижу его суровое лицо, его любимую голову, смотрю на него, близкого мне и далекого, далекого… Потому что чувствую его далеким, потому и не смогу уйти от него, да, потому что с ним сплавиться, как оне, я не смогу и потому-то не люблю его, его не так любят.
Я хотела бы, давая ему и беря от него, ничем не изменить ни его теперешнюю жизнь, которая мне кажется идеальной, ни мою, не хочу отдать ему своей свободы, с таким трудом, болезнью и даже сумасшествием заработанной.
А Граевскому хотела ли отдать я эту свою свободу? Он обвинял меня в том, что я его не любила, в эгоизме. Но нет, он не был прав. Он был слепо легкомысленным и наивным, к тому же я не была уверена в его любви, он не мог любить во мне идеал свой. Он был и остался далек. Только любя идеал в том или другом человеке, действительно любят этого человека…
А вчерашнее видение Николая с черными очками?
6 декабря 1942
Милая мама. Я очень тебя прошу, чтобы ты нам возвратила Бетю. Надеюсь, что Бети хорошо и она не очень грустит по нас. Передай Бети, что мы не в Villemoisson, а у нас дома. Мы смотрели с Тятенькой как жывут в Villemoisson. Маня нашла нам одну старуху, которую зовут madame Durassier.
Целую тебя. Борис.