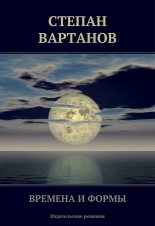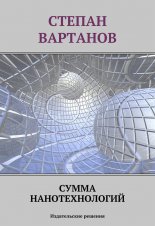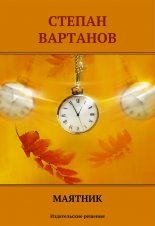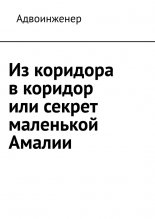Океан безмолвия Миллэй Катя

— Да. — Джош насторожился. Кажется, он немного нервничает, это ничего, я ведь и сама напугана.
— Зачем мы приехали в Брайтон? — Я стараюсь говорить и вести себя спокойно, потому что возбужденность меня никуда не приведет, и, говоря «никуда», я имею в виду «никуда за пределы Брайтона».
— У нас здесь заказан столик. — Голос у него робкий. Он взирает на меня так, будто ждет, что я вот-вот потеряю рассудок.
Я молчу. Не в состоянии говорить.
— Ты любишь итальянскую кухню. Я сравнил рейтинги полсотни заведений в радиусе двух часов езды от нашего города, и это оказалось самым лучшим. К тому же мне удалось зарезервировать для нас столик. А что не так? — Он обескуражен, и я его не осуждаю.
— Джош, у нас в городе, наверно, пятьсот итальянских ресторанов. Ты мог бы сводить меня в любой из них. Зачем было ехать два часа для того, чтобы где-то поужинать?
— Чтобы мы могли разговаривать.
Чтобы мы могли разговаривать. Сказал так, будто это самый очевидный ответ на свете. Мы ехали два часа, в такое место, где нас никто не знает, чтобы за ужином мы могли вести беседу. Мне хочется смеяться и плакать, и задушить его в своих объятиях. Вместо этого я его целую. Едва мои губы касаются его губ, он кладет руку мне на шею, привлекает к себе, будто сто лет ждал этого мгновения и теперь ни за что меня не отпустит. Но я и не хочу, чтобы он отпускал, и, если б руль не мешал, я забралась бы к нему на колени — просто чтоб быть ближе.
Потом он чуть меняет положение, и я больше его не целую. Теперь он целует меня. И часть меня исчезает. Но это та часть, что искорежена, исковеркана, изуродована, и на короткое время, пока его ладони в моих волосах, а губы на моих губах, мне удается убедить себя, что ее никогда не существовало.
— Я думал, ты рассердилась, — говорит он, когда я отстраняюсь. — Не то чтобы я жалуюсь…
— Я рассержена, но не на тебя. — Я все еще держу его за плечи и не хочу отпускать.
— А на что тогда? — спрашивает он, убирая упавшую на лицо прядь, что выбилась из пучка.
— На все остальное.
Джош приложил массу усилий, чтобы организовать ужин, за которым мы могли бы разговаривать, и в результате привез меня в единственное место, где мы говорить не сможем. Сейчас он смотрит на меня так, словно в толк не возьмет, что все это значит и как нам теперь быть. Я же просто предпочла бы вернуться домой, в его гараж, где мне комфортно, где я стала бы шкурить доски, наблюдая, как у моих ног вырастают кучки древесной пыли, где меня не покидает стойкое ощущение, что, пока я там, у меня все хорошо.
Его взгляд заставляет меня нервничать, но я не могу отвести глаза. Он снова наклоняется ко мне, и я замираю. Он снова прижимается губами к моим губам, целует с неким благоговением, и это меня пугает, потому что более восхитительных ощущений я еще не испытывала.
— Прости, — говорит он. — Я очень давно мечтал об этом и просто захотел еще раз тебя поцеловать.
— Давно?
— С того самого вечера, когда ты впервые появилась в моем гараже.
— Хорошо, что ты тогда меня не поцеловал, — признаюсь я.
— Почему?
— Меня же только что стошнило. Приятного было бы мало.
— Зато сейчас… все так романтично. — Джош улыбается, и я отстраняюсь, откидываюсь на сиденье, думая, что сказать.
— Ну что, идем? — наконец спрашивает он.
Я качаю головой.
— Нам нельзя здесь оставаться.
— Почему? — допытывается он. И мне горько, что я вынуждена пустить все его старания насмарку. Ну сколько можно разочаровывать людей, которые мне дороги? Не хочу я добавлять в этот список Джоша Беннетта. Я этого просто не вынесу. Но сейчас выбора нет. Ничто не заставит меня войти в этот ресторан. Я смотрю на Джоша. Жаль, что не могу на его вопрос ответить просто поцелуем. Увы, от ответа мне не уйти.
— Потому что я отсюда родом.
Наша попытка провести вечер, как нормальные люди, заканчивается посещением захудалого придорожного кафе на пути между Брайтоном и домом, где мы ужинаем отвратительной пиццей. Не скажу, что это нормально. Это даже не исключительно. Это идеально. И мне хочется, чтобы это ощущение идеальности не исчезало, но так не бывает. Таким людям, как я и Джош, идеальное недоступно. Обычно нам достается то, что даже отдаленно нельзя назвать сносным. Вот почему меня это пугает. Ибо, даже если идеальное существует, оно быстротечно.
Около одиннадцати мы останавливаемся у дома Марго. Я смотрю на Джоша. Не пойму, почему он привез меня сюда, а не к себе домой.
— Хороший был вечер, — произносит он.
— Разве не я должна сказать это тебе?
— Не знаю. А что, есть какие-то правила? — спрашивает Джош.
— Не знаю, — отвечаю я. — Но мне тоже понравилось. Было весело. С учетом всех обстоятельств. — Мне все еще неловко, что я разрушила его планы.
— Без учета всех обстоятельств, — мягко поправляет он меня, поднося ладонь к моей щеке, наклоняясь и целуя меня. Всего один раз. И это не идеальный поцелуй. Нежный, теплый, настоящий, искренний. — Было весело. Все остальное неважно.
Все остальное неважно. Будь у меня сейчас монета, я загадала бы желание, чтобы все это было правдой. Мне хочется верить в это больше всего на свете.
— Тогда зачем ты привез меня сюда? — спрашиваю я.
Он смущенно пожимает плечами.
— Я подумал, было бы нагло с моей стороны рассчитывать, что ты ляжешь со мной спать на первом свидании.
Джош еще не договорил, а я уже зеваю.
— Если сон — это все, на что ты рассчитываешь, тогда я в деле.
— Что ж… — улыбается он, — от верного дела я никогда не отказываюсь.
С этими словами он дал задний ход, мы выехали на дорогу и покатили к его дому.
Глава 38
Моего первого психотерапевта звали Мэгги Рейнолдс. Она разговаривала со мной, как воспитательница детского сада. Мягко, терпеливо, дружелюбно. Увещевающим тоном. Хотелось дать ей в морду, а ведь мне в ту пору агрессивность еще не была свойственна. Не то что теперь, когда меня бесят все поголовно.
Каждый раз, когда я спрашивала у нее, почему я не могу ничего вспомнить, она отвечала, что это абсолютно естественно. В этом мире все естественно, разве нет? Она сказала, что мой мозг оберегает меня от того, что я еще не готова осознать. Что мой разум никогда не допустит такого стресса, с которым я не могу совладать, и что я вспомню все, когда окрепну. Нужно только набраться терпения. Но как же трудно проявлять терпение, когда у всех остальных его нет.
Пусть все сходились в том, что провал в памяти — естественная реакция организма, однако вопросами-то меня продолжали донимать. И все — полиция, родные, психотерапевты — спрашивали всегда одно и то же. Ты что-нибудь помнишь? И ответ был один и тот же. Нет. Я ничего не помню. Ничего из того, что произошло в тот день.
Но однажды мой разум, очевидно, решил, что я достаточно окрепла, ибо в тот день я вспомнила все, вспомнила и перестала отвечать на вопросы. Думаю, мой мозг переоценил мои силы, однако отключить воспоминания я уже не могла.
Пока память не вернулась, кошмары меня не мучили. Но как только картина случившегося проявилась в сознании, изгнать ее из головы стало невозможно. То событие снилось мне каждую ночь, словно мстило за период забытья. Я просыпалась в поту, дрожащая, в состоянии запомнившегося ужаса, а объяснить никому ничего не могла.
И я стала писать. Выплескивала на бумагу каждую подробность, что сидела в моей голове, чтобы воспоминания оставили меня в покое. Я чувствовала себя преступницей. Будто своим молчанием совершала некое преступление и каждую ночь ждала, что воспоминания призовут меня к ответу, ждала возмездия. Чтобы нейтрализовать их натиск, решила исповедоваться. Каждый вечер писала исповеди в тетради. Слова были жертвоприношением, которое я совершала ежедневно в обмен на спокойный сон, без сновидений.
И они меня ни разу не подвели.
Второй раз за эту неделю мы с Джошем идем на ужин к Лейтонам. Там мы отметили День благодарения, хотя, думаю, будучи некомпанейскими людьми, мы оба с большей радостью остались бы у него дома, заказали бы пиццу, поработали б в гараже. Но миссис Лейтон отказов не принимает. Ее приглашение было не просьбой, а требованием. И сам ужин не шел ни в какое сравнение с воскресными вечерними трапезами. На нем присутствовали бабушки, дедушки, двоюродные братья и сестры, тети и дяди и такие одиночки, как мы с Джошем. Почти весь вечер мы прятались в комнате Дрю, потому что Джош, как и я, ненавидит обниматься, а все эти люди без обнимашек просто жить не могут. Все поголовно.
Когда мы сели за стол, с фарфоровой посудой, вазой с цветами в центре, салфетками, сложенными в форме лебедей, я засняла это на телефон и отослала маме, дабы она увидела, что я в праздник не одна. Не знаю, обрадовалась ли она. Праздничное застолье чужой семьи, наверно, не великое утешение.
В школе всю неделю каникулы, поэтому последние девять дней, не считая Дня благодарения, мы только тем и занимаемся, что мастерим. Погода чудесная, влажность низкая, я работаю на свежем воздухе, покрываю лаком изделия Джоша. Мы наконец-то выяснили, что это у меня получается лучше, чем у него. Он не возражает: полировать ему нравится еще меньше, чем шлифовать.
Мы ездим только к Дрю, в продовольственный и хозяйственный магазины. Почти целый день мастерим мебель. В три часа идем смотреть любимый сериал Джоша — «Больницу», готовим ужин, потом снова работаем в гараже, потом совершаем пробежку и ложимся спать.
Это была идеальная неделя. Жаль, что уже воскресенье.
— Сегодня за музыку отвечает папа. — У миссис Лейтон в одной руке поднос с дважды запеченным картофелем, в другой — графин воды.
— А разве не Дрю? — спрашивает Сара, кладя на стол последние приборы.
— Зря стараешься. Дрю — на следующей неделе. Сегодня моя очередь. — Подтрунивая над дочерью, мистер Лейтон разражается неистовым смехом, и я улыбаюсь: мой папа тоже сморозил бы нечто подобное. Мистер Лейтон открывает шкафчик, забитый компакт-дисками, просматривает их, вытаскивает один и вставляет в стереопроигрыватель.
Услышав первые звуки, я понимаю, что он поставил сонату Гайдна. Ту самую, что я знаю наизусть. Ту самую, что репетировала тысячу раз, готовясь к прослушиванию, которое должно было состояться в тот день в школе. Ту самую, что стала лейтмотивом моей гибели. Эту музыку мы и слушаем во время воскресного ужина. Мелодию моей смерти.
Я не слышала ее с того самого дня. С тех пор, как последний раз играла перед выходом из дома. С тех пор, как сама напевала по дороге в школу. Я и сейчас ее не слышу. Нет, я не делаю ничего ошеломляющего: не роняю тарелку, не теряю самообладание, не устремляюсь из комнаты. Я просто перестаю дышать.
Я иду, напеваю про себя, воспроизвожу в голове каждую ноту. Я не нервничаю, потому что это всего лишь звукозапись, и, если напортачу, перезапишу снова — и не раз, если придется, пока не останусь довольна. Записывать меня будет Ник Керриган, а я ему нравлюсь, и он будет торчать в музыкальной студии столько, сколько потребуется. Он сам так сказал. Мне он тоже симпатичен, так что все в порядке. Я смотрю на свои руки, проверяю, в какой они форме, ровно ли подстрижены ногти. А потом вдруг передо мной вырастает какой-то парень. Он улыбается, но вид у него не дружелюбный. В глазах — угроза. Однако я улыбаюсь в ответ, здороваюсь и иду мимо. А он внезапно хватает меня за руку, до боли стискивает ее. Я оборачиваюсь, но сказать ничего не успеваю: он бьет меня кулаком в лицо. Я падаю, и он куда-то меня тащит. Потом я уже не на земле, он рывком за волосы поднимает меня на ноги. Говорит, что это все из-за меня. Обзывает меня русской шлюхой, велит стоять. Только зачем, если снова сбивает с ног? Во рту у меня кровь и песок, и я уже не помню, как кричать. Даже не помню, как дышать. Неужели я русская? Нет, вряд ли. За что этот парень ненавидит меня? Он столько раз со всей силы дергал меня за волосы, что частично содрал скальп. В один глаз затекает кровь, я им больше не вижу. Должно быть, он устал поднимать меня на ноги, теперь он оставляет меня на земле и принимается пинать. Наносит удары — много раз, я сбилась со счета — в живот, в грудь. Пару раз ударил между ног. Кажется, я слышу хруст ребер. Не знаю, долго ли он меня бил. Должно быть, целую вечность. Я больше ничего не чувствую. Даже боли. Левым глазом пока вижу. На земле, не знаю, как далеко от меня, лежит одна из моих перламутровых пуговиц. Солнце светит на нее, и она переливается разными цветами, и это так красиво, что мне хочется взять ее в руку. Если смогу дотянуться до нее, все будет хорошо. Думаю, парень все еще пинает меня, а моя рука тянется к пуговице, но я не могу ее достать. Все замирает, кроме его дыхания. Я вижу его ботинки возле своей ладони. Потом вообще ничего не вижу, меня окутывает мрак, я больше не чувствую своего тела. Последнее, что я слышу, — хруст костей моей раздавленной руки. Потом — пустота.
— Настя?
— Настя?
Мне незнакомо это имя.
Я открываю глаза и понимаю, что зрение вернулось ко мне. Я лежу на белом жаккардовом диване в доме Дрю Лейтона, крови нигде нет, у меня ничего не болит — только душа. Я вижу журнальный столик работы Джоша Беннетта. Я вижу Джоша Беннетта. Он сидит на полу возле дивана, держит меня за руку, смотрит на меня. В его глазах вопросы, которые он не задает. Все напуганы, даже Сара. Может, и у меня испуганный вид? Я не знаю, что произошло.
Миссис Лейтон заставляет меня выпить воды, хоть я и пытаюсь отказаться, ведь у меня не обезвоживание — я просто отключилась. Очевидно, не дышала так долго, что потеряла сознание. Она хочет позвонить моей тете. Я трясу головой и смотрю на Джоша, умоляя его взглядом. Он говорит, что отвезет меня домой, и я надеюсь, что он имеет в виду свой дом, потому что именно там я хочу быть, хоть мне и не нравится выражение его лица. Такое лицо бывает у людей, когда они опасаются, что одно неверное слово спровоцирует истерику. Но если мне прежде удавалось держать себя в руках, то, лежа на белом жаккардовом диване в доме Лейтонов, я и подавно не позволю себе слететь с катушек.
Я вспоминаю все, что случилось со мной тогда, каждый день на протяжении почти двух лет. Вижу в кошмарных снах. Записываю в тетрадях каждый вечер. Но сегодня я впервые пережила это, словно наяву. Я знаю, здесь я в безопасности. Но я знаю и вкус крови, смешанной с землей.
Я опять ночую у Джоша, с некоторых пор это стало нормой. Чем больше времени я провожу здесь, тем больше мне ненавистно мое одиночество в доме Марго. Я всегда сообщаю ей, где нахожусь, и даже если ей это не нравится, думаю, она понимает, или, может быть, мне просто необходимо верить, что она понимает. У Джоша мне хорошо как нигде, словно это мой дом родной, а дом родной мне сейчас очень нужен.
Мне приходится прятаться в ванной, чтобы исписать свои три с половиной страницы, хотя у меня такое чувство, что сегодня я уже писала. Но я все равно пишу, потом сую тетрадь в рюкзак, за учебник по тригонометрии, будто это моя домашняя работа.
— Молчи, — говорю я, забираясь в постель в темноте, потому что даже в оглушающей тишине, окрашенной в кромешную тьму, я вижу, и слышу, и чувствую роящиеся вокруг меня вопросы.
— Когда-нибудь ты должна мне все рассказать, — тихо произносит Джош, словно в доме нас может кто-то услышать.
— Но не сегодня, — шепчу я в ответ.
Он берет мою левую руку, будто знает, что она хранит все мои секреты. Должно быть, надеется их выведать.
— Ты сидела с открытыми глазами, но тебя как будто там не было. — Он привлекает меня к себе, целует шрам на лбу, обнимает крепко одной рукой, кладет мою голову к себе на грудь, прижимает мое тело к своему. — Я ужасно испугался, а ты не хочешь ничего объяснить.
Я должна ему что-нибудь сказать, поэтому говорю то, что точно не является ложью.
— Порой я просто забываю, как нужно дышать.
Глава 39
— Блин, твоя подружка так вкусно печет. — Дрю сует в рот еще одно печенье. Солнышко не успевает вытаскивать из духовки, он тут же их съедает.
— Она — не подружка, — говорю я, потому что, по ее словам, она мне не подружка, и я не протестую, так как ненавижу это слово. «Подружка» подразумевает наличие официальных взаимоотношений, но если она занимает некое официальное место в моей жизни, значит, возможно, довольно скоро официально исчезнет из нее. Так что раз Солнышко не желает, чтобы ее называли моей подружкой, возражать я не стану.
— Ладно, — парирует Дрю. — Твоя жена. — Он подходит к ней и, обжигая пальцы, хватает с противня печенье. — То-то от тебя всегда пахнет коричневым сахаром и… — он берет со стола какую-то бутылку и читает этикетку, — …ванильным экстрактом.
Он прав. От нее действительно пахнет сахаром и ванилью, но я думал, что это только я заметил.
Дрю снимает колпачок с бутылки, нюхает ее содержимое.
— Слушайте, это ж надо продавать как духи. — Солнышко просто смотрит на него с некоторым отвращением на лице.
— Ты меня нюхаешь?
— Что ты так разволновалась? Я ж не в комнату твою пробрался, чтобы посмотреть, как ты спишь. — Он подходит ко мне, хлопает меня по спине. — Это дело Джоша.
Солнышко кидает в него прихватку, он делает вид, что обижен.
— Не перегибай палку, женщина! Раз ты ничья, сейчас вот брошу тебя на пол и займусь с тобой любовью.
Она издает звук, похожий на рвотный позыв, и он притворяется оскорбленным.
— Тебе омерзительна сама мысль о сексе со мной?
— Нет, секс с тобой — это, как всегда, предел мечтаний. Меня вымораживает фраза «заняться любовью». Ненавижу это выражение. Мне кажется, я и в шестьдесят лет предпочла бы трахаться, а не заниматься любовью. Бр-р. — Она содрогается.
— Прекрасно, — говорит Дрю, снова самоуверенным тоном. — Тогда, раз ты ничья, я прямо сейчас брошу тебя на пол и трахну.
— Сделайте одолжение, — встреваю я. — Либо давайте уже трахнитесь, либо заткнитесь. — Я включаю телевизор — сил нет слушать их треп — и кидаю пульт на диван. Веду себя, как ревнивый кретин. А я и есть ревнивый кретин. Пусть я и знаю, что между ними ничего нет, но мне от этого не легче.
— Других вариантов у нас нет? — спрашивает Дрю. — Я, например, знаю, какой выберу.
Солнышко сует ему в рот еще одно печенье и велит закрыть тему.
— Слушай, я, наверно, фунтов десять набрал с тех пор, как познакомился с тобой. А ты столько этого дерьма жрешь и ничего. Как тебе это удается? — спрашивает он, стряхивая с ладоней крошки.
— Я бегаю, — отвечает она. — Много.
— Нет, это не про меня, — отмахивается Дрю.
— Не волнуйся. — Она улыбается. — С твоим уровнем тестостерона за метаболизм можно не беспокоиться.
— И то верно, — с самодовольным видом соглашается он.
— Кстати, о верности и тестостероне: кто-нибудь объяснит мне, что там за фигня с Тьерни Лоуэлл? — спрашивает Солнышко.
— Нет, — категорично заявляет Дрю.
Она выгибает одну бровь, глядя на него, и он испускает протяжный стон, как ребенок, у которого только что отняли видеоигру.
— Ладно. Но только потому, что я слабенькая и страсть как тебя боюсь.
Дрю усаживается на диван, предлагает ей сесть рядом, но она устраивается у меня на коленях. И плевать мне, что она не моя подружка.
— История стара как мир, — безжизненным голосом начинает Дрю. — Мальчик знакомится с девочкой. Мальчик просит девочку поласкать его в интимных местах. Девочка поражает мальчика тем, что знает немало бранных слов и складно их употребляет. Мальчика и девочку в наказание оставляют после уроков. Расцветает любовь. Они встречаются тайком. Четыре месяца.
Солнышко смотрит на меня, ждет, что я подтвержу его слова.
— Чистая правда, — говорю я с каменным лицом. Я всегда подозревал, что они спали, только думал, всего раз перепихнулись. Как все было, узнал только теперь. Дрю молчал, как партизан, пока я не припер его к стенке на следующей неделе после того пресловутого ужина, на котором затеяли эту дурацкую игру под названием «Правда или расплата». Но я припоминаю, что в тот период с Дрю что-то происходило. Теперь все встало на свои места.
— И..? — спрашивает она.
— И ничего. Вот и все. — Дрю снова включает телевизор.
— Сволочь ты, — бормочет она.
— Сама такая.
Почему-то меня их перепалка не веселит так, как их самих.
Глава 40
Последние три часа мы с Дрю сидим за обеденным столом у него дома. Перед каждым из нас открытый ноутбук, и мы соревнуемся, кто больше нароет материалов и прецедентов на скучнейшую тему — об ограничении количества сроков работы на выборных должностях. Пожалуй, это интереснее, чем налог на бензин — тема, которую нам могли бы подкинуть. Через две недели состоится окружной турнир по искусству ведения дебатов. Я в нем не участвую, но присутствовать мне придется. Да и оценки по риторике мне ставят за проделанную подготовительную работу.
Пока я остаюсь помощницей Дрю по сбору материала. Больше ни у кого из участников помощников нет, но, поскольку я посещаю класс риторики, а сама выступать не могу, он добился, чтобы меня прикрепили к нему. Не будь он так хорош, просьба его не проканала бы, но он защищает честь школы. Дрю выступает успешно — значит, и команда выступает успешно. А если команда выступает успешно — значит, мистер Трент хорошо поработал. Поэтому он готов дать Дрю все, что тот ни попросит. Меня это вполне устраивает, ибо при таком раскладе я избавлена от домогательств Итана Холла. Тот почему-то думает, что, предлагая мне в методкабинете отсосать у него — в его понимании это невинный флирт, — он ведет себя романтично.
Я вручаю Дрю распечатки и свои записи, и мы, чтобы закончить работу к вечеру, делим ее на двоих. Я не перестаю донимать его вопросами о Тьерни.
— Но вы же можете остаться друзьями. Это лучше, чем ничего. — Я не большой специалист по части отношений. Никаких. Ни родственных, ни романтических, ни дружеских. Отношения предполагают общение, а это не мой профиль, так что отношения — не моя тема. Я просто в толк не возьму, почему Дрю ведет себя так, будто ненавидит ее, хотя ненависти к ней у него явно нет.
— Нет, не лучше. Это гораздо хуже, чем ничего.
— Чушь. У вас, парней, это коронная фраза, потому что так проще.
— А девчонки вечно стремятся изменить правила во время игры. Но нельзя изменить правила, рассчитывая, что все будут продолжать играть как играли. Я знаю, как пахнут ее волосы, но не могу приблизиться к ней, чтобы зарыться в них лицом. Я знаю, какая у нее нежная кожа, знаю на ощупь каждую частичку ее тела, но не могу прикоснуться к ней. Я знаю вкус ее губ, но не могу поцеловать. Мне это больше не позволено. Так зачем крутиться вокруг нее, мучая себя лишь для того, чтобы можно было сказать, что мы по-прежнему друзья?
— Все равно непонятно.
— Что тут непонятного? Подумай с минуту, и сразу все поймешь. Если б вы с Джошем вдруг перестали быть вместе, думаешь, ты смогла бы общаться с ним как ни в чем не бывало? Приходить к нему домой, но не касаться его? Радоваться за него, когда он идет на свидание с другой девчонкой, которая будет знать о нем все то, что знаешь ты, а тебе самой это знать теперь не позволено? Ты бы тоже так не смогла.
— Джош в меня не влюблен, и я в него тоже.
— Расскажи это кому-нибудь другому, Солнышко, а мне не надо. Ты видела, как он на тебя смотрит? — Я видела, как он на меня смотрит, но не знаю, что это значит. — Как на стол семнадцатого века, украшенный резьбой ручной работы, причем в идеальном состоянии.
— То есть он смотрит на меня, как на мебель?
— Именно. Видишь? Ты меня поняла.
— Умников никто не любит.
— Ошибаешься. Умников любят все. А ты — особенно. — Дрю пристально смотрит мне в глаза. Очевидно, что он не станет доказывать свою теорию, пока я не соглашусь. — «Останемся друзьями» — это все сказки, и ты сама убедишься, когда с тобой подобное произойдет. Когда вы расстанетесь, ты сразу сообразишь, что я имею в виду.
— Мы не можем расстаться, потому что мы не вместе, — чеканю я сердито, но его не проймешь.
— Пустое. Это произойдет, что очевидно всем… — Дрю обводит жестом комнату, в которой никого больше нет, — …кроме тебя. Однажды вы напьетесь и затрахаете друг друга, и поймете, сколь безнадежно, сколь глупо вы влюблены, или наоборот — не влюблены. Я же знаю вас обоих. Это возможно. Но в любом случае вы будете вместе. А потом, в один прекрасный день, разбежитесь. И когда такой день наступит, обещаю тебе, друзьями вы не останетесь. Вы возненавидите друг друга, но друзьями не будете.
— Я не хочу, чтобы он меня любил. — Уму непостижимо, зачем я разоткровенничалась, но это правда. Я не хочу связывать себя обязательствами, возлагать какие-то надежды. Не хочу, чтобы кто-то из-за меня разочаровался в жизни.
— Он тоже не хочет тебя любить, так что, думаю, здесь вы квиты.
Зря мы завели разговор о Джоше.
— Мы вроде говорили о Тьерни.
— А нам надо обсуждать ограничение количества сроков работы на выборных должностях.
— Ладно. Я приму твою невероятную теорию о дружбе, если ты расскажешь, что произошло. Может, зная, чем все кончилось, я с тобой соглашусь. — В принципе, я уже начала соглашаться с ним, но ему этого пока не говорю. Хочу услышать его рассказ.
— Я повел себя, как скотина.
— Кто бы сомневался. Ближе к делу.
— Мы стали встречаться. По-настоящему, — пояснил Дрю. — Не так, как я обычно. Тьерни не хотела афишировать наши отношения; боялась, что будут думать, будто она — очередное имя в длиннющем списке моих одноразовых подружек. Сказала, что она не разменивается по мелочам. И она не разменивается. Она никогда не стала бы кадриться со мной просто так. Но этот мудак Тревор Мейсон до меня докопался, ну я ему и разболтал. Я не говорил, что у нас серьезные отношения. Просто сказал, что мы трахаемся. Тьерни обиделась. Порвала со мной. К ней стали относиться как к неудачнице из-за того, что она возомнила, будто бы мне небезразлична.
— Она была тебе небезразлична?
Дрю вонзился в меня взглядом, говорящим, что ответ мне известен. Но сам его не озвучил. Думаю, если б попытался, слово «любовь» застряло бы у него в горле.
— У вас с ней нет ничего общего. Чем она тебя зацепила? Только, умоляю, не надо перечислять части тела или что-нибудь связанное со словом «оральный».
— Тьерни есть Тьерни. Спуску мне не дает, но от меня дерьма не потерпит. Мне с ней весело, но сама она еще больше смеется. Спорит со мной по любому поводу, даже если знает, что проиграет. К тому же она чертовски темпераментна и меня не выносит. Как на такую не запасть?
— Ладно, хватит выступать, не на трибуне. Подводим итог.
— Блин, ну ты и зануда, — стонет Дрю, но это его типичная манера, если он намерен ответить. — Послушай, я знаю себя, знаю, что я не дурак. Заткнись. Не смотри на меня так. Я это знаю, и ты это знаешь. А еще я знаю, что дерьма во мне хоть отбавляй, — признается он искренним тоном. — Тьерни заставила меня понять, что я не совсем пропащий человек.
— Зато сам ты ее мешаешь с грязью. Постоянно оскорбляешь ее чувства. Да, она крепкий орешек и все такое, но сам ты хоть понимаешь, что она живой человек, что у нее есть чувства?
— Разумеется, я знаю, что у нее есть чувства. Знаешь, какая она умная? Нет. Никто не знает, потому что она не хочет, чтобы об этом знали. Не хочет, чтобы знали, какая она веселая и милая, — да, я сказал «милая», и если ты когда-нибудь это повторишь, пеняй на себя. — Бросив на меня гневный взгляд, Дрю продолжает: — Знаешь, кто все это знает? Я. Так что да, Настя, я знаю, что у нее есть чувства, и знаю, как задеть каждое из них.
— Именно этим ты и занимаешься, да? Тебе стыдно, что ты ее обидел, и, заглаживая свою вину, ты снова ее обижаешь? Ну ты и козел. Почему просто не извинился сразу, когда это случилось? Почему не сказал всем правду? — Я закрываю ноутбук, отодвигаю его в сторону.
— Потому что она сильно разозлилась на меня. Порвала со мной, сказав, что всегда знала, что я сволочь, и правы те, кто считает ее жалкой дурой, поверившей в то, что я могу быть другим.
— И все?
Дрю явно что-то недоговаривал. И тогда он рассказал, что после того как Тьерни выдала ему все это, он пошел на вечеринку и перепихнулся с Карой Мэттьюз.
— Да ты что! — Казалось бы, Дрю меня уже ничем не может удивить — удивил.
— Потому что мне было тоскливо, досадно, я потерял ее по собственной дурости. Вот я и решил, что раз я свинья, то и действовать надо соответственно.
— Знаешь, для человека, мнящего себя большим мастером дебатов, у тебя серьезно хромает логика. Ты Тьерни не потерял. Не потерял, пока не трахнулся с Карой Мэттьюз. Это была проверка.
— Во-первых, я действительно большой мастер дебатов. Во-вторых, никакая это была не проверка. Тьерни действительно порвала со мной. Она меня возненавидела.
— Потому-то это и была проверка. — Странно, что я, неудачница, не имеющая никакого опыта в сердечных делах, понимаю это, а Дрю Лейтон — нет. — Она предоставила тебе блестящую возможность доказать, что ошибалась на твой счет. А ты сунул свой член в Кару Мэттьюз, подтвердив, что Тьерни для тебя ничего не значит и все ее представления о тебе абсолютно верны.
Перед собой кривить душой я не стану: я знаю, за что обожаю Дрю Лейтона. В каком-то смысле он такой же эмоционально закомплексованный неудачник, как и я, только выражается это по-другому. Но в данный момент я просто ненавижу его за его космический идиотизм. Я подхожу к нему, обнимаю, кладу голову ему на плечо, ибо я знаю, что такое отвращение к самому себе, и если я еще на что-то надеюсь, то и для него не все потеряно.
— Ты и вправду засранец, — говорю я.
Дрю вздыхает, опускает подбородок на мою макушку.
— Это самое я и пытаюсь тебе растолковать.
Как-то так получилось, что я засиделась у Дрю до возвращения его родителей и Сары. Меня уговорили остаться на ужин. Я не очень противилась. С тех пор, как Сара перестала быть моим смертным врагом, для меня это не наказание.
В какой-то момент после той адской вечеринки Сара решила, что я не вызываю у нее отторжения. Пусть та вечеринка от начала и до конца была полный отстой, один положительный результат она все же дала: напряженность в наших с Сарой отношениях исчезла. Мы, конечно, не делимся историями о своих сексуальных похождениях, не ходим вместе покупать нижнее белье, и все же… Если бы знала, что Сара станет ко мне добрее, если я научу ее сбивать с ног парней, я давно бы предложила ей свои услуги. В общем, ситуация улучшилась, общаться с ней мне стало проще, даже приятно.
— Тебе без косметики лучше, — говорит она мне; наверно, думает, что делает мне комплимент. Не знаю, лучше ли мне без косметики или я просто выгляжу по-другому, но я пока не готова отказаться от своего макияжа. — Если б ты красилась и одевалась нормально, у тебя было бы больше друзей. Хоть ты и не разговариваешь. Тебя ведь боятся.
Замечательно. Это и есть моя цель. Беседа у нас с ней односторонняя, но лучше уж так, чем злобные взгляды, оскорбления, презрительное отношение, как к парии, — это все, что мне обычно доставалось от Сары.
— Не к каждому общество благоволит так, как к тебе, Сара, — вмешивается в наш разговор Дрю. — Тебе повезло, что ты моя сестра. Подарок судьбы.
— Скорее проклятие, — парирует Сара. Судя по ее тону, она искренне так считает.
— Ну-ну. Не будь я твоим братом, у тебя не было бы и половины твоих друзей и ухажеров. — По-моему, Дрю шутит, но Сара от его слов взорвалась. И, слушая ее ответ, я ее не осуждаю. Напротив, мне становится ее жаль.
— Ты абсолютно прав! В этом вся чертова проблема, Дрю! Девчонки хотят дружить со мной, потому что надеются, что я — прямой доступ к тебе. Мальчишки хотят встречаться со мной, потому что уверены, что я такая же дешевая потаскуха, как ты. Считаешь, что я своей популярностью обязана тебе? Точно. Вся ответственность на тебе.
Сара умолкает, она выдохлась. Дрю, я вижу, уже жалеет о своих словах. Никак не ожидал такой яростной реакции. Мне невыносимо находиться с ними в одной комнате. Нет ли у кого-нибудь плаща-невидимки? Мне бы он сейчас пригодился.
— Мне противно быть твоей сестрой! — шипит Сара. — Что угодно готова сделать, лишь бы не иметь такого брата!
Дрю молчит. Ни наглых реплик. Ни насмешек. Просто выходит из комнаты, оставляя меня с Сарой. Та начинает плакать. Надеюсь, у них дома есть мороженое. А то как ее успокоить, ведь я не разговариваю?
— Я его ненавижу, — произносит Сара сквозь слезы. Я знаю, что это не так, но возразить не могу.
Чуть позже всю мебель в комнате мы снова сдвинули в одну сторону, чтобы продемонстрировать мистеру и миссис Лейтон успехи Сары в освоении приемов самообороны. Я тащу Дрю обратно в гостиную и предлагаю ему выступить в роли хулигана, а Саре напоминаю, как нейтрализовать противника. И Дрю покорно позволяет сестре колошматить и валить его с ног, причем не раз и не два; не ропщет, даже когда ему больно. Потом, напоследок, он нападает на нее сзади, шепчет: «Прости» и заключает сестру в объятия. В душе я надеюсь, что она вывернется из его тисков, ударит его локтем и помчится прочь, как я учила, но она, к моей радости, ничего такого не сделала. Дрю еще раз извиняется, и Сара в его объятиях поворачивается к нему лицом и тоже его обнимает.
Едва он чуть расслабляет объятия, она со всей силы наступает ему на ногу и имитирует удар коленкой под яйца. Миссис Лейтон аплодирует.
Глава 41
— Ты губишь свои руки, — говорит мне Джош. Он берет их, поворачивает ладонями вверх, рассматривает. Я отдергиваю руки, но улыбаюсь, потому что это комплимент. Мне он нравится даже больше, чем «чудо как хороша — глаз не отвести».
— А меня и такие устраивают, — отвечаю я, тоже разглядывая свои ладони. — Сразу видно, что я хоть что-то ими делаю. — Пусть теперь я не могу найти им более достойное применение, такое, что мне больше по нраву — если в моду вдруг не войдет игра на фортепиано одной рукой, надеяться мне не на что, — но, по крайней мере, не бездельничаю. Джош шкурить не любит. Очень не любит, считает, что шлифовка — нудное занятие. Он все пытается заставить меня работать на шлифовальном станке, когда это удобнее, но работа на нем мне удовлетворения не приносит. Мне нравится шкурить вручную. Монотонная однообразная работа, под которую хорошо думается. Я придаю гладкость шершавым поверхностям. В конце вечера смотрю на свой труд, на гору древесной пыли и радуюсь: виден результат работы. Глядя на свои руки, я не замечаю царапин и ссадин. Я вижу не ранки и трещинки; я вижу процесс заживления.
Кажется, я все еще, как идиотка, улыбаюсь своим рукам и, когда поднимаю голову, встречаю взгляд Джоша — он смотрит на меня с уважением. И этот его взгляд для меня дороже слов «чудо как хороша».
— Они у тебя были нежные, а от наждака огрубели, — говорит он. — Скоро будут как у меня. — Неужели он думает, что такое сравнение оскорбительно для моих рук? У Джоша волшебные руки. Я могу часами смотреть на них, наблюдая, как они преображают доски в такие вещи, что эти доски и представить себе не могли.
— Я не буду к тебе прикасаться, ты и не заметишь.
— Не делай опрометчивых заявлений, — шутит он, снова беря мои ладони в свои и большим пальцем проводя по одному из шрамов на моей левой руке. Пластические хирурги сотворили чудо, но добиться совершенства так и не сумели. При внимательном рассмотрении заметны все изъяны. — Мне просто нравятся твои руки, — продолжает Джош, не отрывая глаз от моих ладоней. — Порой мне кажется, что только они у тебя и настоящие.
У него много высказываний в таком духе. Словно он напоминает мне, что, если не задает вопросов, это не значит, что он забыл о них.
— Хочешь проверить ту свою теорию на практике? — спрашиваю я с улыбкой. Не выпуская моих рук, Джош тащит меня к стене.
— Только дверь надо закрыть.
Половину субботнего утра я сижу, поджав под себя ноги, на платформенной тележке в магазине стройматериалов, а Джош возит меня по проходам между штабелями досок, объясняя, чем отличается один тип древесины от другого. Я узнала, какое дерево идет на изготовление мебели, какое лучше использовать для напольного покрытия, какое — для отделки и так далее. Наконец Джош прогоняет меня с тележки, ему нужно накладывать доски, и мне приходится идти самой. Может, мне и не понравилось, что он заставил меня встать, но в ближайшие двадцать минут я смогу наблюдать, как он грузит пиломатериалы, а тут уж жаловаться я не стану по многим причинам. Ради такого случая можно и постоять.
По возвращении домой мы планировали заняться лакированием, но полил дождь, а за закрытой дверью гаража работать невозможно, да и лак от влажности мутнеет. Теперь я это знаю, и не только это. Уроки труда в школе и у Джоша не проходят бесследно.
После обеда мы торчим на кухне. Я подумала: раз Джош учит меня разбираться в древесине, я научу его печь приличное печенье. Велю ему насыпать муку в мерный стакан. Он повинуется, но лишь для того, чтобы меня позлить. В результате я отнимаю у него муку и стакан и насыпаю сама.
— Зачем мне учиться печь печенье, если для меня его печешь ты?
— Видишь ли, — отвечаю я, пододвигая к нему пакет коричневого сахара и другой мерный стакан — раз уж ему так хочется что-нибудь сыпать, — может так случиться, что однажды меня здесь не будет, и ты останешься без печенья. — Я жалею о своих словах, едва они слетают с языка. Про себя фигачу эту мысль ногой под яйца и, когда она сгибается в три погибели, коленкой даю ей в морду, чтоб она никогда больше не поднимала свою безобразную голову. К сожалению, слишком поздно.
— Все нормально, — тихо говорит Джош, едва заметно улыбаясь. — Я больше на это не реагирую. Все деликатничают, боятся задеть мои чувства. Не будь как все, ладно?
— И тебя это не злит?
— А смысл?
— То есть тебя это устраивает?
— Я сказал, что не злюсь. Я не сказал, что меня это устраивает. Я понимаю всю ту чушь, что люди говорят. Это естественно. Это неизбежно. Это часть жизни. И все же трудно смириться с тем, что кто-то просто берет и исчезает, будто его никогда не было. Но постоянно злиться тоже не дело. Я знаю, что это такое. Раньше все время злой ходил. Надоедает.
— Я на твоем месте была бы самым сердитым человеком на земле.
— По-моему, ты уже такая.
Возражать бессмысленно, поэтому я подхожу к нему и показываю, как нужно утрамбовывать коричневый сахар, но по-прежнему чувствую себя дерьмово.
— Когда здесь управимся, поможешь мне переставить от стены журнальный столик? Думаю выкинуть ту дрянь, что стоит перед диваном, — говорит Джош, меняя тему разговора. Должно быть, специально — чтобы избавить меня от неловкости.
— Ты намерен передвинуть на середину комнаты любовь всей своей жизни и позволить Дрю осквернять ее своими туфлями, когда ему заблагорассудится? — Вот уж сюрприз так сюрприз. Я ведь знаю, как Джош дорожит тем столиком.
— С каких это пор он стал любовью всей моей жизни? — удивляется Джош.