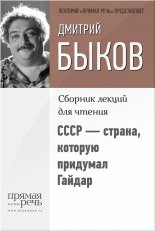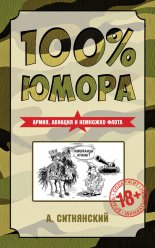Русскоговорящий Гуцко Денис
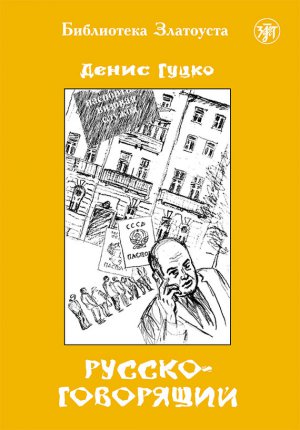
Оплывшая свечка, шкаф-калека, опирающийся на стопку книг. На диване, в угольных тенях и меловых складках простыни Люськина спина. Она лежала на боку, линия бедра загибалась круто, по-скрипичному. На этот раз Митя задержал взгляд, долго смотрел на её спину, на шёлковую лепнину теней. Он любил женские спины. Красивые женские спины. У Люськи красивая спина. Ладно, он готов признаться в любви к Люськиной спине. Она прекрасна.
Смотреть на неё спящую всегда приятно. Люся смачно поедает свои сны — наверное, сплошь яблочные и персиковые. Однажды, когда Митя жил ещё в Бастилии, он вернулся поздним вечером и заглянул к Люське. Она спала, сидя в кресле, а в руке её лежало надкушенное яблоко — и Мите показалось, что это яблоко случайно выкатилось из её сна.
Митя снова вспомнил, как, возвращаясь домой, он задерживался на лестнице Бастилии и смотрел на крыши Филимоновской, напоминавшие ему старый Тбилиси. На разной высоте, развёрнутые под неожиданными углами, собранные в кучу. Угловатые грозди крыш. Как в старом Тбилиси. Но по самой Филимоновской Митя старался не ходить. То была удивительная улица. Дома, сутулые и морщинистые, как пень грибами обросли разными пристройками, флигельками, чуланами, сарайчиками и кухоньками. Строилось для другой жизни, смотрится одеждой с чужого плеча, шитой-перешитой, безнадёжно испорченной. Высокие буроватых оттенков створки с еле угадывающимися орлами и «ятями» скрипят на ветру.
Перед некоторыми дворами, на узком тротуаре — мусорные жбаны. Бомжи по этим жбанам не лазают, взять там нечего. Самое интересное время на Филимоновской — раннее утро. Те, кому на работу, тянутся к остановке, навстречу им, по направлению к поликлинике, шагают те, кому на процедуры. На Филимоновской будильники не звенят, на работу никто не торопится. Но каждое утро люди просыпаются и выходят на тротуары. Женщины с сальными волосами. Мужчины, идущие осторожным каботажем вдоль стен, подолгу раскуривающие мятые «бычки». Они останавливаются перед своими дворами и стоят, оглядываясь по сторонам — и видно, что не просто так стоят. Постояв некоторое время, они чаще всего начинают сходиться по два и по три, одна группа сливается с другой. Впрочем, ненадолго. Коротенькие вопросы — «нет», «откуда?!», «е…ся! допили!» — и они расходятся, зорко всматриваясь в прохожих.
— Земляк, мелочи не будет? Десять копеек. Не хватает, — и характерный жест — клешнёй под горло, мол, во как… надо, ну н-надо.
Многие дают. Есть один тип, который в отличие от других вовсе и не давит на жалость. У него есть доберман. Он выходит с доберманом, доберман бежит впереди, как все в этом переулке, всматривается в лица прохожих. Оба худые и высокие, и смотрят они на прохожих как охотники на подлетающую стаю. Хозяин выбирает, направляется наперерез. Доберман трусит рядом. И смотрит снизу, угнув шею к асфальту.
— Мелочи не будет?
Те, кто прибиваются к этой парочке, тут же перестают рядиться в сирот.
— Мелочь есть? Эй, зёма! Нет? Десять копеек, что, нету?
Самое трудное в природе задание — стать местным. Момент, когда Митю перестали донимать утренние «стрелки», он воспринял как победу. Похоже, у него начинало получаться. К Люсе «стрелки?» никогда не цеплялись. А если бывало, по оплошке, она посылала их столь безапелляционно, что они тут же отплывали в сторону. Митя учился у неё манерам. — Ты думаешь, мне приятно материться? А что делать? — Да нет, мне не трудно, я умею. Но понимаешь, при женщинах… — При ком это, при бабе Зине, что ли? Да её эти бесполезные слова вроде «пожалуйста», «в самом деле» только огорчают. Ты ведь в армии матерился? — Ясное дело, общаться-то как-то надо. Но теперь же я не в армии. И вообще. Дома… Ну, в общем, там женщины не матерятся. Не могу привыкнуть. Потом, мат, он ведь для того, чтоб ругаться. Ну, во время драки, или когда молотком по пальцу — всякое такое. А разговаривать матом у меня не получается. — Давай учиться.
Во дворе считалось, что они «подженились».
Со временем Митя стал замечать: Люся не была здесь своей по-настоящему. Она училась музыке — этого было достаточно, чтобы выпасть из общего ряда. Но и совсем чужой, как Митя, она не была. Когда он шёл с Люсей, его, бывало, хлопали по плечу: «Как, жених, твоё ничего?». Но когда он бывал один, здоровались не всегда, по настроению. Люсю, может быть, в конце концов признали бы здесь за свою, пусть и с оговоркой, если бы она не засадила Шурупа.
Шуруп был любимец всего района, говорили, что автомобильный вор. Всегда при деньгах, всегда весёлый и злой, одетый как главный инженер, в глаженый костюм с галстуком, Шуруп одним своим появлением на Братском задавал жизни переулка особый строй. И когда люди спрашивали друг друга: «Шурупа давно видел?», — это означало примерно то же, что вопрос одного моряка другому: «Как там погода?». Он въезжал во двор на такси, непременно на самую середину двора, хотя заезд в узкие ворота стоил водителю немалых усилий, и завидевшие его жильцы встречали его радостными возгласами: «Ооо! Как-кие лю-юди!». Если приехал Шуруп, значит, гулять будут широко и основательно. Одна его любовница, Тоня, жила в Люськиной Бастилии, другая, Вероника — в трёхэтажном доме напротив. Как-то это всё устраивалось, и иногда, начав гулять на одной половине двора, Шуруп на другой день оказывался на противоположной.
С бабой Зиной он дружил, обращаясь с ней вполне для него уважительно, и если не чувствовал потребности ни в одной из любовниц, останавливался у неё на кухне. «Зина! — кричал он в узкое кухонное окно, непрозрачное от налипшей пыли. — Доктор пришёл, лекарство принёс!». И тогда пару дней можно было слушать резкий трескучий голос, то вопрошающий, то поучающий, то восхваляющий Шурупа.
В дрова он напивался редко, больше любил спаивать других. Но если уж напивался, был невменяем. Внешне он делался собран и немногословен, и могло показаться, что Шуруп неожиданно протрезвел — и только колючие, что-то часами высматривающие в окружающем пространстве глаза его выдавали.
В тот раз он приехал в плохом настроении. Таксиста, за то, что тот потребовал закрыть за собой дверь, обматерил насквозь. На чей-то заискивающий окрик с верхнего этажа: «Шеф, стаканы вымыты!», — ответил лишь равнодушным жестом. Баба Зина сбегала в гастроном, вернувшись с парой тяжёлых пакетов и искрами в зрачках
— Зинка, гостей зовёшь? — спросила её караулившая на веранде Елена Петровна.
— Ни-ни-ни, — ответила та с необычной серьёзностью. — Тоска у него, ужыс, какая тоска!
Весь день на её кухне было тихо. Разве что позвякивала посуда и тяжело стукало о столешницу бутылочное дно. Это казалось ненормальным, иззавидовавшиеся соседи, щёлкая на веранде семечки, пожимали плечами. На второй день баба Зина сбегала в гастроном ещё раз. Рванув на втором дыхании, их мрачная пьянка выбралась, наконец, за пределы душной кухни и понеслась в верном направлении. Стол был вынесен на веранду и в мгновение ока облеплен повеселевшими соседями. К гастрономским продуктам добавились тарелки с горками квашенной капусты и солёными огурцами. Повеселевший Шуруп принялся рассказывать бесконечные воровские байки о разобранных за полчаса до винтика машинах, об угонах на спор и под заказ, о том, как за ночь спустили в сочинских кабаках полторы тысячи и вынуждены были угонять «копейку», чтобы добраться домой, а «копейка» оказалась какого-то артиста, и он потом с телеэкрана плакался и всячески их поносил. Рассказал — в который раз — про балерину, которую снял когда-то у Большого театра как обычную шлюху и так обворожил за вечер в ресторане гостиницы «Космос», что она отправилась с ним и его корешами в Ростов и — «всех уважила, потому как я попросил, мне для корешей не жалко». Вновь он был окружён почётом, вновь блистал: отсылал кого-то за сигаретами, бросал не глядя на стол мятые сторублёвки и сыпал агрессивными как пираньи шутками по поводу чьих-то жён. Тоня, пока опасаясь подсаживаться совсем уж близко, сидела напротив и смеялась громче всех. Вероника, красочно подперев бюст, долго торчала в своём окне, но под вечер, смирившись, громко окно захлопнула и больше не появлялась.
Зато Тоня, нарядившись в чёрное бархатное платье, метала на стол что факир из шляпы: капусту, огурцы, грибы — и даже салат, нарубленный необыкновенно мелко, как любил он, и — как любил он — приправленный пахнущим жареными семечками маслом. Кто-то вынес магнитофон. «Иии-ех!» — тут же, не дожидаясь музыки, раздался визгливый клич. Гуляли шумно, словно отгоняя недобрых духов, насылающих на людей тоску, тётки так выбивали по железному полу пятками, что от Братского до Филимоновской стоял плотный кузнечный гул. Но разошлись непривычно рано. Для Шурупа это был уже второй день, и почувствовав, что глаза его слипаются, он хлопнул в ладони, встал и махнув привставшей было Тоне, чтобы не суетилась, отправился спать к бабе Зине на кухонный диван.
— Вот так, — говорили, расходясь, соседи. — Лучшее от тоски лекарство. Клин клином вышибают.
Тоня уходила хмурой, демонстративно отворачиваясь от лукавых подмигиваний.
Среди ночи баба Зина, спавшая на полу возле холодильника, встала попить водички и обнаружила, что Шурупа нет на месте. Зачем-то ей захотелось его найти, то ли она испугалась, что дорогого гостя вновь одолела тоска, то ли ещё по какой-то причине, но она отправилась на поиск. Проверила во всех туалетах, но ни в одном его не обнаружила, постучалась к Тоне, получив в ответ порцию прочувствованного мата, ответила ей тем же, и возвращаясь по чёрным изломанным коридорам к себе, вдруг услышала его голос. Толкнула наугад дверь, из-за которой послышался голос Шурупа, и вошла в Люськину комнату.
Люська в разодранной одежде, со стянутыми ремнём руками и разбитым в кровь лицом, развалилась на кровати, а сверху, приставив к её горлу нож и пытаясь поцеловать её в губы, сидел Шуруп. Баба Зина посмотрела на задыхающуюся избитую Люсю и спросила:
— Успел?
— Нет, — шепнула Люся.
Шуруп нетерпеливо бросил через плечо:
— Иди, иди!
— А кртирант твой… мой, то бишь? — не глядя на него, продолжала баба Зина.
Но Люсе уже не хватило дыхания, чтобы ответить.
— Иди, говорю, не видишь, что ли…
Баба Зина упёрла руки в боки, посмотрела на его оборванный рукав, на торчащие над спущенными штанами ягодицы, усмехнулась:
— Так вижу, ёб твою мать, чё ж не видеть. Мало тебе твоих подстилок? Кричала хоть? — обратилась она к Люсе.
Та кивнула.
— И что, пидары позорные, не могли за мной придтить?! — крикнула баба Зина в стены.
Шуруп зарычал, всё ещё не отводя ножа от Люськиного горла:
— Иди на …, сука старая! Не до тебя!
Хлопнув себя по бёдрам, Зина хохотнула своим похожим на птичий клёкот смехом:
— Ишь ты шельмец! Ну совсем о…л! Мозги, видать, все в яйца ушли.
Она подошла к кровати и аппетитно шлёпнула Шурупа по заду:
— Мясо-то спрячь, спрячь! Пойдём, сердешный, тут делов не будет, — и потянула его за локоть.
Он вырвал локоть, но больше не приставил нож к Люськиному горлу, а растеряно оглядел её заплывшее лицо, мокрую от его слюны грудь. Собрался что-то сказать, но лишь шевельнул губами. Ситуация затягивалась. Баба Зина стояла над ним как над нашкодившим мальчишкой. Люся, улучив минуту, вытащила руку из ослабшей петли и отёрла кровь с губы.
— Пойдём, пойдём.
На какой-то миг показалось, что он и сам готов был уйти, подыскивал достойную реплику, чтобы всё закончить. И вдруг, холодно выругавшись, не обращая внимания на слетевшие до колен брюки, Шуруп вскочил, развернулся к Зине, встретившей его бесстыдный рывок удивлённо-насмешливой гримасой, и совсем без замаха, неправдоподобно куцым движением, будто ключ в замочную скважину, вставил нож ей в живот. Так она и рухнула, удивлённая и насмешливая, с округлённым ртом и поднятыми ко лбу бровями, раскидав во все стороны столпившиеся за её спиной стулья. Шуруп наклонился, натянул брюки и, тщательно расправив складки на сорочке, вышел.
Люсю пытались отговорить, объясняли, что он ведь спьяну, что Зину ему самому жалко не меньше, что жизнь молодую ломать не стоит. «Он уже и похороны оплатил, и место на кладбище самое хорошее, у самого входа. Скажи, мол, попутала с перепугу. Заскочил какой-то, на него похожий, вот и написала в показаниях. А теперь прояснело. А Шуруп даже траур по Зинке носит». Но ничего не помогло.
Шуруп сел.
Митю, вернувшегося с геологической практики, на дверях его комнаты, встретили амбарные замки и казённые свинцовые пломбы. Наследников у покойной Зинаиды не нашлось, квартира оказалась не приватизированной. За грязным кухонным окном, упав ладонями на сложенные колодцем ладони, Митя разглядел разбросанные по полу и столу бутылки — наверное, те самые — и смятые простыни, на диване и на расстеленном вдоль стены матрасе. «Новые постелила», — подумал Митя, и вспомнив о ровных стопках «прахрарирррванных» простыней, дожидающихся нового хозяина в комнате за опломбированной дверью, вздрогнул как от ледяной воды.
При мысли о том, что пришлось пережить Люське, и что могло бы с ней случиться той ночью, Митя впадал в мычащее скотское бешенство. Холодно разглядывал он хорошо запечатлевшегося в памяти Шурупа. Долго и подробно воображал, как бы он проснулся и прибежал к ней на помощь — он то выбивал из руки Шурупа нож, то наоборот они сходились на ножах, и сам Митя то побеждал, то погибал под страшный Люсин крик…
Потом Митя часто размышлял, как бы всё сложилось, если бы после смерти бабы Зины в студенческой общаге вдруг не освободилось место, если бы он остался в том дворе с угольными подвалами, в котором он вот-вот должен был стать своим? Или — остался бы жить у Люськи? Смог бы он тогда увидеть в ней женщину, увидеть и возжелать? Вряд ли. Все эти «если бы» — глупые фиговые листочки, напяленные на правду. В дневной бегущей толпе, провожая взглядом случайные ноги, упруго мигающие под мини-юбкой, он впадал в мимолётное, но приятно обволакивающее либидо. Разглядывая на остановках газетные лотки, напоминавшие панораму женской бани, он чувствовал полновесный подъём и готовность знакомиться на улице. Но Люся… нет, Люся с литыми ногами и гипнотическим голосом оставалась лучшим другом. Казалось, по-другому и быть не может — будто от всего другого его удерживало строжайшее табу, нарушение которого страшнее инцеста. Он не остался у неё, он переехал в общежитие.
А потом появилась Марина
Её не предвещало ровным счётом ничего.
Он познакомился с ней тогда же, когда и с Люсей, и не обратил на неё никакого внимания. Вернувшись после армии на факультет, Митя попал в новую группу: те, с кем начинал учиться, ушли на год вперёд. Она была старостой. Марина как Марина. Протянула руку, и он пожал её. Как возле любой красавицы, он испытал подмешанный к вожделению досадный тремор — такой же приключается перед дракой — но и только. Крутые арки бровей, по-мужски коротко остриженные ногти, весьма лаконичные, проведённые по кратчайшей прямой к нужной точке жесты. Его поначалу насторожила эта манера: «Будто связали её». Нормальная жизнь, в которую Митя вернулся из армейской казармы, какое-то время оставалась для него стеклянной: стеклянные люди занимались невнятными стеклянными делами — записывали лекции, сдавали курсовые работы, читали учебники, в которых, чтобы начать понимать, он должен был два-три раза прочитать одну и ту же страницу. Такие стеклянные, забавные после неподъёмных армейских, заботы одолевали их. Вслед за остальными он занимал себя теми же делами, терпеливо дожидаясь, когда всё вновь станет настоящим. Позади этого ожившего стекла нет-нет, да и вставали чёрно-белые армейские картинки: жирная полоса дыма через весь горизонт, перевёрнутый БТР, пустые глаза беженцев, сидящих на чемоданах где попало, где им указали — всё это было куда как живее. Но картинки удалялись, уплывали, стремительно растрачивая детали, выцветая как армейское ХБ на солнцепёке — и постепенно Митя вернулся оттуда по-настоящему.
Всё было просто. Сыпался медленный пушистый снег. Звонко скрипел под ногами, его было жалко пачкать подошвами, и Митя старался идти по краю дорожки, почти по бордюру. Под отяжелевшими, нагруженными лапами сосен он иногда останавливался, искушаемый желанием пнуть ствол, чтобы мягкие снежные комья с коротким вздохом облегчения ухнули вниз, ему на голову, на плечи — и так отчётливо представлял себе сорвавшийся снег, что жмурился и втягивал шею. Но и сбивать пышные подушки с веток тоже было жаль, и он шёл дальше. Хотя до начала первой пары оставалось лишь двадцать минут, отрезок тротуара, ведущего к геофаку, был пуст: начнут собираться перед самым началом. В узком переулке, протиснувшемся между факультетом и баскетбольной площадкой, раздался скрип, и слегка поскользнувшись, перед ним выскочила Марина. Поворачиваясь к нему спиной, успела улыбнуться и показать глазами на снег — мол, вот так снегопад. Пока она семенила впереди до крыльца факультета, Митя жадно смотрел ей вслед, будто зачем-то ему нужно было запомнить её наклонённую вбок на резком вираже спину, мелькающие ярко-оранжевой резиной подошвы сапожек, белый кружевной платок, гладко охвативший голову, и кружево снега на воротнике пальто. Так, по скрипучему снегу, она и вбежала в его жизнь. Теперь по утрам, приходя на факультет, Митя прежде всего искал её, выхватывал что-нибудь взглядом, моментально оценивал — вроде того: синий ей не идёт — или: ну и взгляд! скальпель! — и отходил, будто бы сделал что-то, что непременно должен был сделать.
Смотреть-то он смотрел, но вполне здоровыми холодными глазами. Пожалуй, она ему не нравилась. Она показалась ему замкнутой. «Да — нет, да — нет». Плюс-минус, батарейка, да и только. Энергия правильности, исходившая от неё, была совершенно баптистской, леденящей душу. Марина, кажется, принадлежала к той героической расе людей, которые никогда не совершают ошибок. Рассказать ей неприличный анекдот — смешной неприличный анекдот — всё равно, что рентгеновскому аппарату рассказать: никаких эмоций, обдаст гамма-лучами, да и только. Она никогда не опаздывала. Никогда и никуда. Даже на практику по кристаллографии, к этим деревянным тетраэдрам-додекаэдрам, которыми заведовал нуднейший Анатолий Михайлович, Марина приходила за пять минут до начала и стояла, листая тетрадку, в неудобном узком коридоре. По утрам её одежда пахла утюгом, платок — она приходила в платке, если шёл снег — она сушила в классе на батарее и аккуратно, квадратиком, складывала в сумку. В том, как она одевалась, особенно в сабельной отглаженности её остроугольных воротничков, было что-то солдатское. Нет, Митя не этого ждал от девушки, в которую мог бы влюбиться.
— Да-а-а, всем хороша девка. Только строгая.
— Ты про кого?
— Да ладно, Митяй, что я, не вижу, как ты на неё пялишься?
— Чушь говоришь.
— Ну да. Только когда так пялятся, потом, знаешь, бывает, что и… женятся.
Он в тот раз от души рассмеялся (вот ведь, все норовят его с кем-нибудь обвенчать: на Братском с Люсей, на факультете — с Мариной), подробно изложил, какой должна быть его жена, почему здешние жёны не выдерживают конкуренции с кавказскими, и что за женой-то он точно поедет домой, в Тбилиси.
— Хорошие жёны водятся южнее Кавказского хребта, дружище! Там академия жён.
Митя говорил темпераментно и убедительно, а договорив, понял, что сам не верит в сказанное.
Удивляясь самому себе, продолжал подглядывать за Мариной.
Замечала ли Марина его шпионаж или нет, она никак этого не выдавала, ни в чём не меняя своего поведения. Вскоре Мите пришлось признать: благопристойность её не была свадебным товаром. Не вывешивалась зазывающей рекламкой — как это часто приключалось с другими девушками из провинции, чрезвычайно веселившими его своей прямотой. Что такое провинциальная барышня в университетской общаге? Боекомплект разносолов под кроватью, лекции по всем предметам, записанные каллиграфическим почерком, «борща хочешь? горячего? со сметаной?» — стрелка компаса как вкопанная указывает на загс. И комната, ненормально чистая, с геранью и ковриками на стене — последняя стоянка на пути к вершине брака. Марина борщей не предлагала, почерк у неё был хуже, чем у медработника.
Митя наблюдал. И всё-таки — нет, она ему не нравилась.
Ни по каким признакам не совпадала Марина с сочинённым Митей идеалом. Всё в ней было не такое. Даже вырез ноздрей. Мите всегда нравились ноздри маленькие и закрытые — и это несовпадение с идеалом, казалось, гарантированно защищает его от настоящей влюблённости. Разве сможет он в неё влюбиться?! Она ведь отличница-переросрок. Даже комендант общежития, стальная товарищ Гвоздь, называет её Мариночка. Она такая правильная, что её можно вносить в таблицу СИ как единицу измерения правильности. Человек-кодекс. Как можно увлечься кодексом?
Митя ругал себя: какого рожна ты за ней шпионишь? Но от привычки этой избавиться не мог.
Марина приходила на полевые занятия по картографии в кедах, в грубых резиновых кедах, ей было плевать, что все косились на эти грубые резиновые кеды. А преподаватель хвалил её, ставя в пример однокурсницам, вышагивающим по кочкам на каблуках и платформах. Она бегала по вечерам на спортплощадке. Одна. Когда приезжали заграничные гости, к ним вместе с преподавателем приставили Марину. А кто ещё так хорошо говорит по-английски?
Её достоинства нервировали Митю. Она наверняка зануда, решил он.
Чтобы в этом удостовериться, он поговорил с ней. Марина держала книгу в щепотке пальцев, снизу за самый корешок, свободной рукой поглаживая себя по коротко стриженому затылку, вверх — вниз, вверх — вниз. Она постриглась накануне и, наверное, ещё не привыкла к новому обнажённому затылку и к щёкочущему ладонь «ёжику». Вверх — вниз, вверх — вниз.
— Ты не знаешь, он автоматом ставит?
— Не знаю, Митя. Говорят, в прошлом году ставил, — Марина почему-то улыбалась.
Она почти всегда улыбалась, когда он с ней заговаривал, будто он что-то смешное говорил.
— А на посещение смотрит? А то я напропускал.
— Вроде бы нет, были бы работы сданы. Знаешь, Митя, мне кажется, органическая химия — не тот предмет, из-за которого тебе стоит волноваться.
— Почему?
— Мить, но у тебя же все работы написаны на «отлично». Кроме одной, кажется, да?
— А… ну да.
Ему понравилось говорить с ней. Особенно же понравилось, как она произносила его имя. Ясно и протяжно. Так произносят только имена тех, кто приятен. Редко кто так приятно произносил его имя. Даже у Люськи с её солнышком в горле не получалось так. Не найдя, как продолжить разговор, он сделал вид, что ему срочно куда-то нужно, а Марина снова улыбнулась. «Наверное, — думал он, впадая в поэтическую задумчивость, пока шёл по угрюмым, без единого окна, коридорам химфака, — наверное, так ангелы-хранители произносят наши имена». И продолжал думать об ангелах, стоя на крыльце на холодном ветру: «Интересно, у них там бывают переклички, собрания? Отчёты… Да, отчёты о проделанной работе. — Итак, ангел Такой-то, отчитайтесь о своём подопечном! Одни смотрят прямо и рапортуют бойко. Другие смотрят в пол… или что там у них… Мой, наверное, каждый раз стоит потупившись. А Маринин ангел — этот, конечно, на лучшем счету, отличник горней подготовки». Странное дело, правильная Марина возбуждала в нём самую разнузданную лирику.
В конце концов разум перестал вмешиваться и, свернувшись клубочком, улёгся зимовать. И тогда-то, в ледяном и ветреном феврале, началось самое завораживающее.
Однажды после зимней сессии они собрались у Женечки. Были обычные студенческие посиделки ни о чём. Гости скинулись на «Кеглевича», хозяйка развела в трёхлитровых банках “Zukko”. Разноцветные банки стояли на журнальном столике, покрытом разноцветными лужицами, и это называлось «шведский стол». Включили музыку. У Женечки папа был моряк, к тому же меломан, так что хороших записей у неё всегда хватало. Марина сидела на диване, поглаживая между ушей Женечкиного кота. Кот был напрочь лишён приятности, даже высокомерной кошачьей ласковостью обделила его природа. «Обычный сторожевой кот», — поясняла Женечка. Наречён он был почему-то Жмурей, без всякого почтения к статусу — возможно, с намёком на слово «жмурик» за его способность спать (или притворяться спящим) даже тогда, когда хозяйка кричала ему в ухо: «Вставай, нас обворовали!». Но такое Женечка позволяла себе редко. Да и кот редко впадал в столь глубокий сон (что было ещё одним доводом в пользу предположения о притворстве). «Жжжмуря! — говорила хозяйка. — Жжжмур-ря!». А Жмуря вместо того, чтобы не открывая глаз, лениво повести в её сторону ухом, вскакивал и становился в стойку.
— Жжжмуречка!
(Женечка, похоже, испытывала нежные чувства к звуку «жжж»: живущего на кухне кенара звали Жора). Вот этот-то сторожевой кот, обнюхивавший всех при входе, время от времени совершавший обходы по квартире, позволял Марине, если выпадала свободная от службы минута, себя погладить. И Марина клала его себе на колени и гладила до тех пор, пока коту не надоедало.
Вечеринка катилась своим чередом. Стоя в тёмной Женечкиной спальне, где он укрылся от весёлого бедлама, Митя смотрел на отражение Марины в остеклённой рамке, вместившей чёрные лодки, чёрные пальмы и жёлтый, рогаликом уходящий в кофейное вечернее море, берег. Профиль её, наложенный на тропический пейзаж, казался кукольно-мягким. Митя чувствовал сладкую обезволивающую робость — робость перед собственными желаниями, такими божественно огромными, что совершенно невозможно было придумать им какое-нибудь стандартное житейское решение. Рисованные пальмы и отражение её профиля поверх этих пальм — это вполне могло заполнить весь вечер. Марина гладила Жмурю и смотрела перед собой, в чёрное стекло окна, наверняка видя какой-то свой коллаж из силуэтов и отражений. Кот урчал, вытянувшись во всю длину на её коленях, но время от времени озирался.
— Я сейчас вот что поставлю.
Женечка вытащила одну кассету и вставила другую.
— Это кто?
— Какая-то Офра Хаза, еврейка.
— Так это по-еврейски?
— Фу, двоечник! Это — на иврите.
— Хорошо.
Марина уронила голову к плечу: «Какая прелесть!». Подчиняясь предчувствию, Митя вышел из спальни в зал. В голове стояла странная, посторонняя мысль — но такая отчётливая, будто была продиктована по слогам: всё уже решено, всё давно решено. Марина ссаживала озадаченного кота на пол и улыбалась Мите той пристальной, адресованной лично — как письмо — улыбкой, которая соединяет двоих, как только что полученное письмо соединяет отправителя и получателя чем-то, до поры скрытым в конверте.
— Потанцуем? — приказала она, поднимаясь.
…Сборы были коротки. Да и не было особенных сборов. Всё делалось как бы само собой, в той же незыблемой уверенности: всё решено.
Люсе он сказал сразу.
Было раннее утро. За длинным чёрным платьем, сохнущим на багете, угадывался апельсин солнца.
— Две недели на рынке, — кивнула она в сторону платья. — Две недели. Окорочка, окорочка, окорочка… Зато заработала вот… как тебе?
Люда готовилась к экзамену по вокалу. Ходила по своей келье, пинала попадавшиеся под ноги стоптанные кроссовки и дышала каким-то особенным образом, словно проглотила насос и теперь старается, чтобы этого никто не заметил. Это был очень важный экзамен. И труднопроходимый.
— Отсев, — повторяла она с отчаяньем. — Отсев, отсев, понимаешь, какой-то идиотский отсев. Зачем, а? Что за слово вообще ненормальное? Ну — посев. А что такое от-сев? А? Правда — зачем этот отсев, ну скажи? Идиотизм!
Ректор, «правнук Мефистофеля», был настроен против Люды. Он даже время спрашивал сочным громыхающим басом. Он сказала ей, прервав занятие: «Вы так собираетесь петь, милочка? Идите тогда в филармонию, они вас с радостью примут. Но приличное сопрано вы никогда из себя не выдавите, это я вам говорю».
Люда то и дело подходила к зеркалу, распускала косы, заплетала их потуже, чтобы не пушились. Через минуту они всё равно становились похожи на пучок чёрных пружинок, и она распускала и заплетала их снова.
— Я слова плохо помню.
— Да перестань метаться.
— Не перестану.
— Только энергию растратишь.
— А если я её не растрачу, я опять возьму на тон выше. Выше, понимаешь! Он меня сожрёт. Забодает своими рожками. Я говорила тебе, что у него шишки на лысине, пеньки от рогов? Говорила, кажется. Тю, я забыла, говорила или нет.
— Говорила.
— Вот ты не веришь, а ты приходи посмотри. Посмотри.
Люся попросила его зайти к ней, «поотвлекать» от предстоящего экзамена — и он пришёл, хоть и пришлось объяснять не произнесшей ни слова Марине природу их с Люсей отношений. Ещё Люся просила пойти с ней, но этого он уже не мог. Его и самого жгло волнение. Он и сам готовился, собирался с духом. Мама предупреждена, собирается в путь. Родители Марины уже в пути, будут завтра. Платье решили шить. Подходящего костюма нет ни в одном магазине. И как со всем управиться, совершенно непонятно.
Люся стала рассказывать о своём Петре Мефистофелевиче, о том, как он отчислил какого-то парня только за то, что увидел его играющим на скрипке в переходе, и было понятно, что рассказывать она собирается долго и подробно. Но Митя спешно засобирался, приврал о несданном зачёте.
— Значит, вот ты какой друг, да? — Люда упёрла руки в бёдра. — С тонущего корабля, да? С тонущего?
— Люсь, ну надо мне, не могу, извини, — Митя открыл дверь.
— Врун и предатель. Вот так!
Уже в дверях он обернулся:
— Вообще-то, да… В общем, я женюсь. Но не завтра, конечно. Собирался потом сказать, официально… Я надеюсь, ты почтишь, так сказать…
У Люды словно что-то лопнуло в лице. Руки её так и остались на бёдрах, но стали невыразительны, мертвы как руки манекена. Но она мотнула головой, словно сбрасывая с себя что-то, сказала:
— А вроде не собирался?
— Да так неожиданно всё. Сам обалдел. Придёшь на свадьбу? Слушай, хочу, чтобы ты моим дружком была.
— Что? Как я буду твоим дружком? Я ж это, того… не того пола…
— Почему нет? Я и Марине сказал. А чтоб не спрашивали, я заранее всем объясню. Если ты мой лучший друг! Почему нельзя?
— Ладно, Мить, беги. Дай тебе волю, ты мне мужские признаки пришьёшь, чтобы ни у кого уже вопросов не возникало.
— Я побегу, ладно?
— Беги, Мить.
Весь тот день, когда Люся должна была сдавать экзамен, он провёл с Мариной. Они заперлись в её комнате и целовались до одурения, до синевы на губах. Они чуть не сделали это — Митя замешкался, не сумев вовремя расстегнуть ремень, долго дёргал, был вынужден сесть, и своей копотливой вознёй извёл на нет весь запал. Шепнув Марине: «Вечером», — он ушёл в свою комнату. Вскоре у него заломило спину и состояние было такое, будто толкал в гору вагон. К вечеру он рассыпался. Казалось, шагнёшь, а ноги-то и нет, горка песка в туфле — так и высыплешься весь. А в ушах трагическим шёпотом звучало это его многообещающее «вечером».
И тогда он вспомнил, что нужно проведать Люду: у неё же экзамен.
— Совсем забыл, — оправдывался он перед Мариной. — Забыл совершенно. Я должен к неё съездить, я не могу не съездить к ней.
Через весь город, гордясь собственным благородством, Митя отправился к Люсе. Поднявшись на её этаж, ещё на веранде, он услышал нечто странное. Митя пошёл по знакомому лабиринту коридоров. Возле одной из дверей на сундуке сидели двое. Курили. Один кивнул:
— О Люська твоя даёт!
Со стороны Люсиной комнаты, выведенное насыщенным академическим, сопрано доносилось: «Русская водка, что ты натворила».
…Люся сидела на полу, закинув локти на диван. Между ног её стояла полупустая бутылка водки и открытая банка магазинного компота. Селёдка и чёрный хлеб нетронутые лежали рядом на развёрнутых нотах.
— П…ц! — она широко раскинула руки. — Не сдала.
Пушкин и спекулянты
Не стал даже штаны искать. Звонили как на пожар. Хлопая глазами, пробежал по квартире — Люси не было. «А, сегодня поёт на свадьбе, поехала переодеваться», — вспомнил Митя и бросился к двери. Он уже поворачивал ключ, а звонок ещё верещал, сверлил сонный мозг.
— Да открываю, открываю.
Светлана Ивановна выглядела так, будто в ней догорал фитиль. Она строго глянула ему в глаза, набрала воздуха, явно собираясь сказать что-то важное, но вдруг передумала, выдохнула.
— Пригласи мать войти, что ли, — сказала она, проходя мимо Мити. — Ну, ты и брюхо отрастил!
«Всем в укрытие, да?», — подумал Митя, втягивая живот. Пока он в коридоре напяливал на себя спортивные штаны и майку, мать, не раздеваясь, прошла на кухню, открыла форточку и зажгла газ своими спичками.
— Кофе есть?
— Закончился.
Она потушила газ.
— Не куришь?
Митя отрицательно качнул головой.
— Молодец. Мужчина. У тебя всегда был характер, с младенчества.
«Хвалит, — отметил про себя Митя. — Не к добру». Светлана Ивановна прикурила, приняла привычную позу, прилепив локоть к рёбрам.
Да-да, всё дело в этом фитиле, который горит в ней. Её темперамент никогда не был во благо — ни ей, ни окружающим. Там, конечно, он был приемлем. Почти что норма. Многие вот так искрят, шинкуют жестами воздух, хватают, где можно взять, превозносят, когда можно похвалить, проклинают, когда можно ругнуть. Здесь это выпирает из общего ряда. Отталкивает. Люди трудно удерживаются возле неё. Нет, сходятся с ней довольно легко, не то, что с Митей. Время от времени рядом кто-то есть, кто-то говорит ей «Светочка», поздравляет с днём рождения, в выходной едет к ней в гости с двумя пересадками. Кто-то есть. Она учит их готовить сациви, гадать на кофейной гуще. Она притягивает как огни шапито, как звуки заезжей ярмарки. Сидя первый раз у кого-нибудь в гостях, Светлана Ивановна непременно произносит один и тот же тост: «Путь нога моя будет счастливой в этом доме». Поясняет: «Так принято говорить, когда первый раз в гостях. Чтобы не сглазить». Упорно пытается наладить календарь взаимных посещений: на этот праздник я к тебе, на следующий ты ко мне. Не оставляет попыток слепить вокруг себя тот мир, к которому привыкла. Но из тех, кто рядом сегодня, мало, кого можно будет обнаружить завтра. Ожидание взрыва, видимо, не располагает к длительным отношениям. Может, и не рванёт, но всё равно утомляет. Она, конечно, не признаётся себе — а больше не кому — но это тяготит её. Там она привыкла к другому. Там человек в клубке, окружённый многими и многими, вовлечённый в водоворот. Там у неё была телефонная книжка толщиной с «Войну и мир». Там можно было звонить подругам в семь вечера: «Слушай, хандра напала. Приезжай. С тебя дорога, с меня стол».
— Здесь каждый сам по себе, — сокрушается она. — Мить, здесь каждый в своём закутке. Как им не скучно? Родственники годами не видятся. Что ж это за жизнь нужно себе устроить, чтоб с родственниками не встречаться, а?!
Она заняла круговую оборону и не собирается сдаваться. Светлана Ивановна в отличие от Мити никогда не пробовала стать местной. Вот ещё! Митя понимал её. Её мать и отец, Митины бабушка и дедушка, так и не стали местными в Тбилиси. Так и не выучили грузинский, всю жизнь оставались приезжими. Она же всегда гордилась своим чистым грузинским, жила с ощущением того, что довершила многолетний родительский труд. Проходить этот путь во второй раз она не желает.
Если бы она не была такой упёртой… Интересно, если бы она не была такой упёртой, можно было бы спасти ситуацию? Если бы не случился между ней и Мариной Карибский кризис?
Но в Марине тоже хватало заряда. Марина никак не хотела смириться с диктаторскими привычками своей свекрови. А Светлана Ивановна не хотела уступать «этой соплячке». Она была старшей в семье, она требовала законного места. Она купала малыша, она накрывала на стол, она решала, какой пирог готовить на Новый год. Ведь так должно быть. Так устроена семья: у каждого свой долг. Разве можно отказывать человеку в исполнении его долга?! Митя понимал со всей обречённостью — этого в ней не вытравить. Доказать ей, что мир устроен иначе, не сумел бы, пожалуй, сам Джордано Бруно.
— Пожалуйста, мама, перестань командовать.
— Я не командую.
— Командуешь.
— Советую. Нормальные люди прислушиваются к советам старших.
— Нормальные люди не советуют двадцать четыре часа в сутки.
— Ну конечно, мать у тебя ненормальная. Спасибо, сынок. Дожила!
Светлана Ивановна клялась не раскрывать рта, не вставать с дивана — и вообще реже попадаться на глаза. Дождавшись возвращения Марины, она в суровом молчании, как постовой, сдавала ей Ванюшу и уходила — искать работу.
Обошла несколько НИИ, пустых и тихих как руины. Работы не было. Тем более не было работы для инженера предпенсионного возраста. В последнем из НИИ даже не стала спрашивать о вакансиях. Заглянула в комнату, в которой прямо по середине, подальше от окон, стоял раскалённый обогреватель, а перед ним, каждая на своём стуле, сидели морская свинка и женщина, вяжущая на спицах. Женщина оторвала глаза от спиц, посмотрела внимательно, но так ничего и не сказала. И оглядев озябшую парочку, Светлана Ивановна решила, что вряд ли захочет стать третьей возле этого обогревателя. В конце концов, она устроилась уборщицей в только что открывшийся банк «Югивест». В вечернюю смену. Зарплата уборщицы оказалась больше, чем аспирантская стипендия и оклад лаборантки, сложенные вместе.
Окончательный разрыв приключился, само собой, на праздник. Митя с Мариной были «в поле», отбирали пробы в контрольных точках. Устанавливал их лично Трифонов, куратор группы. Митю на кафедру он взял нехотя, хорошенько дав понять, что берёт лишнего человека только по доброте душевной. «Геохимия — как китайская медицина. Если правильно выбрать точку, добиваешься максимума». И поскольку «геохимию, как и медицину, не интересует, как туда добраться», приходилось Мите с Мариной то лезть под сточную трубу, то копать посреди свинарника. Сам Трифонов не поехал — последнее время был поглощён своим кооперативом, на факультете появлялся редко. К тому же, куда-то пропали карты, и отыскивать эти самые контрольные точки, представлявшие собой то камень, помеченный краской, то вбитую в землю трубу, приходилось по памяти. К полудню одежда пахла пробами, из рюкзака капала тина. Они возвращались домой в электричке, полной рыбаков с такими же вонючими рюкзаками. Дома за роскошным, по-кавказски чрезмерным столом, они застали всех её родственников, включая дядьку Степана, которого Марина не переваривала.
— Ооо! Привет хозяевам! А мы тут за ваше здоровьечко.
Обзвонила всех. Оказалось, ещё на свадьбе переписала номера телефонов. Не уследил. Светлана Ивановна не пропустила никого. Маринины мама и папа, удивлённые происходящим больше всех, играли в уголке с внуком. Они виделись с родичами на свадьбе дочки и не рассчитывали увидеть их раньше, чем кто-нибудь женится, родится или умрёт. Ванечка капризничал, отказывался от кубиков и рвался за стол.
Застолье оказалось затяжным. Маринины родители ушли первыми, чем смертельно обидели Светлану Ивановну. Светлана Ивановна исполняла тост за тостом, народ не слушал, переспрашивал по десять раз, какое блюдо как называется, и просил горчицы вместо ткемали. Выходили курить в коридор, густо усеяли окурками пол, зазывали студенток «заглянуть на огонёк». Две первокурсницы и впрямь осчастливили их своей компанией. Долго от всего отказывались, кидали трезвые ироничные взгляды на окружающих. Доели, что оставалось, допили вино и ушли. С ними ушли и Витя с Владом, двоюродные братья Марины. Последним ушёл дядька Степан, пять раз подряд выпивший за дружбу народов.
— Я думала, праздник, — шёпотом, чтобы не разбудить Ваню, оправдывалась Светлана Ивановна. — Думала праздник вам сделать. Марину уважить. Её же родня!
Марина лежала лицом к стене.
— Но ведь чужое это! — так же шёпотом кричал Митя. — Другой народ живёт так в другой стране, понимаешь! Другой народ. В другой стране. Чужое всё это!
— Это моё, Митя, — отвечала она. — А с каких пор оно тебе стало чужим? Не знаю…
Но отгородиться, заявить о полной независимости Митя не мог. Он ведь и сам был человек оттуда. Он не смог бы жить независимо. Отгороженно. Ему не меньше, чем матери был непонятен здешний вариант, когда семья — муж, жена и дети, а все остальные — по ту сторону. И нет рядом двоюродных и троюродных, нет уютной суеты, шума голосов, подтверждающих ежеминутно: ты не одинок. Нет тыла, нет флангов. Есть союзники, но как можно быть уверенным в людях, которых видишь так редко… Ты один на один с миром. Случись что — побежишь с сумасшедшими глазами искать помощи. Просить помощи. Никто ведь не обязан помогать. Да, Митя тоже чувствовал себя неуверенно в таком мире, но в отличие от матери не собирался его переделывать.
Митя начинал волноваться. Через два часа была назначена встреча с Сергеем Фёдоровичем. Он понимал, что мама примчалась оттого, что волнуется ещё больше, просто не смогла усидеть на месте. Но лучше бы ему сейчас не смотреть, как она курит одну за одной, отвернувшись к окну.
— Мить, ты не собираешься жениться?
Он пошёл гладить брюки.
Светлана Ивановна вымыла оставшуюся после ужина посуду и ушла. Сразу следом за ней вышел и Митя.
В окне автобуса плывущие мимо дома смешивались с его отражением, взгляд то подплывал вплотную, живо смотрел из пустоты, то гас под серыми прямоугольниками улицы, и снова шли друг за другом то кирпичные тяжёлые стены, то лёгкие блестящие витрины.
Итак, Митя решился. Чего уж ломаться! После того, как твой паспорт швыряет через стол вчерашняя двоечница в пронзительном макияже, можно идти на поклон к любому Сергей-Фёдорычу. В «Интурист» к Олегу Митя решил не ходить.
Тогда на улице, после короткого разговора, всё виделось иначе. Если бы сразу, по горячему. Но прошло время, он остыл, уполз в свою норку. Выбираться на свет божий, вспоминать язык, интонации общения с бывшими однокурсниками… а вдруг Олега потянет поговорить о прошлом? Митя выбрал Сергей-Фёдорыча. Пять минут унижения, и никаких бесед о прошлом. И потом, пришлось бы отвечать на неизбежный вопрос, как сам он устроился в этой жизни. «— Охранником», — он постарался бы, как обычно, придать голосу мускулистой солидности. Будто это мечта любого мужчины, после тридцати работать охранником.
В девяносто третьем, на церемонии вручения дипломов, Трифонов, куратор группы экологии и прикладной геохимии говорил, разбрасывая руки от края до края трибуны: «Ваши дипломы — ваш счёт в швейцарском банке», — но в каком именно, не сказал. Митя оставался в аспирантуре, ему предстояло поработать в НИИ Физики и органической химии, в проекте, получившем некий западный грант, защитить докторскую, и, видимо, сразу после этого обналичить свой швейцарский счёт. Этими радужными планами он делился с Мариной. Марина ерошила ему волосы и называла мистером Нобелем. А Ваня смеялся в своей кроватке и, повторяя за мамой, ерошил свои соломенные вихры.
Но работа над проектом, получившим западный грант, оказалась несколько не тем, на что настраивался Митя. На пустыре возле НИИ ФОХ располагалось лежбище бомжей. Все бомжи города ночевали здесь. Под стенами института, совсем близко к поверхности, проходили трубы теплопровода, и бомжи располагались тесными рядами на старых матрасах и одеялах, уложенных на чёрную полосу сухой дымящейся земли. Говорили, что милиция заключила с бомжами негласное соглашение: им разрешено ночевать только здесь, в других местах их отлавливают и жестоко наказывают. Каждое утро Митя пробирался через зловонную колонию, вдоль грядок землистых людей и приходил в нетопленную комнату, в которой стоял спектрометр и школьные парты, заваленные сохнущими пробами и бумагами. Под партами катались пустые бутылки. Руководитель проекта, когда появлялся в институте, ходил в солдатском бушлате и валенках. Спектрометром заведовала лаборант Надя, тридцати шести лет от роду, бездетная и незамужняя. Каждое утро она обжигала Митю перегаром и половой паникой в мутных вопиющих зрачках. Митя пугался этого сигнала неодушевлённой доступности, исходившего от Нади. Она была как вещь на полке, которую можно взять, не глядя протянув к ней руку. Потом перестали платить то, что называлось стипендией. Потом сломался спектрометр. Потом Надю изнасиловали бомжи. Руководитель проекта в институте почти не появлялся.
Мама к тому времени от них съехала. Их отделившаяся семья дрейфовала от понедельника к воскресенью, от стипендии к стипендии. Дни, придавленные нищетой, были бессмысленно похожи друг на друга, и лишь один-единственный день вцепился в память намертво, как клещ.
…Дверь открылась и вошла Марина — в первый миг неузнанная, пугающая глаз: Марина была блондинкой.
— Ура! — крикнул Ваня, бросаясь к изменившейся матери и оглядывая её с ног до головы, словно с цветом волос в ней должно было измениться и всё остальное.
Но Митя сказал:
— Я не дочитал!
И Ваня понурый вернулся на диван. Митя читал сыну «Сказку о царе Салтане».
Марина вернулась рано. Обычно она проводила на рынке целый день до обеда. Никто не покупал её вязаный костюм. Митя предлагал ей не мучаться и носить уже самой. Но сегодня она вернулась с пустыми руками. Костюм купили. Марина разулась, босиком прошла через комнату. Её босая походка интимна, она ступает очень чувственно. Ласково как-то ступает. Трогает ступнями пол. Никогда не скажешь, глядя на неё, втыкающую строго по линейке каблуки в асфальт, что она может вот так. Но она состоит из неожиданностей.
В коридоре закурили. Так уж она расположена, общага номер два, что все запахи покидают её через крайнюю угловую комнату. От такой беззащитности перед запахами и звуками начинает казаться, что живёшь без стен, в клетке на жёрдочке.
Митя читал и чувствовал, что Ваня не слушает, но продолжал читать. Надеялся привлечь его внимание, читал громче. Потому что это очень важно. Потому что сначала Пушкин, потом всё остальное. Так он говорил. И чем больше колючих взрослых вопросов задавал Ваня, тем чаще он читал ему Пушкина. Он читал и сбивался. Марина стояла у окна, скрестив руки, и смотрела на него. Смотрела прямо на него. Наверное, так смотрят после многолетней разлуки или на фотографии в кабинете следователя, умудряясь смотреть издалека, когда стоят в нескольких метрах. На столе — он заметил не сразу — лежала пачка денег. Митя лишь чуть-чуть отрывал глаза от книги — но дальше пришлось бы встретить её взгляд, и ему становилось не по себе. Сбивался, возвращался назад, упрямо читал строку за строкой.
Сняв часы, Марина аккуратно, чтобы не стукнуть, положила их на стол. Но звук всё равно получился очень веский и жёсткий. Полтора месяца все выходные она провела на рынке. Задерживали стипендию. Зарплаты по лабораториям выплатили только наполовину. Брать у свекрови Марина отказывалась категорически. Но когда нечем стало кормить Ваню, Светлана Ивановна стала привозить им продукты. То, что могла купить. Львиная доля заработанного шваброй уходила на оплату флигеля, который она снимала. Чтобы принести им кусок мяса, она должна была неделю сидеть на ненавистной овсянке. Марина брала продукты, опустив глаза:
— Спасибо, Светлана Ивановна, обязательно вернём, — она записывала стоимость каждого продукта в столбик на специальном листке.
К тому времени они практически не общались, и Светлана Ивановна встречала слова невестки трагическим молчанием.
Митя ненавидел эту обрушившуюся на них новую жизнь, в которой нужно было столь пристально думать о деньгах. То есть не вообще, а непрерывно, как думают о неизлечимой болезни. Деньги были везде. Облака принимали окраску денег, в их изгибах легко угадывались рублёвые и долларовые узоры. Деньги. Бабки. Лаве. Капуста. Капусту снимали, рубили капусту. Деньги проступали сквозь асфальт, но нет — их нельзя было взять. Только смотреть. Как на камни подо льдом. Другие это умели — взять. Умел Валера с третьего этажа. Бывший Валерий Петрович. Его давно должны выгнать, он второй год не появляется на кафедре. Как-то улаживает с директором студгородка. Возит шмотки и ковры. Сам про себя он говорит: «Да, я спекулянт, я корсар, я готов пойти на всё, чтобы выбиться в люди».
До этого Митя видел спекулянтку только раз, в Тбилиси. Ему было лет пятнадцать, наверное. Мама взяла его с собой. Нужно было купить подарок её сотруднице, у которой родился ребёнок. Дом был на площади Ленина. Они вошли в арку возле универсама. Спешили. Нужно было успеть до часу. Впускали каждые полчаса. Из арки они прошли в какую-то дверцу, в тёмный предбанник, где в тишине стояли молчаливые люди, старавшиеся дышать тихо и не шуршать одеждой. Ровно в час в дверь шумно, так, что её бойкий разговор с кем-то, остающимся наружи, был слышен ещё издалека, вошла молодая грузинка в халате. Замолчав, она улыбнулась сама себе, и улыбка так и осталась на её лице. В её позе с изломом бедра под блестящим шёлком, в жестах рук, будто любующихся собой, чувствовалось, насколько она превосходит каждого, пришедшего сюда. Она открыла ещё одну, железную, дверь в глубокой нише, и вошла туда. Следом за ней гуськом потянулись ожидавшие. За железной дверью оказался склад. На полках лежал товар. Люди подходили, предварительно выцелив что-нибудь издалека, осторожно брали вещь. «— Сколько?». Она присматривалась к тому, что ей показывали, поднимала глаза, считала вполголоса, с каким-то весёлым бесстыдством в открытую складывая и умножая цифры, и называла цену.
Поэтому, когда Валера, бывший Валерий Петрович, говорил про себя: «спекулянт», — Митя морщился. Пушкин и спекулянты, казалось Мите, стояли по разные стороны барьера. В конце концов, разве Дантес — не собрат нынешним спекулянтам, разве не готов он был на всё, чтобы выбиться в люди?
Но всё же Митя попробовал. Он купил мешок какао в обычном магазине на Сельмаше. В магазине какао почему-то стоило дешевле, чем на рынке. Он расфасовал его в пакетики на весах для взвешивания проб и повёз на рынок. На рынке таких, как он, волнующихся и прячущих глаза, оказалось много. Прямо возле входа они выстроились в коридор, выложив кто на газетку, кто на коробку то, что принесли продавать. Продавали разное. От домашних тортов до поношенных туфлей. Время от времени приходили менты, разгоняли. Учились быстро: просто подхватывали свой товар и растворялись в рыночной толпе. Менты уходили, и коридор торгующих выстраивался на прежнем месте. Потом приходили босяки, пинавшие товар и требовавшие уплатить за торговую точку. Но торговля у Мити шла бойко. Прячась и от ментов и от босяков, он умудрился продать почти весь мешок за каких-нибудь три часа. Он дышал как победивший гладиатор и уже собирался домой, когда вынырнувший из толпы наряд подхватил его под руки: «Пройдёмте». Быстренько пробежавшись по карманам, они оставили ему ровно на автобус — особенное ментовское благородство.
…Марина смотрела на него. Ему тоже хотелось посмотреть на неё, рассмотреть новые светлые волосы. Но он читал «Сказку о царе Салтане», читал и постоянно сбивался. На столе лежала пачка денег.
ПВС, которой заведовал Сергей Фёдорович, находилась в центре. Помещение выгодно отличалось от ПВС Ворошиловского района. Это было настоящее административное здание, с каменным полом и высокими потолками. Митя ещё раз заметил: какая непобедимая магия растворилась в слове «центр». Советская каббала. Особая геометрия жизни: любое пространство состоит из центра и прилегающего не-центра, кисленького и серенького, нужного только для того, чтобы существовал центр.
Холл был заполнен хмурыми людьми. Интересно, подумал Митя, сколько среди них не-граждан? К начальнику стояла длиннющая очередь. Хорошо знакомая — усталая, злая, напуганная, изнывающая от многочасовых стояний и безысходности очередь. Сказано было явиться в три и зайти — и поэтому нужно было делать то, что сам делал крайне редко, и ненавидел, когда это делали другие. Напялив бульдожью физиономию, постоял возле двери кабинета, и дождавшись, когда дверь отворилась, раздвинул всех плечом и вошёл.
— Я от Валентины Николаевны, она Вам звонила.
Сергей Фёдорович, невзирая на возраст, оказался бесповоротно лыс. Лысина отбросила линию волос на затылок, как остатки сломленной армии — за последний бастион. К тому же он был хмур. Ещё более хмур, чем люди в холле. Ну да, рассудил Митя, у лысого любая эмоция умножена. Улыбается — улыбается вместе с лысиной. Хмурится — до самого затылка.
— Паспорт давай, — буркнул Сергей Фёдорович, глядя ему в ноги.
Митя отдал ему паспорт. Сергей Фёдорович шевельнул лежащей на столе рукой: садись. Митя сел на предложенный стул, а он принялся крутить диск телефона.
— Николай Петрович, — сказал он в трубку неожиданно игриво. — Сергей Фёдорович беспокоит. А как уж я рад тебя слышать, бодрым и весёлым… Ну да, в последний раз в больничной палате… Так вот… Ну, мы-то трудимся, трудимся не покладая рук. Работы — непочатый край… Ну да, ну да… Ну, домик с бассейном не строим, знаешь ли. Когда пригласишь-то? Что? А когда готов будет? Смотри, я застолбил, меня в первой партии… Смотри, ловлю на слове… Слушай, такое дело. Есть тут человечек один, — он заглянул в Митин паспорт. — Вакула Дмитрий Николаевич… Да вроде наш человек, — тут он впервые поднял глаза на Митю, будто бы проверяя. — Проблемка тут у него с гражданством вышла… Да. Так что, пусть подходит? Ага. Ну давай, давай, поделись, что ли, секретами, — дальше Митя не прислушивался.
Приближалась кульминация пытки. Митя понимал: отблагодарить его нужно потом, когда всё будет улажено. Но сомневался.